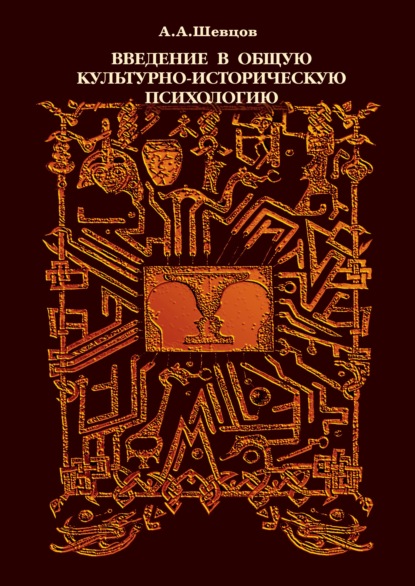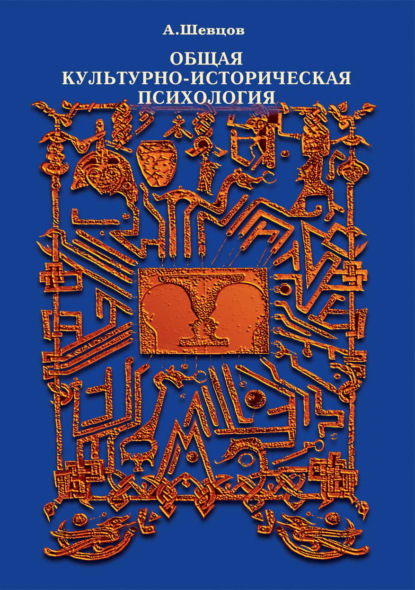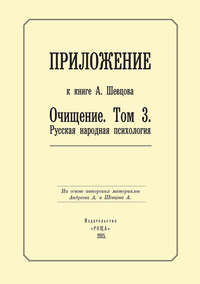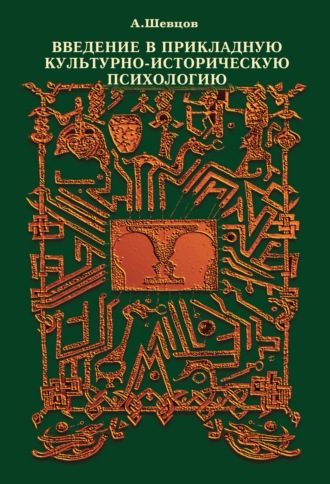 полная версия
полная версияВведение в прикладную культурно-историческую психологию
Чтобы его понять, стоит вспомнить как раз тот самый спор с Локком, который поминает Кавелин, говоря, что эти мыслители шли к одному и тому же с разных концов. В действительности, Локк спорил с Декартом, отрицая и одновременно проживая его мысли. И в первую очередь, пытаясь нащупать, соответствует ли истине утверждение Декарта, что в душе существуют врожденные идеи.
Искал, искал, не нашел и возмутился настолько, что из этого возмущения родилось величайшее философское произведение. И суть его в том, что наши души, как говорил Аристотель, – чистые доски, а все, что мы имеем как идеи, – лишь следы столкновений с действительностью, впечатления, добытые опытом.
Кант пережил точно такое же, но обратное возмущение: он явно не уважает Лейбница и уважает Локка, но он возмущен, потому что не смог объяснить самого себя, приняв, что все, что есть он – лишь плоды опыта. Он явно ощущает, что нечто в наших душах должно быть доопытным, и потому пишет две науки: одну о том, что не может иметь отношения к опыту, а другую о том, как это соотносится с жизнью. Одну он называет чистым разумом, другую – разумом практическим.
В сущности, если упрощать, то чистый разум Канта оказывается нашей способностью созерцать содержания сознания и выводить понятия, опираясь лишь на то, что есть в сознании. А практический разум – это предмет этики. То есть наше нравственное поведение. Поэтому было бы верно говорить об Этике Кавелина на примере «Критики практического разума», но понятия рождаются там, где царит чистый разум. Поэтому начну с него.
В «Антиномиях чистого разума», ведя разговор о причинности, он пишет:
«В высшей степени примечательно, что практическое понятие свободы основывается на этой трансцендентальной идее свободы, которая и составляет настоящий источник затруднений в вопросе о возможности свободы. Свобода в практическом смысле есть независимость воли от принуждения импульсами чувственности. В самом деле, воля чувственна, поскольку она подвергается воздействию патологически (мотивами чувственности); она называется животной (arbitrium brutum), когда необходимо принуждается патологически» (Кант, Критика чистого разума, с.328).
Конечно, Кант не писал ни о каких импульсах. Я уже приводил словарь из Вундтовских очерков психологии, где наш бойкий переводчик перевел на русский немецкое слово Trieb таким родным простонаучным словечком «импульс». Подозреваю, что и здесь с Кантом поступили сходно. Позывы или побуждения чувственности – вот что такое эти самые мотивы чувственности. А еще проще – телесные позывы, но это придется объяснять, поэтому пока лишь к слову.
А дальше отголосок спора с Локком:
«Следовательно, здесь мы находим то, что вообще происходит в противоречиях разума, который отваживается выйти за пределы возможного опыта, а именно проблему, собственно, не физиологическую, а трансцендентальную.
Поэтому вопрос о возможности свободы затрагивает, правда, психологию, но решением его, поскольку он основывается на диалектических аргументах одного лишь чистого разума, должна заниматься исключительно трансцендентальная философия» (Там же, с. 328–329).
Вот этому совету и последовали психологи, – они просто оставили этот вопрос философам, вместе с пониманием того, что есть мотив или побуждение к действию. В каком-то смысле они очень правы. Действительно, прикладному психологу вовсе не обязательно знать, что думают о побуждениях, которыми определяется поведение человека, философы. И даже вопрос о том, свободна ли воля человека, то есть может ли он сам принимать какие-то решения, или все решено и он – либо игрушка в руках богов, либо игрушка в руках внешних раздражителей, – вроде бы не слишком существенен.
Но если вспомнить то, что говорил о природе мотивов Леонтьев, то надо признать: наша психология исходила из того, что человек не волен – им правят внешние предметы, которые и становятся «мотивами» его деятельности. Почему? Да потому, что так сказал, к примеру, Локк!
А как быть прикладнику? Исходить из того, что это верно, и успокаивать своих пациентов: мол, расслабьтесь, сделать с этим ничего нельзя, так хоть получите свое удовольствие?! Что, кстати, и делала под релаксационную музычку вся советская психотерапия, которая была примером крайней недееспособности психологов.
Или же он может посчитать, что человек – сам творец своей судьбы, что у него есть свободная воля на уровне самых глубинных источников решений и действий, и что он может поменять в своей жизни всё! Прикладник может исходить только из этой установки, иначе вся его работа теряет смысл. И как ни удивительно, эта крайняя убежденность в своей дееспособности, в дееспособности человека, рождается из крайнего идеализма Канта, который должен был бы быть примером потусторонности и неотмирности…
Далее Кант обосновывает возможность свободной причинности и дает понятие «мотива», то есть побуждения к действию в совершенно неподходящем для прикладника месте – в главе о космологической идее свободы. Умные психологи знают: в таких местах рыбы нет! И не ищут. Однако не погнушаемся кусочком хорошего, хоть и непростого, философского рассуждения…
«Закон природы гласит, что все происходящее имеет причину, что каузальность этой причины, то есть действие, предшествуя во времени и в отношении возникшего во времени результата, сама не могла существовать всегда, а должна быть произошедшим событием, и потому она также имеет свою причину среди явлений, которой она определяется, и, следовательно, все события эмпирически определены в некотором естественном порядке; этот закон, лишь благодаря которому явления составляют некую природу и делаются предметами опыта, есть рассудочный закон, ни под каким видом не допускающий отклонений или исключений…» (Там же, с.332).
Что значит рассудочный закон? Это не что-то от ума, и даже не нечто, что мы увидели, созерцая природу. Это то, как ощущает мой рассудок, точнее, как ощущаю я, когда пытаюсь думать о причинности. Я, быть может, и не прав, но мое сознание знает: у того, что произошло, должна быть причина! И баста!
Откуда во мне взялась такая убежденность? Возможно, из опыта, из бесконечного повторения наблюдений над тем, как происходят события в действительности. Просто произошло накопление наблюдений и перешло в качественный скачок, родивший не осознанное мною понятие о причине. И теперь, поскольку я не осознаю это понятие, но владею им, мне кажется, что это закон природы.
Но возможно и другое, дополнительно к этому: я могу осознавать самого себя, свое сознание, состояние своей души как некую среду, которая не предполагает своего существования без причины, без чего-то, что вызывает в ней движения. Я просто знаю по собственному опыту, что не смогу начать ни одного движения сознания, если не будет какой-то причины, потому что сознание стремится к покою. И это тоже из опыта, но из опыта наблюдений над тем, что предшествует самому опыту.
Конечно, я не сразу понимаю, что устроен так, что мне нужно нечто, что явится толчком для действий, конечно, я прихожу к этому осознанию через опыт самосозерцания, причем в быту, во множестве самых обычных дел. Но опыт тут – не более чем прибор, нечто добавленное ко мне. Само такое устройство моей природы существует до него, оно приходит со мной, как данность, и можно сказать, как впечатанная в природу души идея. Одна из тех самых врожденных идей, о которых говорил Декарт и с существованием которых спорил Локк.
Кант движется от чистого разума в сторону практического, то есть к объяснению нашего поведения и нравственности. И суть его рассуждения сводится к вопросу, который задавали некоторые из хороших психологов: можем ли мы надеяться, что психология станет точной наукой, а прикладник сумеет решать психологические задачи с не меньшей уверенностью, чем математические или физические. Вот что обосновывает Кант через понятие воли и закон причинности.
«Следовательно, все действия естественных причин во временной последовательности сами в свою очередь суть результаты, которые точно так же предполагают причины во временном ряду. От причинной связи явлений нельзя ожидать первоначального действия, благодаря которому происходит нечто такое, чего не было бы раньше» (Там же, с.333).
Это скрытый спор с Лейбницем, Спинозой и Декартом. Точнее даже, Кант тут принял участие в споре Лейбница со Спинозой по поводу Декарта. Декарт, с одной стороны, заявил, что конечной точкой всех рассуждений окажется Бог, а с другой – сам же объявил в своей психологии, что душа способна управлять телом, как наездник лошадью. То есть быть причиной его поведения. На это Лейбниц ответил с возмущением. И для него и для Спинозы было бесспорно, что зависимость души и тела близка к математической, а значит, должна быть такой же жесткой по логике построений.
Декарт оказался непоследователен и предал математичность своих собственных исходных построений, на которые и купились великие семнадцатого века. Декарт сумел отменить самого себя просто потому, что в жизни не так, как он написал. Они же, всячески споря с ним, остались верны букве рассудочного построения, почему их век и был назван веком рацио.
В сущности, Кант здесь заявляет:
«…и в этом ряду невозможно никакое начало, которое произошло бы само собой» (Там же).
Этим сказано, что человек может быть познаваем и предсказуем до последнего своего действия. Иначе говоря, прикладная психология возможна, и она – точная наука. Но при этом, как кажется, здесь говорится, что человек должен быть подчинен каким-то внешним причинам, а значит, не может быть творцом собственных поступков. Это было бы так, если бы не одно но:
«Человек есть одно из явлений чувственно воспринимаемого мира и постольку также одна из естественных причин, каузальность которой необходимо подчинена эмпирическим законам» (Там же, с.334).
Да, человек подчинен законам действительности, но при этом он сам – одна из причин. Он – творец причин! Но это между делом, главное для Канта – свободны ли мы от тех причин, которые порождаем в себе, и от той причинности, что подсовывается нам миром. Свободен ли человек, чтобы менять себя и свою судьбу, – не правда ли, вопрос для прикладного психолога?!
Поэтому я позволю себе еще несколько выдержек из его рассуждений, относящихся к нашему самопознанию.
«Но человек, познающий всю остальную природу единственно лишь посредством чувств, познает себя также посредством одной только апперцепции (то есть восприятия высшим чувством, внутренним оком – АШ), и притом в действиях и внутренних определениях, которые он вовсе не может причислить к впечатлениям чувств; с одной стороны, он для себя есть, конечно, феномен (то есть явление – АШ), но, с другой стороны, а именно в отношении некоторых способностей, он для себя чисто умопостигаемый предмет, так как деятельность его вовсе нельзя причислить к восприимчивости чувственности.
Мы называем эти способности рассудком и разумом; главным образом последний совершенно особо и существенно отличается от всех эмпирически обусловленных способностей, так как рассматривает свои предметы только исходя из идей и по ним определяет рассудок, который затем дает эмпирическое применение своим (правда, также чистым) понятиям» (Там же, с. 334–335).
Нашим поведением на деле правит рассудок, предлагая понятия, по которым мы и действуем. Понятия же эти выводятся разумом из того, что он считает идеями, а в действительности, из попытки достичь идеала, то есть из присущего разуму стремления выстраивать все свои образы относительно идеальных образцов. Сначала понять, как бы это было идеально, а потом приспособиться к действительности, исходя из того, что возможно и доступно, – вот как работает разум.
При переходе от идеального образа к тому, что возможно в действительности, однозначная причинность чистого разума уступает место долженствованию разума практического. Говоря на другом языке, яблоко не должно падать на землю, оно просто падает, потому что так есть. А вот человек должен вести себя нравственно просто потому, что так чувствует. Кант называет это нравственным императивом.
И это очень плохо понятое место у Канта, потому что расхожее мнение считает, что Кант предполагал наличие где-то в идеальных пространствах существования какого-то Нравственного императива, который повелевает поведением людей. Повелевает, как некая внешняя по отношению к нам сила.
В действительности все гораздо проще. Любой из нас ведет себя нравственно, даже когда нарушает нравственность. Попросту, совершая любой поступок, мы осознаем, хорошо или плохо себя ведем. Осознаем непроизвольно. При этом мы совершенно свободны в том, чтобы нарушить требования нравственности, то есть тот тонкий голосок, который пищит, что это плохо, несправедливо, бессовестно. Мы запросто можем его заглушить. Но мы не можем его не слышать.
Он вовсе не космический, не от бога, и не из идеального пространства. Он – из нашего опыта. Мы с детства как-то воспитывались, мы с детства приучались либо не совершать плохих поступков, либо совершать их. И что бы мы ни делали, мы всегда знали, что общество нас оценит и похвалит либо осудит. И приучали себя либо слушаться гласа общества, либо не слушаться.
И вот мы нарушаем то, про что знаем, что это правило поведения, которое требует от нас общество, а голосок в душе предательски пищит: осторожней, это опасно. И даже самый прожженный подонок озирается, слыша этот голосок – значит, он вполне действенен. И кричит этот голосок одно: ты должен вести себя правильно! Ты не должен делать этого, потому что так ты нарушаешь закон! А мы отбрасываем его вместе с угрызениями совести.
Кого-то эти угрызения нагонят на смертном одре, кого-то никогда не нагонят, но они были в жизни каждого, и были они как знание о том, что дjлжно и что не дjлжно.
«Что этот разум имеет причинность, по крайней мере, мы можем себе представить его имеющим причинность, – это ясно из императивов, которые мы предписываем как правила действующим силам во всем практическом.
Долженствование служит выражением особого рода необходимости и связи с основаниями, нигде больше во всей природе не встречающейся. Рассудок может познать о природе только то, что в ней есть, было или будет.
Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует во всех этих временных отношениях; более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого смысла.
Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг; мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг» (Там же).
Из этого простого и красивого рассуждения, показывающего, что долженствование возможно лишь в мире людей, а точнее, душ или свободных духов, то есть в мире, где есть свобода, и рождается у Канта объяснение, как же при этом возможна причинность нашего поведения, а вместе с ней и его сложность. И определение «мотива», как распознал его переводчик.
«Этим долженствованием обозначается возможный поступок, мотивом для которого служит лишь понятие, между тем как основанием действия одной лишь природы необходимо служит всегда явление» (Там же).
Это важное место, поэтому поправлю и разберу его. Во-первых, не мотивом, а «побудительной пружиной», попросту побуждением к нему.
В естественной природе естествознания, то есть в мире физики, причиной для чего-то служит механическое воздействие одного явления или предмета на другое. Там невозможно самостоятельное начало. Природа невольна.
Человек, человеческий разум способен создавать причины для изменения поведения. Причины эти – его понятия. А для прикладника – образы, которые содержатся в нашем сознании.
«Конечно, необходимо, чтобы поступок, на который направлено долженствование, был возможен при естественных условиях, но эти условия имеют отношение не к определению самой воли, а только к действию и результатам ее в явлении.
Сколько бы ни было естественных мотивов (внешних причин или предметов – АШ), побуждающих меня к хотению, сколько бы ни было чувственных возбуждений, они не могут породить долженствование – они могут произвести лишь далеко не необходимое, а всегда обусловленное хотение, которому долженствование, провозглашаемое разумом, противопоставляет меру и цель» (Там же).
Вот и полноценный философский ответ Леонтьеву. Психолог, конечно, вправе избрать ту или иную сторону и принять любое определение используемого им понятия, но привести доводы в пользу своего выбора он обязан. Леонтьев хотел выглядеть многозначительно, но при этом не хотел изучать источники и немножко скрывал их, чтобы не заметили заимствований. Вот отсюда странности его изложения – он отводит глаза.
Но Кант ответил на его выбор: «мотив» не может быть снаружи. Он всегда внутри. Внешние предметы могут вызывать наши желания, но породят не более, чем хотение. Долженствование не родится, а без него не родится и побудитель к действию. Мы разумно оценим это желание и изберем то, что нам выгодней или более соответствует душе.
Но это если речь идет о Triebfeder, то есть о побудителях к действию. То есть не о мотивах, какими пользуется современная психология. Побуждения к действию, как их видел Кант, составили целый пласт философской и психологической культуры, определявшей нравственное поведение. И именно это понятие легло во основу Кавелинского понимания мотивов как побуждений к действию, исходящих не от внешних причин, а из души, из Я.
Когда рождается это понятие в немецком, я не знаю. Лейбниц его в своих работах не использует, поскольку пишет то на латыни, то на французском. Возможно, его разработал Гербарт или Христиан Вольф. Не знаю. Но Кант объяснил его происхождение в «Критике практического разума». Собственно говоря, с него начинается третья глава:
«Если под мотивом (elater animi) понимают субъективное основание определения воли существа, чей разум не необходимо сообразуется с объективным законом уже в силу его природы, то отсюда прежде всего следует, что божественной воле нельзя приписывать какие-либо мотивы, а мотивы человеческой воли (и каждого сотворенного разумного существа) никогда не могут быть ничем другим, кроме морального закона; стало быть, объективное основание определения, и только оно, всегда должно быть также и субъективно достаточным определяющим основанием поступка, если этот поступок должен соблюсти не только букву закона, но его дух».
В оригинале стоит Triebfeder, еще точнее: Wenn nun unter Triebfeder (elater animi)…Латинское elatio animi означает увлечение, порыв. Немецкое Trieb – это как раз порыв, побуждение. Feder – пружина. Так создавалось немецкое слово для того понятия, что мы переводим мотивом.
Но Кавелин использует не его и не создает русской замены. Он берет лишь стоящее за этим именем понятие, но использует слово «мотив». В классической латыни его нет. Значит, он мог взять его либо с французского, либо с английского. Пишутся они там по-разному, но звучат в русском произношении одинаково.
Современный читатель, читая Кавелина, ни за что не разглядит за его «мотивом» Кантовский Triebfeder, а вместе с ним пройдет и мимо той философской культуры, что стоит за этим словом, и мимо действительного понятия. А действительное понятие, скрывающееся за немецким Triebfeder, означает порыв или побуждение, мотив же, если вспомнить его латинскую основу, означал движение.
Побуждение и движение – очень, очень разные вещи и разные действия. По крайней мере, для человека, который хочет, чтобы психология была точной и действенной наукой. Сейчас, говоря о мотивации, мы имеем в виду именно то, что побуждает нас к определенным поступкам. При чем тут движение? Непонятно. Но можно ли сделать прикладную науку из непонятных оснований?
Поэтому я вынужден продолжать свой поиск. Но прежде чем отправиться в Англию и Францию, несколько слов о предшественнике Канта Лейбнице и той среде, в которой рождалось понятие Побудителя к действию.
Глава 4
Континентальные мотивы. Лейбниц
Кант любил Локка и не любил Лейбница. Это сквозит в его «Критике чистого разума».
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) великий путаник и к тому же писал преимущественно на французском. При этом он точно использовал слово motif.Вопрос только, какой смысл он в него вкладывал. Для понимания этого нужны две работы Лейбница – «Монадология» и «Теодицея».
Рассказ о нем стоило бы предварить рассказом о Барухе Спинозе, что я, кстати, и сделал вначале. Но у Спинозы невозможно найти чего-то действительно помогающего понять побуждения и мотивы нашего поведения. Он переумничал себя и всех своих современников, создав художественное произведение, вроде футуристической поэзии на тему философии Декарта, но не в рифмах, а в теоремах, то есть языком математики. Гениальное художественное произведение, прославившее автора, но бесполезное психологу. Поэтому знать Спинозу нужно лишь для знакомства с той средой, в которой творил Лейбниц, и не более, чем научные мотивы в философии…
Лейбниц, как и Спиноза, очень сильно болел Декартом и много спорил с ним. К примеру, он доказывал в противовес Декарту, что субстанция не может быть протяженной, издевался над его представлениями о том, как душа управляет телом через шишковидную железу с помощью каких-то очень простых «духов», которые бегают по нервам.
При этом сам он, создавая понятие Монады, в сущности, говорит о ней как о некоем духе, который развивается как душа от простейшего до человеческой способности самопознания.
Исходно, «монада…есть не что иное, как простая субстанция, которая входит в состав сложных; простая, значит, не имеющая частей» (Лейбниц, Монадология, 1, с.413). Однако при этом в п.14 звучит:
«И здесь картезианцы сделали большую ошибку, считая за ничто несознаваемые восприятия. Это же заставило их думать, будто одни лишь духи бывают монадами…» (Там же, с.415).
Все это отрицает Картовых духов шишковидной железы, но так их напоминает!..
Точно так же многое в Монадологии напоминает и Спинозу:
«18. Всем простым субстанциям, или сотворенным монадам, можно бы дать название энтелехий, ибо они имеют в себе известное совершенство и в них есть самодовление, которое делает их источником их внутренних действий и, так сказать, бестелесными автоматами….
49. Сотворенное называется действующим, поскольку оно имеет совершенства, и страдающим, поскольку оно имеет несовершенства. Таким образом, монаде приписывают действие, поскольку она имеет отчетливые восприятия, и страдание, поскольку она имеет смутные восприятия» (Там же).
Иначе говоря, действовать может только та душа, что имеет «адекватные идеи» по Спинозе или «идеи чистого разума» по Канту. К тому же душа не может оказывать влияния на тело – ведь сказано же Декартом, что они разной природы! Но как-то они при этом взаимодействуют. Как? По закону предустановленной Богом гармонии…
Иначе говоря, Бог изначально задал такие условия существования души и тела рядом друг с другом, что они постоянно совпадают в своих внутренних ощущениях и внешних проявлениях. Лейбниц пояснял это на примере пары механических часов, которые и не связаны друг с другом и не подправляются кем-то, а просто их механика такова, что они идут одинаково.
Именно этим примером предустановленной гармонии Лейбниц, как ему казалось, устранял вопрос о «психофизическом параллелизме», бывший основой психологии Декарта и вызывавший море споров среди метафизиков. Суть его проста: поскольку никто не сумел рассмотреть, как же душа передает воздействие или управление на тело, то это управление вообще не доказано. А раз так, значит, можно строить предположения о природе души вроде того, что она не многим отличается от математической точки или единицы. А значит, вообще не более чем логический знак для рассуждений философов…
Я шучу, но изрядное число метафизиков, вместо того чтобы наблюдать за душой, старательно доказывали ее существование или несуществование логически. Впрочем, схоласты так же мучительно доказывали или оправдывали Бога… Искушение формальной логикой, похоже, непреодолимо для человеческого рассудка на определенном этапе его становления.
Однако, как бы странно ни воспринималось учение Лейбница сегодня, он в своей нравственной психологии дошел до понятия мотива. И сделал он это в главной работе своей жизни, которая называлась «Опыт теодицея о благости Божией, свободе человека и начале зла». Опубликована она была в 1710 году и означала в переводе с греческого ни много, ни мало – богооправдание.
В сущности же, если исключить из нее заигрывания с Церковью, Властями и наукой в лице французского философа и публициста Пьера Бейля, «Теодицея» является трактатом о нравственности с философской точки зрения. То есть с точки зрения о свободе воли человека. Поэтому в ней вполне естественно возникает вопрос о том, как рождается человеческое поведение. Еще точнее, о том, может ли существовать самостоятельное человеческое поведение.