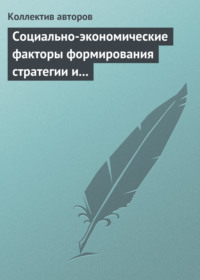Полная версия
Москва и Восточная Европа. Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. События. Факты. Оценки
Примеры международной защиты религиозных меньшинств в договорах между христианскими и нехристианскими странами дают русско-турецкие договоры, начиная с 70-х годов XVIII в., по которым объектом защиты становилась православная церковь в Османской империи.
Если определение религиозной принадлежности не составляло затруднений до момента отделения церкви от государства, то намного сложнее обстояло дело уже даже с дефиницией самого понятия нации, без чего просто невозможно было ставить вопрос об учете ее интересов в столь сложной области, как международные отношения.
Появление понятия «нация» в политической теории и практике связано со становлением идеи современного демократического государства, относящимся ко времени Великой французской революции. Ее теоретики утверждали, что всякая власть берет свое начало в нации (т. е. совокупности всех граждан государства) и только нация является источником и средоточием верховной государственной власти, что суверенна только нация, а не представитель государственной власти в лице короля или князя. Это положение было закреплено в ст. 3 «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г.
Из принципа суверенности нации теоретики выводили проблему национального самосознания, т. е. осознания своего отличия от других национальных сообществ. Если нация обладает таким самосознанием, то она должна обладать и волей к такому существованию и развитию, чтобы не только сохранять свои национальные особенности, но и обогащать в культурном и цивилизационном отношении все человечество.
Осуществить эти цели, полагали они, можно лишь в собственном государстве, которое, таким образом, становилось выражением воли суверенной и осознающей свои цели нации, желающей жить и развиваться. Следовательно, воля нации – это воля государства, а само государство идентифицируется с нацией. В итоге, государство становится всего лишь внешней формой существования нации, переведенным на язык права понятием нации. Государство – это нация. Какое государство, такая нация и наоборот: cuius regio, eius natio; cuius natio, eius regio.
Именно на этой основе стала формироваться идея национального государства, согласно которой всякое государство должно состоять только из одной нации, осознающей свою самобытность, преисполненной решимости сохранить индивидуальность и стремящейся к реализации собственных задач и целей. Только такое государство, единое в национальном отношении и свободное от центробежных стремлений, может гарантировать нации всю полноту ее развития. Поэтому в национальном государстве есть место только для одной нации, все другие народности должны исчезнуть, ассимилироваться и раствориться в господствующей нации, сумевшей создать собственное государство. Принцип, согласно которому все жители государства являются одной нацией, проявлялся в странах Западной Европы в том, что здесь не было различия между гражданством и национальностью, это были идентичные понятия.
Еще одним важным теоретическим обоснованием объективного характера существования национальных государств на Западе стали представления о сущности нации. Показательна в связи с этим позиция французских теоретиков (Л. Ле Фур, Э. Ренан и др.). Они исходили из того, что принадлежность к нации определяется субъективными, психологическими факторами: чувством исторической общности в прошлом; совместными интересами, объединяющими отдельных индивидов в настоящее время; отчетливо выражаемым этими индивидами желанием продолжать совместное существование для достижения определенных общих целей в будущем. Государство может исчезнуть, но народ с великим прошлым и верный своей путеводной идее – бессмертен. Языковая и этническая общность не играют определяющей роли при формировании нации, главное – общее, более или менее длительное совместное историческое прошлое, достаточное для появления определенных национальных традиций, составляющих характерную черту нации и являющихся в совокупности национальным самосознанием.
По-иному трактовали понятие нации немецкие теоретики. По их мнению, принадлежность к немецкой нации определяется не субъективными, а объективными критериями: общностью племенного происхождения и языка. Поэтому все те, кто ведет свою родословную от общегерманского корня, кто говорит на немецком или другом, относящемся к германской группе, языке, хочет он того или нет, должен принадлежать к великому немецкому государству (Vollkulturstaat), являющемуся высшим и совершеннейшим выражением немецкого духа.
Общим для обоих этих подходов к понятию нации было признание в первом случае желательности, а во втором – необходимости ассимиляции иноэтнических групп населения.
В Центральной Европе, где в XIX – начале ХХ в. господствовали многонациональные Австрия (Австро-Венгрия), Пруссия (Германия) и Россия, не сложилось условий для возникновения политических наций. Лидерам нетитульных наций ближе оказалось так называемое право национальностей, т. е. право на самоопределение по этническому принципу, а также модифицированное немецкое понимание нации, учитывающее общность литературного языка, а не принадлежность к определенной языковой семье. Национальная самоидентификация по принципу этнической принадлежности сводила на нет усилия элит господствующих (титульных) наций по унификации полиэтнических общностей на основе государственной принадлежности, а насильственная ассимиляция давала малые результаты. Конечно, были среди интеллигенции и политиков угнетенных наций сторонники французского понимания нации (малороссы – часть русской политической нации, русского «племени»; русины – часть польской политической нации; словаки – часть чехословацкой нации и т. д.), но их влияние в обществе постоянно уменьшалось в пользу оппонентов-националистов.
Выкристаллизовавшиеся к началу ХХ в. различия во взглядах на национальное государство и нацию делали весьма проблематичным приемлемое для заинтересованных сторон международно-правовое решение национального вопроса. Но главным препятствием было нежелание великих держав идти на нарушение существовавшего в Центральной Европе стратегического равновесия как основы общеевропейской стабильности. Дело в том, что наиболее острым национальный вопрос был в этот период в многонациональных европейских монархиях, связанных между собой договорами о разделе Речи Посполитой и переделом польских земель на Венском конгрессе. Неразрешимость ключевого для Центральной Европы польского национального вопроса без самых серьезных для мира на континенте последствий хорошо понимали политики. С. Д. Сазонов, министр иностранных дел России в 1910–1916 гг., так излагал видение этой проблемы Петербургом: «О восстановлении польской независимости до Великой войны, очевидно, не могло быть и речи. Такое радикальное разрешение польского вопроса <…> было невыполнимо, потому что послужило бы опасным прецедентом для Финляндии, имеющей первостепенное значение с точки зрения обороны столицы и всей северной России. Помимо этого, отказ России от Царства Польского привел бы нас весьма вероятно к войне с Германией, владевшей значительной частью коренного польского населения, в отношении которого она не допускала никакого компромисса»[4]. Экс-канцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег привел в мемуарах оценку Бисмарком возможных последствий войны с Россией, с которой он солидаризировался: война была бы большим несчастьем для Германии, которая ничего от нее не получила бы, даже компенсации собственных расходов, но зато была бы вынуждена восстановить Польшу до Двины и до Днепра[5].
Многие годы фрондировавшая перед Россией по польскому вопросу Франция после поражения от Пруссии в поисках союзника против Германии отказалась от будирования этой проблемы на международной арене. Великобритания, сталкивавшаяся с активным проникновением России в азиатские регионы, прилегающие к Индии, была заинтересована в сохранении общей российско-германской границы. Объединившаяся Италия была слишком слаба не только для постановки общеевропейских проблем, но даже для возвращения оставшихся у Австрии территорий с итальянским населением.
В этих условиях единственным регионом в Европе, где при создании новых государств теоретически мог быть применен национальный принцип, оставались турецкие Балканы. Здесь великие державы обладали значительной свободой действий в деле государственно-территориального переустройства. Содержание территориальных статей Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора 1878 г. внешне перекликалось с принципом права национальностей. Вновь создающемуся болгарскому государству должны были отойти все провинции, большинство населения которых, по господствовавшему тогда в Европе убеждению, составляли болгары. Но в действительности позиция России (которая не забывала о собственных стратегических приоритетах) базировалась на сложившемся к этому времени церковно-административном делении на Балканах. Территория Болгарского княжества определялась с учетом существовавших на тот момент границ болгарского экзархата, т. е. фактора, в конечном счете, религиозного, а не национального.
Под нажимом других держав Берлинский договор 1878 г. был заключен на основании традиционных принципов международных отношений: стратегического равновесия и соблюдения интересов держав и коалиций. Но он содержал одно не встречавшееся ранее постановление: в ст. 4 равные с болгарами политические права гарантировались не только мусульманскому, но и православному греческому и румынскому населению Болгарского княжества[6]. Такой подход можно рассматривать как прообраз международной защиты прав меньшинств по национальному признаку. При этом договор содержал также традиционные статьи о равенстве всех граждан Болгарии, Черногории и Сербии независимо от различий в верованиях и исповеданиях.
Вплоть до Великой войны международные отношения строились без учета национального принципа. Лондонский, Бухарестский и Константинопольский мирные договоры 1913 г. по-прежнему фиксировали право на международную защиту по конфессиональному признаку.
Начало мировой войны по существу ничего не изменило в подходе держав к вопросу о праве наций на самоопределение. В лучшем случае, как это было сделано в совместном меморандуме правительств Великобритании, Франции, России и Италии от 14 августа 1914 г., давались туманные обещания исправить европейскую карту на этнической основе, чтобы обеспечить прочный и долговременный мир на континенте[7]. Фактически же имелись в виду лишь территориальные приращения победителей за счет побежденных, без конкретизации их размеров и места. Д. Ллойд Джордж откровенно признавал, что в это время «никто не думал об освобождении угнетенных наций Европы и Турецкой империи от оков, наложенных на них иноземными властителями. Это была война в защиту слабых государств от дерзкого и агрессивного милитаризма, а не война за освобождение угнетенных народов»[8]. Сходным образом оценивал ситуацию и Э. Бенеш: «…Франция, Англия, Италия <…> Россия <…> три года <…> подходили к проблеме с точки зрения государства, а не нации, не представляли себе отчетливо, что означала война с Австро-Венгрией с национальной точки зрения. Поэтому они до последнего момента хотели сохранить габсбургскую монархию»[9]. Упоминания о национальных целях в обращениях монархов Италии, Болгарии и Румынии при вступлении этих стран в войну в 1915 г. были только прикрытием высокими патриотическими мотивами не всегда обоснованных, с этнической точки зрения, территориальных претензий.
Из всех воюющих государств только Сербия в Нишской декларации скупщины от 7 декабря 1914 г. заявила, что целью войны является «освобождение и объединение всех наших неосвобожденных братьев сербов, хорватов и словенцев». По мнению современных исследователей, эту декларацию следует трактовать не как воплощение югославянских тенденций, проявлявшихся в предвоенной политической жизни Сербии, а как средство давления на союзников Сербии в их переговорах с Болгарией и Италией об условиях вступления в войну, а также как военно-пропагандистский инструмент для разжигания межнациональных противоречий в Австро-Венгрии с целью ее ослабления[10].
Весьма знаменательно, что сербские деятели, в том числе Н. Пашич, называли славян дунайской империи «соплеменниками», т. е. склонялись к немецкому пониманию нации. Об этом говорит и выдвижение ими задачи объединения всех югославян в одном государстве.
Сдержанность руководителей государств в публичном формулировании территориальных целей войны частично компенсировалась заявлениями военных командований на восточноевропейском театре войны, заинтересованных в благожелательном отношении к их войскам нетитульного населения прифронтовых областей. В августе 1914 г. главнокомандующий русской армией Великий князь Николай Николаевич Романов обратился от имени Николая II с двумя воззваниями. В обращении ко всем народам Австро-Венгрии, напечатанном на девяти языках, говорилось: «Вам, народы Австро-Венгрии, <…> [Россия] <…> несет теперь свободу и осуществление Ваших народных вожделений <…>. Россия стремится только к одному, чтобы [каждый из] Вас мог развиваться и благоденствовать, храня драгоценное достояние отцов, язык и веру, и объединенный с родными братьями жить в мире и согласии с соседями, уважая их самобытность»[11].
А в воззвании к полякам выражалось пожелание, чтобы рухнули делящие польский народ границы и произошло его объединение под скипетром российского императора, а также содержалось обещание, что «под этим скипетром возродится Польша, свободная в сохранении своей веры, языка и самоуправления»[12]. Сходные обещания звучали в обращении русского командования к полякам, распространенном 9 сентября 1914 г. в занятом русскими войсками г. Черновцы: «По причине лояльного отношения русских поляков к нашей войне, его императорское величество распорядился сообщить всем полякам, что нынешняя война является освобождением всех славян, в том числе и поляков. Его императорское величество обещают, что если с Божьей помощью победно окончит войну, то все части бывшей Польши, находящиеся как под немецкой властью, так и австрийской и русской, объединит в одно автономное целое под властью Российского императора»[13]. Но все эти воззвания были подписаны главнокомандующим, а не царем. Аналогичным образом поступили австро-венгерский и германский императоры, от имени которых их военные пообещали в августе-сентябре 1914 г. полякам Царства Польского освобождение от русского господства.
Вопрос о праве наций на самоопределение уже задолго до войны привлекал внимание левых и либеральных сил Европы и Америки. Во время войны они заметно активизировали деятельность по созданию организаций и движений с целью выработать и заставить правительства внедрить в практику такие принципы и нормы международных отношений, которые навсегда бы исключили войну из арсенала политики. Т. Г. Масарик вспоминал, что его друг историк Р. У. Сетон-Уотсон в беседе с ним еще в октябре 1914 г. выразил удивление, он «делал акцент на государственно-правовую историческую программу; в Англии уже тогда ожидали от нас и от других в Австро-Венгрии большего акцента на национальную программу»[14]. В числе принципов, общих для всего этого широкого движения, было безоговорочное признание права наций на самоопределение и собственную государственность. Весьма показательны в этом отношении решения международной рабочей конференции в Циммервальде в сентябре 1915 г., «Декларация прав и обязанностей народов», принятая 6 января 1916 г. Американским институтом международного права, резолюция Конгресса национальностей, состоявшегося в июне 1916 г. в Лозанне и другие акты. Первое время правительства еще могли игнорировать эти настроения, но по мере затягивания войны и возрастания критических настроений в обществе делать это было все труднее.
Война приводит в действие самые разные силы и интересы. И если ее ход не совпадает с предварительными планами, а так бывает чаще всего, то события неизбежно движутся по траектории, не совпадающей с первоначальными расчетами политиков и военных. Первая мировая война, возникнув, в частности, из-за неразрешимых дипломатическим путем противоречий на Балканах, актуализировала ключевой для Центральной Европы польский вопрос, который никто из участников разделов Речи Посполитой не собирался поднимать. Как писал Бетман-Гольвег, «польский вопрос оставался без движения так долго, как долго взаимоотношения трех империй не изменились коренным образом. Только кончившаяся ничьей война могла сохранить прежнее положение вещей. Любое иное решение вело к реализации польских освободительных стремлений за счет того государства, которое проиграло войну. Не политическая спекуляция, а сам факт войны поставил польский вопрос <…> Теоретически, лучше всего было бы оставить эту проблему без решения на всем протяжении войны. Однако с того момента, когда война не была прервана в одной из начальных фаз, не позже первых месяцев 1915 г., не могло быть и речи о partie remise»[15] (об отсрочке. – Г.М.).
Аналогичным образом оценивал судьбу польского вопроса австро-венгерский министр иностранных дел граф Стефан Буриан: «С началом войны, когда столкнулись все европейские интересы, ни одна мысль не была посвящена Польше. Ведь ни одно из трех участвовавших в разделах государств не испытывало ни желания, ни необходимости затрагивать польский вопрос»[16].
«Вторжению» национального вопроса в область реальной международной политики, а затем и международного права способствовали многие обстоятельства: приобретение войной затяжного характера, возрастание роли в ней не только действующих армий, но и тыла, необходимость собственной консолидации и деморализации вражеских государств[17], желание правительств оправдаться за втягивание своих стран в самую жестокую и кровопролитную в истории бойню. Выход виделся в формулировании и активной пропаганде «идеальных», «высоких» мотивов продолжения вооруженного конфликта до победного конца. Как писал Ллойд Джордж, «ни в одной стране народ не желал нести страшные все возрастающие жертвы и тяжелое бремя только для того, чтобы расширить границы империи или покарать нарушителей мира»[18].
Активная, глобальная по масштабам пропаганда, обрушенная воюющими государствами на вражеские армии и гражданское население, а также нейтральные страны, и стала одной из отличительных особенностей Первой мировой войны. В ход пускались самые разнообразные аргументы, если только они обещали хоть немного ослабить врага.
В арсенал основных аргументов Антанты в пользу продолжения войны до полной победы постепенно вошло утверждение, что она ведется демократиями с грубым германским милитаризмом за обеспечение всем угнетенным нациям Европы права на самоопределение и независимое существование. Тем самым в пропагандистский оборот было включено положение, активно популяризировавшееся в предшествующие годы и десятилетия либералами, социалистами и пацифистами в качестве высокоморального и эффективного средства предупреждения международных конфликтов и войн.
Обдумывание и взвешивание государственными деятелями Антанты и Центральных держав возможных выгод и угроз, связанных с использованием в пропаганде положения о праве наций на самоопределение потребовало немалого времени. Если говорить об Антанте, то применению ею этого лозунга мешала прежде всего Россия, руководство которой не делало решительных шагов в польском вопросе. Министр Сазонов в 1914–1916 гг. не раз убеждал Николая II лично пообещать полякам объединить все их земли в составе Российской империи на правах широкой внутренней автономии и даже встречал у последнего определенное понимание[19]. Но публичных выступлений императора по этому вопросу до конца 1916 г. не было. А российский премьер И. Л. Горемыкин 1 августа 1915 г. в Государственной думе всего лишь подтвердил обещание, данное полякам в воззвании Николая Николаевича, указав при этом, что перемены будут произведены только после победы России в войне[20]. Да и для правительства Великобритании, имевшего дело с острейшей ирландской проблемой, увлечение лозунгом о праве наций на самоопределение представлялось опасным.
После оставления русскими войсками Царства Польского и постепенного угасания надежд на близкую победу международная атмосфера вокруг польского вопроса стала постепенно меняться в благоприятном для поляков направлении. Уже в январе-феврале 1916 г. британские политики в ходе переговоров с полковником Э. Хаузом, доверенным лицом президента США В. Вильсона, обговаривали вопрос о будущем государственном статусе Польши[21]. Но этот разговор не следует трактовать как свидетельство перелома в сознании англичан. Польский вопрос, так или иначе присутствовавший в европейской политике все время с момента разделов Речи Посполитой, трактовался ими не как составная часть общей проблемы судьбы угнетенных народов Европы, а как совершенно самостоятельный, изолированный, имеющий не столько политический, сколько моральный характер. Раздел Польши – это несправедливость в отношении государственного европейского народа, и ее следует исправить или смягчить, объединив всех поляков в границах России. А обращение к указанному вопросу Хауза могло объясняться заинтересованностью Вильсона в голосах американского электората польского происхождения на осенних президентских выборах в США.
Все имеющиеся в распоряжении исследователей факты свидетельствуют об отсутствии у Антанты еще в первой половине 1916 г. целостного понимания проблемы угнетенных европейских народов. Так, Н. Пашич, поднимая вопрос о судьбах южных славян Австро-Венгрии во время поездки по союзным столицам в марте-апреле 1916 г., использовал те же аргументы «об освобождении соплеменников», которые содержались в уже упоминавшейся Нишской декларации. А необходимость сохранения Македонии за Сербией он обосновывал общностью их истории, т. е. аргументом, вытекающим, скорее, из французского понимания нации[22]. Никаких ссылок на право наций на самоопределение в его высказываниях не было.
Как сугубо частный входил в мировую политику чешский вопрос. Именно к 1916 г. относятся первые успехи чешских эмигрантов в налаживании официальных контактов с государственными деятелями Франции и Англии. 3 февраля 1916 г. французский премьер Аристид Бриан принял Т. Г. Масарика и выслушал его мнение относительно будущего переустройства Европы, в том числе расчленения Австро-Венгрии. Самым важным итогом встречи было официальное сообщение о ней в прессе. Эта беседа получила благоприятный отклик и в Лондоне[23]. Но каких-либо практических шагов в решении чешского национального вопроса в то время французами предпринято не было.
О возрастании интереса англичан к вопросу о праве наций на самоопределение свидетельствует, на первый взгляд, подготовка осенью 1916 г. британским МИД меморандума о предполагаемом территориальном переустройстве Европы на основе «национального принципа»[24]. Но этот документ не был тогда рассмотрен кабинетом, и его можно трактовать, скорее, как один из вариантов возможного развития событий. И все же важен сам факт комплексной проработки идеи территориально-государственного переустройства Центральной и Юго-Восточной Европы с учетом национального принципа.
Руководители Центральных держав в 1916 г. продвинулись в использовании национального вопроса в интересах военного успеха дальше Антанты. Они также воспринимали его не комплексно, а как сумму отдельных, частных, проблем: польской, украинской, финской, литовской, латвийской, эстонской, ирландской, фламандской. Принципиальное значение в этом перечне Берлин и Вена придавали польской проблеме, имевшей для них не только международное, но и внутреннее звучание. По словам И. Буриана, необходимость заняться польским вопросом в политическом плане появилась примерно в середине 1915 г., а в августе того же года этой теме было уделено серьезное внимание в его переговорах с Т. Бетман-Гольвегом в Берлине. Вопрос о какой-либо независимости только что оккупированного армиями Центральных держав Царства Польского в беседе не возникал, поскольку Польша, по словам венского министра, «была плодом войны, распоряжение ею по праву завоевателя принадлежало обеим державам, которые должны были заботиться о будущей безопасности на востоке и о благе освобожденных территорий <…>. О том, чтобы сделать Царство Польское самостоятельным государством пока что не было речи из-за опасения, чтобы оно, еще недостаточно окрепшее, не стало объектом разнообразных влияний или же рассадником ирреденты, грозящей внутренней безопасности Австрии и Пруссии»[25]. Вместе с тем участники переговоров сочли, что русская Польша не может трактоваться просто как временно оккупированная территория и что ее судьбой они займутся еще в ходе войны. Особый статус бывшего Царства Польского проявился в том, что оно не осталось под управлением германского и австро-венгерского командований, а было разделено на две генеральные губернии, подчинявшиеся соответственно Берлину и Вене.
Кардинальные шаги Центральных держав в вопросе о будущем Царства Польского относятся к 1916 г., когда баланс сил в этом блоке окончательно изменился в пользу Германии. 5 апреля 1916 г. канцлер Бетман-Гольвег заявил в рейхстаге, что польский вопрос, который Центральные державы не хотели прежде ставить, «был открыт на полях сражений», и что «история не знает status quo после столь выдающихся событий». Это заявление было полной неожиданностью для Вены, не терявшей надежды, что Германия в конце концов согласится на присоединение Царства Польского к Австрии. В ходе берлинского визита Буриана 4–5 апреля 1916 г. Бетман-Гольвег сказал ему о том, что германская сторона считает нужным создать из Царства Польского буферное государство, опирающееся на рейх. 11 августа 1916 г. было достигнуто принципиальное соглашение о создании из Царства Польского самостоятельного польского государства, в экономическом, политическом и военном отношении полностью зависимого от Центральных держав[26]. Но провозглашение этого государства откладывалось на более поздний срок. По утверждению Буриана, Германию на столь смелый шаг в польском вопросе подтолкнули два обстоятельства: распространявшийся слух о том, что Россия собирается пообещать полякам объединение всех их земель и независимость, а также желание сформировать польскую армию, чего нельзя было сделать, пока Царство Польское не получило статуса государства[27]. Бетман-Гольвег назвал другие причины: развеивание надежд на сепаратный мир с Россией; нежелание отдавать все Царство Польское Австрии, в том числе и потому, что последняя могла бы попасть под польский контроль; понимание того, что нельзя восстановить довоенный status quo или произвести очередной раздел Польши, в связи с чем следует предоставить ему независимость, наладить теснейшее экономическое сотрудничество и таким образом сделать это государство безопасным в политическом и военном отношении соседом. На предоставлении Царству Польскому самостоятельности особенно настаивали немецкие военные, надеявшиеся на формирование здесь союзной им польской армии[28].