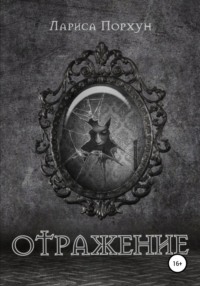Полная версия
В ритме ненависти
Сергей ушёл в свои мысли настолько, что не сразу услышал, как в кабинет зашёл Беликов. Вернувшись к своему столу и просматривая записи, Воронцов поднял голову:
– Юра, у тебя по делу этой школьницы Станичной проходил некто Григорий Монеев, студент, так? Он же был репетитором убитой девочки… Ты с ним беседовал? Как он тебе? Беликов пожал плечами:
– Да никак… Маленький, невзрачный, хромой и очень близорукий, – Беликов замолчал, как бы что-то вспоминая, – Он инвалид, по-моему, ну, во всяком случае, болезненный очень. Беликов внимательно посмотрел на Сергея:
– А зачем вам? Он, как свидетель проходил, у него алиби железное, я проверял… Воронцов рассеянно кивнул, думая о своём:
– Ясно… Дай-ка мне папку по этой Кире Станичной, Юра, кое-что проверить хочу, – продолжая размышлять и намеренно не замечая недовольного выражения лица своего коллеги, вставил Сергей.
Беликов, выдержав паузу, нахмурился:
– Для чего, Сергей Николаевич? Дело находится официально в моём ведомстве, и я не понимаю…
– Юра, – перебил его Воронцов, – Дело у нас одно – найти убийцу, и ради этого, полагаю, можно засунуть свои амбиции… куда подальше… Сейчас у меня, к сожалению, больше нет ни времени, ни желания, доводить до твоего, или чьего бы то ни было сведения, очевидные вещи. Например, то, что неспособность отдельных представителей следственного комитета увидеть связанные преступления, – это именно то, что позволит совершать их снова и снова. И уже не глядя на следователя-криминалиста Юрия Беликова, с каменным лицом и плотно сжатыми губами, опустившего ему папку на стол, он раскрыл оба дела и начал просматривать их с самого начала. Протоколы допросов, свидетельские показания, фото- и видеоматериалы, результаты бесчисленных экспертиз и их анализ… Глядя на фотографии двух, зверски убитых девушек, он задумался. Несмотря на разницу в возрасте и телосложении, у них много общего. Обе тёмно-русые, светлоглазые, с правильными чертами лица, белокожие. У обеих ярко выражена феминность, они откровенно сексуальны. Даже Кира, ещё по-девичьи тоненькая, тем не менее, была физически прекрасно развита и, несмотря на свой юный возраст, уже отнюдь не девственница. Причём не только внешнее сходство бросалось в глаза. Они, как сёстры были похожи своим лёгким, так сказать, скользящим отношением к жизни. Хотя одна прожила большую часть жизни за границей, вышла там замуж и уже успела развестись, а другая ещё не выпорхнула даже из родительского гнезда. У каждой из них огромное количество друзей, связей и контактов, большинство из которых – виртуальные. Обе имеют не слишком хорошую репутацию и предъявляют не самые высокие требования к морально-нравственному облику. Как к своему собственному, так и окружающих. Но, самое главное, опять вернулся к этой теме Воронцов, как такое возможно, чтобы ни одной ниточки, ни одного следа, ни одного мало-мальски внятного свидетеля. За его почти десятилетнюю практику он такого не помнил. Одно из двух, или преступник невероятно умён и предусмотрителен, или они идут по ложному следу.
Около семи вечера, осторожно, будто опасаясь нарушить ход его мыслей, скорбно звякнул и тут же смущённо замолчал телефон. Это пришло сообщение от жены, что она задержится сегодня, у них назначена встреча с торговыми представителями их фирмы. Сергей усмехнулся: без неё, понятно, их фирме никак на этом мероприятии не обойтись. Мысли его незаметно изменили направление. Женаты они с Мариной почти шестнадцать лет. Две дочери, старшей в этом году исполнилось пятнадцать, а младшая в четвёртом классе. Сергей всегда считал, что у него образцовая семья. С Маринкой всю жизнь с полуслова, с полувзгляда понимали друг друга. Никогда не слышал от неё ни обычного в их среде бабского нытья по поводу его работы, ни угроз, ни манипуляций, ни жалоб. Но в последнее время, они с женой заметно отдалились друг от друга. Воронцов поморщился от банальности и пошлой затёртости этой фразы. Но дело, увы, обстояло именно так. На самом деле, нужно было давно признать это, и начать уже что-то делать. Хотя внешне всё выглядело почти так же как обычно. Марина была мила и внимательна, а Сергей молчалив и предупредительно-сдержан. Но появилась между ними какая-то полоса отчуждения, какой-то холодок и напряжённый разлом, куда незаметно провалились их вечерние разговоры по душам, моментально возникающий, лёгкий, как майский ветерок, заливистый Маринкин смех, когда она, запрокидывая голову, махала руками в его сторону, давая понять, чтобы он, Сергей, немедленно перестал её смешить. Куда-то незаметно исчезли их общие друзья, у них сейчас у каждого свой круг общения. Он уже и не вспомнит, когда они принимали гостей или сами куда-нибудь ходили. Всё их общение сводится к обсуждению текущих вопросов, касающихся детей или семьи в целом. Когда это случилось? Сергей не знал точно. Но хорошо заметным стало после его двух подряд мужских фиаско в постели. А после этого появился страх. Противный, липкий, забирающий остатки сил. Никогда ещё по этой части проблем у него не возникало. И опыта такого не было. Сравнить ему было не с чем, и что следует делать в таких случаях, он тоже не знал. Поэтому всё оставалось, как есть. Марина после первого такого эпизода, принялась его успокаивать, пенять на работу, отсутствие отдыха и нервные перегрузки, но он, будучи не столько расстроенным, сколько обескураженным, совсем недолго её слушал, а потом и вовсе оборвал. Причём довольно резко. А во второй раз, он просто взял подушку и ушёл на диван в гостиную. Демонстративно и молча. Только что дверью не хлопнул. Как будто жена была виновата в чём-то. А может быть, он, таким образом, сам себя наказывал за что-то. Больше Марина попыток поговорить на эту тему не предпринимала. А он хотя и вернулся в спальню, ложился или гораздо раньше жены, изображая смертельно уставшего, или гораздо позже. Марина только неопределённо улыбалась, глядя куда-то поверх его головы, когда он, желая ей «Спокойной ночи», говорил о том, что ему необходимо кое над чем ещё поработать, или досмотреть фильм, или глянуть почту, или… Строго говоря, они и разговаривать-то почти перестали. А ещё через время, у его жены стали всё чаще случаться непредвиденные задержки на работе, или затянувшиеся встречи с партнёрами, или внезапно организованные посиделки с подругами (там только женщины, тебе будет неинтересно) и даже командировки. Может, конечно, он себя и накручивал, но от этого, как говорится, не легче. Резко зазвонил телефон:
– Воронцов?! Так и думал, что ещё застану… Это Терентьев с угро,… бери своих ребят и подъезжай на Маяковского. Адресок сейчас скину. У нас, Серёга, ещё один труп… Очень, знаешь, специфический… Всё, как ты любишь… Но на этот раз юноша бледный, со взором горящим…
9.
Незадолго до того, как из небытия воскресла, и вскоре туда же отправилась вновь, но теперь уже навсегда, Ангелина, у Мони появился друг. Моня этому обстоятельству почти не удивился. И принял эти изменения в своей жизни, спокойно и уверенно. Не то чтобы он заранее знал, что так будет, но, в принципе был к этому готов. В течение жизни, у Гриши Монеева было время выявить некую закономерность, которая заключалась в том, что у него никогда не было так, чтобы всё и сразу. И во всех сферах. И всего достаточно и даже с лихвой, только успевай поворачиваться. Чтобы успех и веселье, и лёгкость общения, и искрящаяся простота. Нет, так не было. В Мониной жизни всё чётко дозировано и строго по рецепту. Словом, не жизнь, а номенклатурный бланк. Ничего лишнего, ничего в избытке. А если что и получалось, то через боль или стыд, или каторжный труд и кровавые мозоли, наподобие тех, что часто оставляли на его ногах ортопедические ботинки. Да и те крохи, которые ему доставались, выматывали так, что сил радоваться или, тем более, стремиться к большему, уже не было. Или оно просто переставало казаться важным. Но и слишком уж очевидных пустот или зияющей бреши тоже не наблюдалось. Когда Ангелина ушла в первый раз, спустя время появилась Лерка. Стараясь избежать её чрезмерного натиска и утомлявшей его привязанности, он, время от времени отгораживался, защищая свою автономность, и, тем самым, освобождал, как выяснилось, место для новых действующих лиц в своей жизненной истории. Таковыми стали, например, в порядке живой очереди, Кира и Олег. Каждый обозначил своё присутствие. Каждый из них оставил на драматургическом полотне Мониной жизни, свой, отличный от других по значимости, длительности пребывания и глубине воздействия, след. Свои краски, свой запах, своё отношение и свою боль.
Олег, например, появился почти из ниоткуда. Просто материализовался и всё. А чем ещё можно объяснить, его неожиданное возникновение перед объективом Мониного фотоаппарата, где ещё секунду назад никого не было. Просто взял и нарисовался, широко улыбаясь при этом. А потом протянул руку и сказал: «Привет… Меня Олег зовут»…
У него была хорошая улыбка, открытая и радостная. С участием глаз и чего-то ещё. Того что не видно, но что очень хорошо чувствуется. Моня завидовал таким людям, которые могут вот так запросто подойти к незнакомому человеку в парке, протянуть руку и сказать: «Привет!» И назвать своё имя. И при этом легко и искренне улыбаться, будто ни секунды не сомневаются в ответной радости и симпатии. Моня так не мог. Даже если бы очень захотел. Непосредственность Олега удивляла его только в самом начале знакомства. Очень скоро он понял, что для его нового приятеля – такое поведение совершенно естественно. Олег так жил и именно так взаимодействовал с миром.
В нём самом, в его манере общения что-то явно подкупало. Он не вызывал раздражения, как можно было бы предположить, он вызывал симпатию. Поэтому Моня, лишь долю секунды, поколебавшись, протянул руку и представился:
– Григорий.
Оказалось, что Олег серьёзно занимается фотографией и после окончания учёбы в Европе, ещё год стажировался в Нью-Йорке, в студии известного мастера. А потом они разглядывали то, что Моня успел отснять. За это время Олег говорил, практически не делая пауз. За короткое время Моня получил огромное количество информации, касающейся частной жизни Олега. Выслушал его мнение по поводу самых разных вопросов: от проблем российского образования и преимуществ двойного гражданства, до опровергнувшей саму себя идеи толерантности, равно как и службы в армии. Отдельным эшелоном шёл ряд сравнительных характеристик, предваряющих развёрнутый анализ технических параметров фототехники некоторых известных фирм. Кроме того, в одном из коротких промежутков между высказываниями, ненавязчиво и радушно, с детской непосредственностью и категорическим неприятием отказа, Моня был приглашён в гости к Олегу для просмотра его, как он называл, фотоэтюдов. Гриша принял приглашение. Хотя и усмехнулся про себя, вспомнив свою коллекцию и ощутив при этом, в нижней части туловища, хорошо ему знакомый холодок.
Олег был высоким, светлоглазым и тонкокостным. Это было полнейшим безумием, это было непостижимо, но Олег чем-то неуловимо напоминал юную Ангелину.
– Я схожу с ума, – обречённо констатировал про себя Моня, – Этого просто не может быть, – подводил он каждый раз печальный итог, но почти бессознательно, под влиянием неведомых импульсов, продолжал подмечать, регистрировать и проводить аналогии между видимыми только ему, схожими чертами.
Та же мягкость спрятанной в уголках рта, едва сдерживаемой, не полностью раскрытой улыбки. Та же грациозность и плавность в движении. Та же утончённость и изящество, только подаваемое в разных формах. Как одно и то же сложное блюдо, приготовленное совершенно разными, но почти в равной степени высококлассными мастерами, каждый из которых использует в работе свои личные находки и секреты. А самое главное, тот же пытливый взгляд светлых, лучистых глаз, выгодно контрастирующих у Олега с тёмными, размашистыми бровями, а у Ангелины с каштановыми, густыми ресницами.
Олег воспитывался у приёмных родителей. В шестилетнем, вполне сознательном возрасте, его усыновила обеспеченная семейная пара. Приёмный отец был высокопоставленным чиновником и некоторое время назад, даже баллотировался в депутаты областного законодательного собрания. Но в самый разгар предвыборной гонки, свою кандидатуру ему пришлось снять из-за тёмной истории с убийством его конкурента. Это было дело, которое вёл Беликов, и в котором приёмный отец Олега каким-то образом оказался замешен. У матери был собственный туристический бизнес, дома она, практически, не бывала. Чем лучше Моня узнавал Олега, тем больше удивлялся, как удалось ему, воспитываясь в этой семье, остаться тем, кем он, вероятно, и был задуман создателем. Сохранив при всём этом себя и свою душевную чистоту. Например, Олег уже в десятилетнем возрасте прекрасно был осведомлён о том, что его усыновление, – это, в большей степени, тонкий психологический ход для продвижения его приёмного отца по шаткой, но блистательной и манящей политической лестнице. При этом не было похоже, чтобы Олега сильно задевало прохладное к нему отношение приёмных родителей. Или их взаимное, многократно оговоренное, условно-доброжелательное взаимодействие, с целью создания благоприятного для родительской карьеры имиджа счастливой семьи. Олег даже сочувствовал отцу, что цель, к которой тот шёл много лет, к которой так стремился, лопнула в один момент, как мыльный пузырь. Олег искренне сокрушался: увы, то, на что отец делал главную ставку, не осуществилось. Надо же, как неудачно всё сложилось для него, взял да и подстрелил кто-то главного отцовского оппонента. И, главное, как не вовремя…
Олег был говорлив и чрезвычайно коммуникабелен. Было заметно, что он получает колоссальное наслаждение не только от звуков собственного голоса, но от самого содержания своей устной речи и особенностей построения выразительных лексических оборотов.
Они быстро сошлись, хотя были совершенно не похожи. Высокий, стройный Олег с миловидным, по-девичьи нежным лицом, откинутой назад, перламутрово-русой гривой волос и приземистый, с правильными, но тонкими и жестковатыми чертами, близорукий и прихрамывающий, начавший рано лысеть Моня. Когда однажды Моня с кислой улыбкой съязвил по поводу своей внешности, Олег с ним не согласился и назвал его маленьким лордом Байроном, вызвав у Мони приступ внезапного смеха, который оборвался так же неожиданно, как и начался. После чего, Моня очень серьёзно посмотрел на приятеля и ледяным тоном попросил больше никогда его и ни с кем не сравнивать. Для лучшего усвоения, он, не мигая, тихо и внятно произнёс: «Я – Григорий Монеев, ясно?» Что-то в его лице и, в особенности, глазах было такое, что Олег, не нашёлся, что сказать и только растерянно кивнул.
В остальном, никаких разногласий у них не возникало. И два парня, которых объединяло лишь увлечение фотографией да способность к языкам, стали довольно дружны. Возможно, здесь сработал закон притяжения противоположностей. В любом случае, конкретно для Мони всё было предельно ясно. Он сильно подозревал, что вряд ли мог симпатизировать человеку, похожему на него самого. С довольно хлёсткой самоиронией, которая, тем не менее, ранила его гораздо сильней, чем он готов был в этом себе признаться, Моня твёрдо знал, что сам себя ни за что бы ни выбрал. Никогда. Какой бы сферы жизни это ни касалось.
Они были знакомы около двух месяцев, когда кое-что произошло. Позже, анализируя это, Моня вспоминал, что у него было предчувствие какой-то нависшей угрозы. Того, что что-то идёт не так. В первую очередь, это становилось заметно по поведению Олега. Он часто бывал рассеянным, думал о чём-то своём, отвечал невпопад. Иногда Моня ловил на себе его растерянный и ускользающий взгляд.
В тот вечер, Олег устраивал вечеринку в роскошном загородном доме по случаю своего дня рождения. Торжество, которое обслуживало около десяти человек, намечалось с размахом. Ожидалось не меньше полусотни гостей, в конце планировался салют. Моня, не выносивший шумных сборищ и людных мест, не смог отказать имениннику, приславшему за ним машину. Почти весь вечер, Моня просидел на застеклённой веранде, вглядываясь через прозрачные двери, в освещаемую мягким, матовым светом, зелёную, волнистую, под влиянием летнего бархатного ветерка, поверхность бассейна. Слева и справа от него, в ограниченном стеклянной перегородкой холле, ему были видны силуэты парней и девушек, двигающихся под гремящую на весь дом музыку. Моня смотрел на нарядных, молодых людей, танцующих, смеющихся, расположившихся в непринуждённых позах напротив друг друга с бокалами в руках, и не мог понять, что с ним не так. Почему ему нестерпимо отвратительны все эти люди? Почему все они без исключения кажутся ему ограниченными, тупыми животными, круг интересов которых вращается лишь вокруг денег, секса и шмоток? И при всём этом, не осознавая всего ужаса своего положения, всей своей несвободы, а может, именно благодаря этой стадной, полурастительной жизни, они, тем не менее, веселы и беззаботны, как дети.
Хотя, что касается Мони, то он и в детстве не был счастливым и радостным. Никогда. Отвлекался, бывало, ненадолго, да. Но вскоре непременно возвращался в своё исходное состояние потаённого страха, тихой ненависти и уныния. Всегда один. Везде изгой. Всюду отщепенец и урод… Вот ещё почему он терпеть не мог все эти компании и тусовки. Они слишком явно и слишком демонстративно указывали ему на то, что он не такой, как они. И ему нет места среди них.
Моня отхлебнул из своего бокала и поморщился. Никогда не любил алкоголь, не понимал, как добровольно можно глотать это. Моня из-за гремящей музыки, не сразу услышал, как вошёл Олег с двумя висящими на нём девицами. Заметив их, он вздохнул и поднялся, собираясь поблагодарить Олега и уйти. Олег, кажется, всё понял, потому что мгновенно сориентировался, выпроводил обеих подружек и с каким-то страдальческим выражением лица повернулся к Моне. Только в ту секунду, когда Олег приблизился к нему почти вплотную, Моня с абсолютной точностью понял, что произойдёт дальше. Но всё равно не успел среагировать. Оттолкнув приятеля, он неловко отпрянул, зацепив стоящий сзади журнальный столик с бутылками, кальяном и фруктами. Раздался ужасный грохот. Он совершенно не помнил, как добирался домой. От переполняющей его ненависти и боли, он почти ослеп. Оказавшись в своей комнате только к рассвету, он сидел на кровати и сжимал кулаки с такой силой, что на тыльной стороне ладони вспухли фиолетовые кровоподтёки. Зато становилось немного легче, но Моня знал, что это ненадолго. Внутренняя боль, заполнившая всё его существо, никуда не делась, она затаилась, чтобы возвратится и обрушится на него с новой силой. Резкая, невыносимая, саднящая. Он пытался убедить себя, что ничего страшного не произошло. Всего лишь ещё одно предательство, ещё одна ложь, ещё одна мерзость. Одной больше, одной меньше, подумаешь… А ведь Лерка предупреждала, хотя видела Олега всего лишь раз. Она говорила Моне, что его новый приятель, один из этих… Даже про себя Моня был не в состоянии произнести это слово. Тогда он посмеялся над ней, решив, что бедная, глупая Лерка наговаривает на парня из ревности. Где она сейчас? Хотя какая разница?! Разве захочет она его видеть после того, как он вычеркнул её из своей жизни? Он так тщательно отгораживался, так оберегал свою мнимую свободу, что чуть не потерял её, чудом выскочив из западни. Нет, не может быть, чтоб она отвернулась от него. Это же Лерка! Единственный и самый преданный друг… Прости меня, Лера! Я иду к тебе, мне снова нужна твоя помощь.
10.
В автобусе Лера ехала вместе со своей будущей ученицей Таней Кривасовой, и её мамой. Шустрая, смуглая девочка, с угольно-чёрными глазами и звонким голосом, первой увидела встречающего их на автостанции отца, и радостно взвизгнула на весь автобус: «Папа!» И если бы мать её не удержала, попыталась бы, наверное, выскочить на ходу. Выйдя из автобуса вслед за ребёнком, Лера оказалась свидетельницей трогательной встречи отца и дочери. – Танюшка! – распахнул он руки навстречу бегущей к нему со всех ног девочке. С Лерой поравнялась мать Тани:
– Как сто лет не виделись, – с ласковой усмешкой проговорила она, – А он ведь только вчера вечером уехал. Лере это было уже известно. За то время, что они ехали из пригорода, места, где Лерке предстоит в скором времени жить и работать, в областной центр, где сосредоточена была вся её жизнь в течение последних девяти или десяти лет, всю их семейную историю она выслушала в двух вариантах: материнском и дочернем. Причём, с комментариями, дополнениями и уточнениями с обеих сторон. Хотя, по мнению Лерки, вся жизнь этой семьи вполне уместилась бы в две-три строчки. Встретились, поженились, родили дочь. Работают, строят дом, мечтают о сыне. И все друг без друга просто жить не могут. До такой степени, что приехали навестить папу, у которого в городе появилась хорошая шабашка. Всё. Конец истории. Тоска смертная. «Все счастливые семьи – похожи друг на друга…» Лерка ещё раз посмотрела на смеющееся лицо мужчины, выглядывающее из-за плеча, облепившей его руками и ногами дочери, который шёл навстречу жене вместе со своей драгоценной ношей. Стоя на остановке, Лера чувствовала, что настроение окончательно испорчено. Чтобы переключиться и прогнать из памяти нежелательный видеоряд, Лерка начала думать о скором переезде в маленький, тихий городок, в единственной школе которого она проходила практику и куда её брали на работу с руками и ногами. И даже с предоставлением служебной квартиры. А что? Разве её что-то здесь держит? Раньше думала, вернее, хотела думать, что да, а теперь, после того, как единственный человек, с которым она могла представить себе общее будущее, недвусмысленно дал понять, что он лично её намерений и планов не разделяет и вообще предпочитает свободу от всякого рода обязательств, она, Лерка, может начинать с чистого листа. И послать при этом, куда подальше свой внутренний голос, уверяющий, что ни черта у неё не выйдет. Лерка зашла в свою квартиру, растерянно остановилась в прихожей, как будто не узнавала этого места, затем швырнула в угол ключи и захлопнула входную дверь. Если бы Лерка могла, она бы сейчас заплакала. Остановившись у зеркала, она с ненавистью разглядывала широкое, плоское лицо, узкие глаза и крошечный, напоминающий плохо выписанную ленивым учеником кривую букву «о», рот. Дедушкины корни, будь они неладны. Причём достались они исключительно ей. Со своими детьми, Леркиной матерью и второй своей дочерью, ярко выраженными азиатскими чертами дед почему-то не поделился. Видимо берёг для Лерки. Она за всех и отдувалась. Какой национальности был дед, он и сам не знал, был найден на пороге дома ребёнка в городе Ростове-на-Дону, когда ему было от роду несколько дней. Никаких документов при нём не обнаружилось. Сам дед считал себя корейцем. Хотя с таким же успехом, мог быть бурятом, узбеком или якутом.
Как бы там ни было, расстраиваться по этому поводу было бы довольно глупо. Равно как выяснять какие-либо подробности, и предъявлять претензии было уже не у кого и некому. Из родни у неё никого не осталось. По крайней мере, из тех, кого она помнила и знала. И даже если бы это оказалось не так, ей не было до этого ровным счётом никакого дела.
Когда она уже лежала в постели, перед её глазами снова возник образ этих двоих: Тани Кривасовой и её папы. Счастливых, обнимающихся, любящих. Лерин папа был совсем другим. Она повернулась на спину и сухими, горячими даже изнутри глазами, уставилась в потолок. Её папа тоже, наверное, любил свою дочку. По-своему. По крайней мере, он всегда так говорил после того, как всё заканчивалось, и он выходил из её комнаты. Он приходил не каждую ночь, но с тех пор, когда это случилось впервые, она, ложась спать, сухими, горячими глазами смотрела на ручку двери, с ужасом ожидая её поворота и лёгкого писка двери.
Впервые это случилось, когда ей было семь лет. Но она и сейчас помнит, и этот ужас, и этот стыд, и эту боль. Папа в конце, не глядя на неё, выпрямлял её разведённые и застывшие в этой позе ноги, поправляя на неподвижной, будто замороженной Лерке одеяло, гладил её по голове и говорил, что любит. Иногда, потоптавшись, он разворачивал её к стене, чтобы не видеть хорошо заметных даже в темноте, горящих тревожным, нездоровым блеском глаз дочери, и тихонько выходил из комнаты. После этого, Лерка могла уже спокойно заснуть, не боясь того, что её кто-нибудь потревожит, если только это позволяла сделать пульсирующая, саднящая боль внизу живота и огромный, накрывающий её волной ужас и стыд.
Лера повернулась и стала смотреть в тёмное окно. За много лет она уже привыкла к тому, что не может спать, как все нормальные люди. Она примирилась со своей бессонницей, и даже стала находить в этом плюсы. Лера знала, что даже сейчас, стоит только закрыть глаза, как папа наклонится и прошепчет на ухо, что ей совсем-совсем никому нельзя рассказывать об этом. Иначе все будут считать, что она плохая, очень плохая и гадкая. И никто её не будет любить. Никогда. Но он напрасно переживал, она не стала бы делать этого ни за что. Маленькая Лера была уверена, что так, как с ней, поступают только с худшими на свете детьми. Папа за что-то на неё злится, и приходит к ней в комнату, чтобы наказать. Поэтому даже под страхом смерти она не рассказала бы об этой смрадной и уродливой стороне жизни никому. Только однажды она спросила у болезненной и апатичной матери: