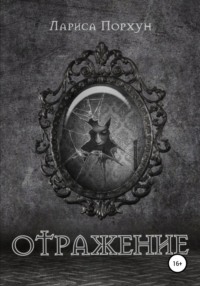Полная версия
В ритме ненависти

Лариса Порхун
В ритме ненависти
Ненавидящий пребывает в смерти…
Глава 1
1.
Девушка лежала на земле, раскинув по сторонам белые полные руки с множественными гематомами и неестественно вывернутыми, в позе лягушки, ногами. Капитан Сергей Воронцов, прибывший на место преступления вместе с группой из следственного комитета, непроизвольно сглотнул и закашлялся. Не нужно было быть судмедэкспертом, чтобы увидеть, что согнутые в коленях и разведённые по сторонам ноги убитой девушки с неимоверной жестокостью и силой были выломаны из тазобедренных суставов. Вся правая сторона лица и шеи, которой она была повёрнута к зрителю, представляла сплошной, багрово-фиолетовый кровоподтёк. Взгляд мутных, уже остекленевших глаз, был направлен в сторону окровавленного тёмного комка, оказавшегося недостающим волосяным участком запрокинутой и частично оскальпированной головы убитой.
– Кто её нашёл? – почти не разжимая губ, спросил капитан Воронцов у одного из оперов.
– Да ханурик какой-то местный, – не поворачиваясь, и продолжая писать, сидя на корточках, ответил тот, – шляется почти каждое утро в районе свалки в поисках чего-нибудь мало-мальски ценного. Цветной металл, говорит, ищу. Мы показания взяли, да отпустили пока… А что ещё, убита ведь была в другом месте.
После того, как парень засунул исписанный лист в папку, на которой писал, он встал в полный рост и только тогда посмотрел на Сергея. Вид у него был какой-то неприкаянный и опустошённый. Он напоминал подросшего, но всё так же упрямо ожидающего своих родителей у окна детского дома, испуганного и потерянного ребёнка-сироту. «Курит много, да и пьёт, наверное», – глядя мельком на его мешки под глазами и землистый цвет кожи, автоматически отметил Воронцов. И тут же разозлился на себя. Делать ему больше нечего, как только следить за самочувствием и здоровьем оперуполномоченных юнцов. Подошёл Терентьев, знакомый Сергею ещё по угрозыску. Началась обычная процедура, положенная в таких случаях. – Её, -кивнул Терентьев на труп, который в данный момент осматривал эксперт, – выгрузили из автомобиля и тащили от дороги, видишь след? – Сергей хмуро посмотрел в указанном направлении, – В чём-то типа брезента или плотного целлофана…
Он говорил, а Воронцов никак не мог сосредоточиться. Мысли путались в голове и перескакивали с одного на другое, как будто он был с тяжёлого похмелья. Такого вовремя работы с ним ещё никогда не случалось. Сергей не мог понять, в чём дело. Он глубоко вздохнул и медленно, пытаясь взять себя в руки, выдохнул. – Соберись немедленно, – скомандовал он сам себе. – Что, в самом деле, происходит? Трупов за десять лет работы не видел? – он снова набрал полную грудь воздуха, – Ну да, с такой демонстративной, какой-то показушной жестокостью, может и нечасто встречался, но тоже не гербарии собирал. Он следователем четвёртый год, но всё равно на каждое место преступления обязательно выезжает лично. Такая привычка появилась у него ещё во время работы в уголовке.
– … наверняка не случайно её на городскую свалку притащил, вроде как выкинул, – повисла пауза, во время которой Терентьев, дотронулся до Воронцова, – Аллё, Серёга, ты слышишь меня? Это дельце, скорей всего, вашему отделу передадут, – добавил он, внимательно глядя на Сергея.
– Разберёмся, – кивнул тот и подошёл к убитой.
«…обнаруженный труп молодой женщины правильного телосложения, холодный на ощупь. Трупное окоченение отсутствует во всех группах мышц. На голове, шее, туловище, верхних конечностях по всем поверхностям множественные, крупнопятнистые ссадины и кровоподтёки, сливающиеся между собой… Волосы тёмно-коричневые, на правой стороне отсутствует участок волосяного покрова с соответствующей частью эпителия размером 9 на 8 см… Глаза открыты, роговицы тусклые, зрачки неразличимы… Язык в полости рта, на двух верхних и одном нижнем передних зубах незначительные сколы… На шее, на границе средней и нижней третей, полосчатый, горизонтальный кровоподтёк длиной 8 см, шириной 0,8 – 1,5 см…» Капитан Сергей Воронцов, стоял совершенно неподвижно и, как заворожённый слушал монотонный голос эксперта, не в состоянии отвести взгляд от двух почерневших от запёкшейся крови, с неровными краями ран, образовавшимися после того, как у этой молодой женщины была отрезана грудь.
2.
Наконец-то у такого прекрасного, долгожданного, но исчезающего времени года – весны, проснулась к середине апреля совесть, и она заявляла о своих правах напористо, весело и бесцеремонно. И Моня был этому только рад. Потому что в последние годы, по крайней мере, в их краях присутствие весны ненавязчиво, но ощутимо сокращалось. Была длинная-предлинная зима, потом неразборчивое грязно-серо-подсыхающее нечто и сразу жаркое, изнуряюще-душное лето. Но сейчас в город пришла именно она, волшебная, почти забытая, самая настоящая весна. Она хохотала нешуточными грозами, затем, словно прося прощения за невольную шалость, успокаивала ярким и нежным солнечным теплом, кружила голову свежестью промытых улиц и ароматом первых цветов, нашёптывала что-то сладостное и манящее шелестом цветущих трав, и с раннего утра звонкой и пронзительной разноголосицей исполняла вместе с птицами жизнеутверждающий гимн торжества любви и юности в бесконечно-прекрасной синеве неба.
Моня сидел на шестой паре, как всегда на своём обычном месте: четвёртая скамья, в правом углу у окна, и страдал физически и душевно. Если бы можно было изнемогать каким-либо ещё способом, наверняка он бы одним из первых ощутил его на себе. Он постарался усилием воли абстрагироваться от этой аудитории, бубнящего лектора, которого никто не слушал, и себя самого. Моня прикрыл глаза, ощущая, как ласково щекочет всю левую сторону, заглядывающее через высокие пыльные окна, не знающее чем ещё себя занять буйное апрельское солнце. Этот последний год учёбы тянулся особенно долго. И преподаватели, и студенты порядком устали друг от друга, программа обучения была выполнена, и эти последние недели накануне преддипломной практики, в лучшем случае представляли собой бег по кругу, а то и топтание на месте с повторным пережёвыванием ещё в конце первого семестра проглоченной и даже переваренной жвачки.
Моня в сотый раз с тоской, явно написанной на его лице, посмотрел в окно и шумно вздохнул. Ему так сильно хотелось выйти отсюда, что иногда казалось, что он задыхается. Хотя если бы его сейчас спросили, где бы он мечтал оказаться, скорее всего, Моне для ответа потребовалось бы порядочное время. И даже после этого совсем не факт, что он бы точно знал, где именно. Лучше всего на сегодняшний день ему было в своей комнате у компьютера, это точно. Но к своим двадцати четырём годам он почти нигде не был и с окружающим миром был знаком, в основном, через экран монитора, так что утверждать наверняка, что его комната – лучшее место в мире, всё-таки, наверное, не стоило. Он не хотел сегодня идти в универ, были планы провести день более плодотворно, тем более что хотелось получше разобраться с одной занятной программкой, но мама сказала, что не надо дразнить гусей, в том смысле, что не стоит нарываться и злить преподавателей, накануне сдачи госэкзаменов и защиты диплома. Мама… Мама, как всегда, была права. На второй паре с целью проверки посещаемости зашла делегация, возглавляемая зав. кафедрой и отсутствующие были демонстративно отмечены в журнале.
– Запишите примерные темы рефератов, – вдруг резко изменив тональность маловыразительного, будто обессиленного голоса, с явным и нескрываемым облегчением, противным дискантом выкрикнул преподаватель.
– Какие рефераты?! – возмущённо зашептала однокурсница Лерка, повернувшись к Моне вполоборота, – Нет, ты это слышал? Он чё, вообще, несёт, мудозвон очкастый? Мы ж с понедельника уже тю-тю… Моня криво усмехнулся:
– Да ладно, Валерия, не суетись, это всего лишь формальный, ни к чему не обязывающий акт положительного взаимодействия сторон. Он делает вид, что даёт задания, а мы, в свою очередь, делаем вид, что старательно их записываем. И даже собираемся выполнять. Таковы игры взрослых людей, детка, а играть нужно по правилам. Аккордом к его последним словам прозвучал, наконец, оглушительный звонок.
– Ладно, умник, – фыркнула Лерка, когда они, наконец, вышли на свежий воздух, – Идём в стекляшку, я угощаю…
Пока Лера курила возле кафешки, Моня щурился на тёплое вечернее солнце и вполуха слушал текущую порцию Леркиной повседневной трескотни. Так уж у них повелось. Неизвестно по какой причине, но именно с Моней, – щуплым, низкорослым и прихрамывающим (последствия перенесённого ДЦП), она чувствовала себя легко и комфортно. Видимо, это участь всех изгоев-одиночек. Они оба никак не могли похвастаться, что являются душой компании. Хоть какой-нибудь. Приходилось довольствоваться своей собственной. Лерке этого вполне хватало, а Моня…, что думал Моня, было не очень понятно, так как серьёзно он почти никогда с ней не говорил. Лера выделила его сразу из всей группы, ещё на первом курсе. С тех пор они сидят на парах рядом, и ей одной в универе, не только известно его прозвище «Моня», но и позволено так к нему обращаться. Если не считать помощи Лерке по немецкой грамматике, то на этом привилегии, пожалуй, и заканчивались. Отношения внутри этой своеобразной парочки строились таким образом: она говорила, а он, в лучшем случае, отпускал ироничные комментарии.
Переведя на неё взгляд, он внутренне улыбнулся. Лерка – приземистая, широкоплечая с высокими скулами, раскосыми глазами и приплюснутым розовым носом напоминала сильно укрупнённую и повзрослевшую подружку мультяшного медвежонка Умки. Глядя на неё, создавалось впечатление чего-то добротного, надёжного, но не слишком утончённого.
– Что ж, с прискорбием должен заметить вам, многоуважаемая сударыня, если позволите, то даже слегка попенять, о недопустимости вашей лексики, как в целом, так и в отдельной её части. Вынужден констатировать, что: чё, тю-тю, короче, гля, и прочие слова-паразиты до обидного часто встречаются в вашей речи. Я уж не говорю о том, какими словами вы изволили именовать давеча уважаемого доцента Верещагина…
Лерка дружески стукнула его по плечу, и Моня невольно поморщился:
– Ситуация, милостивая государыня, усложняется ещё и тем, что манеры ваши также оставляют желать лучшего, а настоящий трагизм, не побоюсь этого слова, заключается ещё и в том, что вы, как это ни странно, заканчиваете филологический факультет, и без пяти минут являетесь дипломированным лингвистом…
– Ну, хватит, Моня, ты хоть когда-нибудь можешь быть серьёзным?
– Да уж куда серьёзней! Когда речь идёт о судьбе моей любимой русской словесности, – он уклонился от тяжёлой Леркиной руки, довольно ловко проскочив внутрь, – …то серьёзный подход – это просто моё второе имя! – плюхаясь на первое свободное место, со смехом закончил он.
– Барышня, – преувеличенно торжественно обратился он снова к насупленной Лере, – Хот-дог и молочный коктейль, соблаговолите,… сказал бы я, если бы не являлся джентльменом.
Выйдя из кафе, Моня кивнул Лерке, и сообщил, что на остановку не идёт, хочет пройтись. Увидев, каким радостным домиком приподнялись Леркины коротенькие бровки, предупредительно заметил, что прогулки сегодня не получится, дела… Он знал, что Лера смотрит ему вслед. И будет смотреть, пока сможет его видеть. Ему для этого не нужно было оборачиваться… Даже если подойдёт её автобус, который ходил не чаще одного раза в час (Лерка жила в новом микрорайоне, на окраине), она туда не войдёт, пока сможет видеть Моню. Что уж тут поделаешь, если она давно и безнадёжно влюблена в него. И знал об этом, увы, не только Моня, но и весь курс. Он сочувствовал Лерке, где-то даже симпатизировал ей, но помочь ничем не мог. И дело было не в нём, и даже не в ней. А в том, что была Ангелина, которую впервые он увидел в тринадцать лет. И тогда же полюбил. Почему-то он сразу понял, что это настоящее. И что это навсегда.
А Лерка хорошая. Смешная и преданная. Могла бы быть отличным другом, если бы не некоторая интеллектуальная ограниченность. Только такой дурёхе, как она, могла понравиться намертво прилипшая к нему с первого класса дурацкая кличка Моня. Лерка пришла в восторг, и заявила, что она ему очень идёт. И ещё, что если бы она уже не была ему дана, её бы следовало придумать. Лерка наивная, добрая и отзывчивая. Но она не Ангелина.
15 апреля Стена Facebook
АЛЬГИЗ
Приветствую вас, мои, к счастью, смертные други!
Моё глубокое убеждение заключается в том, что некоторым людям нельзя жить. От слова совсем. Иначе, достигая своей половой зрелости, они непременно начнут размножаться и заполонять планету такими же ядовитыми и отвратительными тварями, какими являются сами. Но более всего они опасны тем, что изначально предав себя, они, затем, проделывают то же самое с любящими их людьми. Обволакивая, завораживая и выпуская, наконец, ядовитое своё жало прямо в наполненное любовью, и не ожидающее подвоха сердце. Таковой является Ангелина О. Всего лишь за несколько лет, она добровольно, и без чьей-либо помощи, превратилась из маленькой феи с искрящимися глазами в отвратительную и жирную шлюху. Что должен испытывать человек, запомнивший и полюбивший именно то нежное и трогательное создание, и вдруг, по прошествии нескольких лет, обнаружив перед собой эту уродливую, размалёванную и оскорбительно вульгарную даже для потаскухи деваху?!! Что чувствовал бы ты, мой неизвестный и случайный читатель? Когда эта, с позволения сказать, женщина, спустя десять лет, встречает тебя, подходит, развратно виляя толстыми бёдрами, и, как ни в чём не бывало, спрашивает: «Может, посидим, как-нибудь?» Как вам идея? Вот и я о том же… А знаете, что хуже всего? То, что эта продажная мразь даже не помнит о том, что было между вами десять лет назад. До того, как она, подло, низко, не потрудившись сказать ни слова человеку, который любил её больше жизни, не уехала в другую страну. Она всё ЗАБЫЛА! Причём, было бы лучше, если бы она сделала это специально, намеренно, чтобы, дескать, не ворошить прошлое. Это было бы ещё понятно. Нет, она забыла просто так. Походя. Как что-то такое, что не имеет особой ценности. Абсолютно ВСЁ забыла! Она смотрит на тебя некогда прекрасными, а сейчас мутными, похотливыми глазёнками, в обрамлении опухших век, в каждом из которых плещется, как минимум, по полбутылки креплённого, и глупо хихикая, тычет тебя пухлым кулаком в бок…
Такие люди не должны жить! Потому что от их зловонного пребывания на этой планете отравляется всё живое, истинное и любящее.
Засим, прощаюсь с вами, живите… пока…
3.
Николай Иванович Пестрыкин, сорока восьми лет от роду, снова чувствовал пока ещё не слишком явное, но оказывающее заметное влияние на всё его самочувствие в целом, нарастающее к вечеру томление, которое аккумулировалось, в основном, в нижней части туловища.
– Пройдусь немного… – крикнул он жене.
– Ты куда? Ужин скоро… – жена вышла из кухни, потная, раскрасневшаяся, с полотенцем через плечо.
– Я после, душно в квартире, – стараясь подавить мгновенно образовавшееся глухое раздражение, и открывая дверь, чуть слышно ответил Пестрыкин.
Впервые это случилось, когда ещё был жив Гарри. Тогда они только переехали в эту глухомань, жилищный комплекс «Лесная сказка». Названию соответствовало здесь только наличие небольшого, пока ещё не занятого многоэтажками, отстоящего где-то в полукилометре от новостроек, небольшого участка лесополосы. А ещё сказочные ароматы, долетающие под напором юго-западного ветра от расположенной недалеко свалки, которую обещают, но всё никак не утилизируют. Ну и конечно, абсолютно сказочным было расстояние, которое приходилось преодолевать, чтобы доехать до центра. Но они всё равно были рады. Ещё бы, полжизни жили то с его родителями, то в убогой полуторке, доставшейся от бабки. Десять лет вчетвером на 38 метрах… Конечно, после этого трёхкомнатная квартира, даже у чёрта на куличках, покажется королевскими апартаментами. Им и казалось. Особенно вначале. Тем более что дочка прожила с ними всего год, так как вышла замуж и переехала в соседний город. Сейчас-то, малость попривыкли уже. Николаю Ивановичу даже нет, нет, да и закрадывалась в голову колючая мысль, и зачем было переезжать, городить весь этот огород? Но Катерина, жена, столько времени канючила: это продадим, а то купим, сколько можно на голове друг у друга сидеть, хоть на старости лет поживём, как люди… Ну и продали, хоть и с трудом несчастную эту полуторку, да плюс дачу родительскую, да добавили то, что удалось немного подсобрать, и купили вот… А что толку? Дочь уже с ними не живёт, сын в следующем году оканчивает школу и то же вряд ли надолго задержится. Он и сейчас-то ведёт себя с родителями, в лучшем случае, как квартирант. И когда приходит домой, немедленно закрывается в своей комнате, а с родителями общается крайне неохотно и исключительно междометиями. Николай Иванович как-то невесело заметил жене, о преимуществе мест общего пользования. А то бы с родным сыном они, вероятно, совсем перестали встречаться. К тому же Пестрыкин жалел, что пришлось оставить такой удобный, и такой обжитой район, который любил и по которому тосковал, так как жил там практически всю свою жизнь. И перманентно злился на жену, которая всё это затеяла, и перевезла их сюда, откуда до работы ему добираться больше часа, где ни одной знакомой души и за два с лишним года он так и не узнал, как зовут соседей, живущих на одном с ним этаже.
Так вот, когда они сюда переехали, ещё был жив его Гарри… Не просто собака, лучший его друг, симпатяга и умница каких мало. Хороший знакомый, почти приятель и, по совместительству, ветеринар, когда Николай Иванович пришёл с Гарри к нему по поводу какой-то возникшей в последнее время непонятной одышки у собаки, констатировал начальную стадию ожирения. И сказал, что у ротвейлеров, особенно возрастных, это обычное дело. И посоветовал больше гулять. – Да и тебе на пользу, – улыбнулся он, махнув головой в сторону аккуратного и тугого пестрыкинского животика. Николай Иванович закивал, соглашаясь:
– Так мы ж теперь и живём, считай, что в лесу, вот и будем гулять. Во время одной из прогулок они случайно и наткнулись на парочку. Гарри первый их заметил, но шума, молодец, поднимать не стал. Только резко остановился, навострил уши и посмотрел густо-коричневым глазом на хозяина. А Николай Иванович стоял, как заворожённый, благо эти двое не сразу заметили мужчину с собакой, и не совсем понимал, что с ним происходит. Девушка, развернувшись лицом и оседлав сидящего на земле парня, запустила руки ему в штаны, а тот жадно, ненасытно целовал её шею и обнажённую грудь. Вот тогда Николай Иванович Пестрыкин и почувствовал, чуть ли не впервые в жизни, то самое неясное томление в паху, распирающее его изнутри, мгновенно нарастающее и расходящееся оттуда миллионами тоненьких, острых лучиков по всему телу. И это за короткое время, за считанные секунды привело его к такой бурной и небывалой, к такой фантастической разрядке, что Николай Иванович, не выдержав, сдавленно застонал и согнулся пополам. Они вскочили. И парень, натянув джинсы, грязно выругался, направляясь к Пестрыкину. Но заметив глухо заворчавшего чёрного пса с каштановыми подпалинами по бокам, в нерешительности остановился. Николай Иванович тяжело дышал, одной рукой он опирался о дерево, а другой слабо махал из стороны в сторону, пытаясь этим жестом как бы одновременно успокоить и собаку и юношу. Он очень старался что-то сказать, но потрясение, которое он пережил только что было слишком велико, и поэтому всё, на что его хватало, в тот момент, это на непонятные пассы руками и беззвучное открывание и закрывание рта, в безуспешной попытке вымолвить хоть слово. После того, как ребята удалились, высказавшись по очереди в его адрес витиеватыми фразами, с использованием деепричастных оборотов почти целиком состоящих из непечатных словосочетаний, Пестрыкин ещё какое-то время приходил в себя, прислонившись к дереву и виновато поглядывая на собаку. Гарри внимательно следил за хозяином и даже пару раз, не понимая, что происходит, принимался тревожно скулить, но когда, восстановив дыхание, Николай Иванович, с помощью большого клетчатого платка стал приводить в порядок брюки, умница пёс деликатно отвернулся, и с деловым и преувеличенно заинтересованным видом стал обнюхивать сторонний кустарник. Да, такого фейерверка Николай Иванович, никак от себя не ожидал. Говоря откровенно, он и в молодости в этом отношении человеком был весьма умеренным и в удовлетворении этой естественной потребности до заоблачных горних высей ни разу не поднимался и какого-то райского наслаждения тоже не испытывал. А когда ему пришлось уйти из военкомата с должности начальника отделения, в связи с грубо состряпанным против него дельцем, в котором оказался замешен военком, и устроиться в обычную школу преподавателем ОБЖ, их с женой и без того более, чем среднеуровневое интимное общение практически сошло на нет.
Тем больше было его потрясение, произведённое этой, в общем-то, вполне объяснимой, совершенно нормальной и не выходящей из ряда вон сценкой. Вот так они и гуляли каждый вечер, мужчина и его собака… Одинаково приземистые, молчаливые и очень одинокие.
А потом Гарри умер. Сначала он отказывался от еды. Просто лежал и когда Пестрыкин уговаривал его поесть, виновато вздыхал. Из ветлечебницы Гарри уже не вернулся. В ту ночь, когда он умер, его хозяин ехал в такси и совершенно не замечал собственных слёз. Он долго бродил возле дома, успокаиваясь и собираясь с духом войти. За восемь лет он впервые возвращался с прогулки один. Разумеется, Николай Иванович, гулять перестал. Это было бы странно. Одинокий мужчина, который постоянно околачивается возле их жидкого и захламлённого леска. Но вскоре не выдержал. Потому что время от времени, особенно когда он смотрел из окна спальни в сторону лесополосы, снова чувствовал то же странное, но уже знакомое возбуждение, переходящее в нетерпение и абсолютную невозможность думать о чём-нибудь или даже просто сосредоточиться. И ещё, он очень скоро заметил, что для того, чтобы получить долгожданную разрядку, ему совсем необязательно видеть сценки, подобные той, первой, вживую. С этим вполне справлялось его воображение, а также нахождение его приблизительно в той же точке, откуда ему открылось зрелище, столь сильно на него подействовавшее.
Это экзистенционально-эротические вылазки оборвались, когда он возвращался с одной из своих вечерних прогулок домой. К нему подошёл рослый молодой человек в штатском и, показывая удостоверение, очень вежливо попросил его проследовать с ним.
4.
Когда Моня оканчивал школу, и пришло время определяться с поступлением, мать, как она это часто делала, мимоходом, как бы просто размышляя вслух, небрежно обронила:
– А что тут думать? Тебе, по-моему, прямая дорога на филологический… Ты же прирождённый гуманитарий. Она пожала плечами, – И к языкам у тебя способности… И потом там ребят мало… Встретив его напряжённый взгляд, она, помявшись добавила:
– Девчат зато много… Это же лучше гораздо… Не будет, знаешь лишней конкуренции, ну и сравнений не в твою пользу. Моня был почти уверен, что сейчас она, как раньше, когда узнавала о его проблемах в школе или во дворе, непременно добавит:
– Что поделать, сынок, дети очень жестокий народ, не дружи с ними… Как будто у него хоть когда-нибудь был выбор.
«Не дружи с ними!» Моня ещё в начальной удивлялся матери, как можно быть такой слепой и ограниченной!? А может она намеренно делала вид, что ничего особенного не происходит, от того, что просто не знала, как помочь сыну? Но мысль об этом была невыносима, потому что это бы означало, что положение его ещё хуже, чем Моня предполагал. Иногда ему хотелось схватить её за плечи и, что есть силы, закричать прямо в лицо, встряхивая при каждом слове:
– Да это они со мной не хотят дружить! Им противно находиться рядом и говорить со мной! Они настолько сильно презирают меня, что не в состоянии даже ненавидеть! Поэтому они и ведут себя так. Все. Они. Ты что действительно не понимаешь таких простых вещей?! Всё дело во мне!
… Но на этот раз, похоже, мать была права. Поразмыслив, Моня отнёс документы на филфак. И поступил. И учился легко и с удовольствием. Именно в университете, он с удивлением заметил, что не только не хуже всех, но в чём-то на порядок, а то и на несколько порядков, лучше и успешнее. Он уже мог говорить при всех, а иногда даже, весьма аргументировано дискутировать, например, с преподавателем старославянского. Именно в университете Моня почувствовал интерес к этому мёртвому языку, занимался им с рвением, читая вслух, с упоением и нараспев церковнославянские тексты.
Парней на курсе действительно было мало, а девчонок полно. У них в группе, например, соотношение это неравное составляло18 к 3.