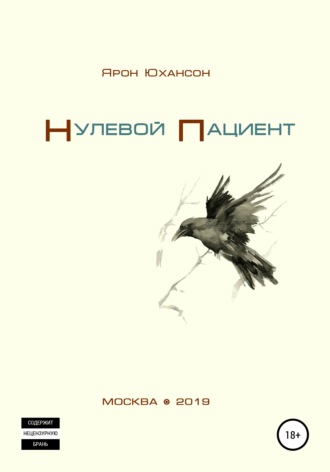
Полная версия
Нулевой пациент
Через полчаса томительного топтания на перроне часть военнопленных погрузили в несколько крытых грузовиков и машины тронулись в сторону подмосковных пересылочных лагерей. Некоторым заключенным предстоял дальнейший переезд в теплушках за Урал. Три военных грузовика отправились в Красногорск. Стоун, Шнитке и Кох тряслись во втором. Держались за деревянные борта, сверху донизу обтянутые брезентом. В конце кузова сидели два автоматчика. Они покуривали и переговаривались. Питер неплохо понимал русский язык, но эти раскатистые звуки были ему незнакомы. Какие-то среднеазиатские наречия.
– Эх, жалко Москву не видно, – задумчиво произнес Кох. – Дома, улицы… А так хотелось бы посмотреть. Ждал этого часа еще с университетских времен. Я ведь изучал русскую литературу. Дырку, что ли, в брезенте проделать?
– Чем? – усмехнулся Шнитке. – Пальцем?
– Что на неё смотреть, ослы? – грубо спросил один из немцев, трясшийся рядом. Тяжелый такой, грузный, с застывшей в глазах ненавистью ко всем. Майор Вермахта.
Ему никто не ответил. А тот продолжил:
– Вот ты, обер, говоришь: жаль, Москву не видно… А что на неё смотреть? Дрянь город. Хуже любой нашей дыры на окраине Рейха. Я стоял тут в сорок втором, нагляделся.
– В бинокль, – съязвил Шнитке. – А вот русские сейчас – в центре Берлина. И Рейхстаг видят воочию, точнее то, что от него осталось.
– Ну и что? Это временно. А всё из-за предателей. Таких, как ты! – грузный майор не унимался, полыхал гневом. – Трусы. Пораженцы. Свиньи.
Унтер-офицер слегка отодвинулся от него, хотя двигаться тут, в такой тесноте, было, в общем-то, некуда.
– Что, не нравится? – засмеялся, брызгая слюной майор. – А ты слушай, слушай! Если бы мы не сдали Берлин, война покатилась бы вспять. А в Арденнах мы англосаксов погнали. Ну, почти. Я был там, знаю. Горючего не хватило. И если бы не предатели в Генштабе. Это говорю тебе я, Фридрих Рёске, артиллерист, награжденный рыцарским железным крестом за храбрость. Всюду изменники и трусы. Подлые свиньи!
Тут он неожиданно замолчал, хотя, похоже, готовился сказать что-то еще – уже открыл перекошенный рот, но прошло полминуты – тотчас же и захлопнул его. Лишь с горечью махнул рукой и вперил неподвижный взгляд в Стоуна. Словно выбрал себе новую жертву и готовился теперь обрушить свой гнев на неё. А к атаке надо собрать силы.
– Не обращайте на него внимания, – тихо сказал Шнитке. – Его можно понять, человек не в себе.
– И таких много, – согласился с ним ещё кто-то. Стоун по-прежнему молчал.
– Странная у вас форма, – обратился к нему унтер-офицер. – Не пойму никак. У нас цвет «фельдграу» – полевой серый, с зеленым пигментом, и у вас почти тот же, с полынным оттенком. А всё же не то. И взгляд не такой, как у всех нас. Проигравших. Взгляд с другой стороны фронта. Вот в чем дело. Как так?
– Долго объяснять, – выдавил из себя Стоун по-немецки, давая понять, что разговор окончен.
Дальнейший путь до Красногорска проделали молча. Рёске всё равно помешал бы нормальной беседе… А воспоминания уносили Питера далеко-далеко, туда, где не было ни войны, ни плена. Ни смерти.
Вспоминает и рассказывает Питер Стоун – поток сознанияС чего начать? Память возвращает меня в прошлое, разум окутывает туман, плоть плохо борется с предназначением и обстоятельствами судьбы… Я устал. Картины мелькают, как в калейдоскопе, затуманенная радуга над горизонтом, там – будущее, а где оно?.. И вдруг – удар, огонь, боль, крушение…
Второго мая моя рота из четырех взводов, а это почти сто двадцать человек, располагалась на западной окраине практически опустевшего немецкого города Висмар, приближаясь к линии разграничения зон огня с союзниками и готовилась войти в город. Мы начали свой путь от берега в Нормандии одиннадцать месяцев назад, почти без потерь прошли северную Францию, Бельгию, приняли бой в Арденнах, вошли в Германию, и дошли до этого чертова города в западной Померании. Последняя болевая точка в моей войне. До полудня начнем вхождение и за два дня очистим его – времени нет. Где-то там, далеко за восточными окраинами города должны быть русские. Теперь, я знаю, что разграничительные линии огня между советскими и англо-американскими ВВС и сухопутными силами постоянно корректировались по мере продвижения союзников в глубь Германии и были больше похожи на передвижную демаркационную границу, которую пересекать нельзя. Мы продвигались с Запада, русские – с Востока. Посередине – немцы. Зажаты в тиски. Иногда мы не встречали противодействия и проходили через населенные пункты напролом, как стрела через тело кролика. Иногда немцы при поддержке французов-Вишийцев сопротивлялись отчаянно. А нам, англичанам и русским, наступавшим на них с двух сторон, главное было ненароком не задеть друг друга. Вот чего я боялся больше всего. Чтобы в этой жуткой неразберихе не подстрелить кого-нибудь из Красной Армии и не войти потом с ними в боевое столкновение. А такое, как рассказывали очевидцы, тоже случалось.
Так с чего же начать? С мирной жизни в Ричмонде? С учебы в Оксфорде? С любимой девушки? С дружбы с Джесси, моим названым братом? Как давно это было! Хотя прошло всего десяток лет, а может пятнадцать. А кажется, была совсем иная жизнь, чужая. Война напрочь изменяет твои временно-пространственные координаты, делает из одного человека двоих, а то и троих. Вот и живут в тебе несколько похожих на тебя людей, как в плену, а ты с ними то споришь и воюешь, то заключаешь перемирие. Но согласия нет. А наступит оно только в старости, перед смертью; она мирит всех.
Может быть, начать надо с апреля 1941 года, когда шли бомбардировки Лондона, а я вместе с Джесси Оуэнсом, защищал английское небо из зенитных орудий? Или с тех мест, где мне приходилось биться не на жизнь, а на смерть – в Африке, во Франции, в Бельгии и Германии?.. Где удалось выжить. Нет, главное во все времена, все-таки, не война, а любовь. Но не все это понимают. А может быть, не любовь, а любимое занятие? А было ли оно у меня, кто знает…
Последние дни войны… Но раз уж удалось преодолеть их и победить, то я знаю, что выдержу и эту тюрьму – в советском плену. Гораздо страшнее плен души, чтобы душа была свободной. А время, проведенное в лагере, станет тернистой полосой, по которой мне необходимо пройти, чтобы я мог начать разгадывать тайны жизни. А их много. По крайней мере, мне кажется, сейчас, что именно заключение, неволя дает сакральное мистическое осознание бытия. А пока хочется ясно осмыслить минувшие события, чтобы разобраться в прошедшем, понять настоящее и не потерять уверенность в будущем. Грядущее зависит от того, насколько ты познал прошлое. Жаль, не могу пообщаться с Ньютоном!
Однако начать лучше всего… с самого начала. С главного. Ведь что главнее твоего появления на свет? Я родился 9 января 1916 года в Ричмонде, предместье Лондона. В состоятельной семье, гордящейся своей родословной, но не слишком богатой. А вот мой друг Джесси Оуэнс рос в обычной интеллигентской семье, потом в сиротском приюте в одной из типичных улочек Сити, пока его не усыновили мои родители. Моя мать всегда занималась филантропией и курировала этот приют, а отец даже немного был знаком с родителями Джесси, врачами, не слишком близко, но они вместе посещали спортивные состязания по автогонкам, пока однажды не произошла трагедия. Одна из машин вылетела с трассы и врезалась в толпу. Погибло несколько человек, в том числе и родители Джесси. Сам гонщик чудом остался жив. Пострадал и мой отец, он провел в больнице около двух недель. А когда вышел, узнал, что случилось с мальчиком. И они с мамой, не сговариваясь, решили забрать его в наш дом.
Мне было тогда десять лет, Джесси – на год старше, но с тех пор мы росли вместе. И никаких сословных различий между нами никогда не было. Мои родители хоть и были аристократы, но вполне демократичные люди. И воспитывали нас обоих в том же ключе. Вначале отец хотел, чтобы Джесси носил его фамилию, но потом передумал, так как посчитал, что это будет неуважением к памяти его отца, и оставил всё, как есть. Но все равно мы были как братья. И ближе друга у меня не было.
Можно сказать, что мы были неразлучны всегда. Вместе поступили в Оксфорд, правда, на разные факультеты. Да и любили одну и ту же девушку – Мэри Леннокс. И в армию пошли вместе. Нам так хотелось повоевать всерьез, а потом встретить победу и насладиться спокойной мирной жизнью в Ричмонде, рядом с великолепным парком. Но почему-то Джесси чувствовал, что нас обоих убьют. И говорил мне об этом на полном серьезе; уж слишком кровопролитная и беспощадная предстояла война. Верю ли я сам в предчувствия? Нет. Ни о каком плене даже мыслей не было. Но случилось то… что случилось… Дальше – тишина. Как сказал гениальный Шекспир устами моего любимого Гамлета… А из всех литературных персонажей я хотел бы походить именно на него. Он сумел всё преодолеть и победить. Пусть даже ценой собственной жизни…
Красногорский Особый оперативно-пересылочный лагерь военнопленных № 27, 22 мая 1945 года, деньТри военных грузовика миновали шлагбаум и въехали на территорию лагеря, опоясанную колючей проволокой и невысоким сеточным забором. Военнопленных выгрузили и выстроили на плацу. Около часа они напряженно ждали, когда же, наконец, заработает советская бюрократическая машина. Но работала она издевательски медленно, со скрипом, хотя основательно и надёжно. А пока можно было осмотреться.
По периметру и на углах стояли металлические вышки, в каждой из которых зорко дежурил солдат-охранник, вооруженный винтовкой Мосина. Центральное место во дворе занимал большой каменный двухэтажный дом – «Комендатура лагеря № 27». Так было написано крупными буквами на русском и немецком языках на прибитой к стене над входом доске, а сзади от нее две дюжины длинных деревянных бараков, выкрашенных в ядовитый зеленый цвет. Рядом с ними росли деревья, но их было немного. В основном, чахлые березки с редкой листвой. Наверное, тоже считали себя заключенными под стражу, потому и не развивались как надо. В отличие от их сестер по ту сторону колючей проволоки. Узницей может быть и растение в цветочном горшке.
Справа и слева от комендатуры виднелись другие здания, всего не разглядишь. Вообще, территория лагеря была довольно обширной и тут давно функционировали библиотека, кухня, столовая, спортивная площадка, баня, лазарет и кинозал. Но это уже совсем непозволительная роскошь для побежденных немцев. Хотя кто их поймет, этих русских! Так, должно быть, думали вновь прибывшие военнопленные.
Они тревожно переминались с ноги на ногу на плацу перед комендатурой. У многих из них за спиной висел походный ранец с личными вещами. У Питера Стоуна, как у некоторых, его не было. Выстроенные на плацу военнопленные ждали уже довольно долго. С любопытством оглядывали место своего вынужденного временного обитания. Мало интересного, лагерь как лагерь. Хотя с чем сравнивать? В прошлом ни у кого из них ничего подобного не было. Однако в неволе твое внимание привлекает любая мелочь, и всё ранее привычное ты видишь и осознаешь по-новому. И внезапно понимаешь, что тебя касается не только то, что нас окружает и происходит в этом мире, но также и то, чего нет и не видно, но может произойти.
А невдалеке от смотрового участка скопилась другая группа военнопленных – старожилов лагеря, и с не меньшим любопытством наблюдала за новичками. Перешептывалась. Большинство было одето в свою военную форму Вермахта, но без погон, шевронов с нашивками и знаков отличия. И, разумеется, без наградных орденов, медалей и железных крестов, хотя наверняка они имелись у всех. А довольно поношенные и застиранные мундиры были самых разных оттенков и цветов, что говорило о принадлежности к тому или иному роду войск. Пехотинцы, лётчики, танкисты, саперы, егеря. Был даже один «фиолетовый» военный священник-капеллан. Да еще парочка «лимонно-желтых» связистов и «голубой» юрист. Словом, полная радуга и еще что-то. Не было только черного цвета – «СС» содержался в других специальных учреждениях.
Среди военнопленных, впрочем, были и такие, которые сменили свою униформу на рабочую одежду, выданную администрацией лагеря. Простые серые холщовые рубахи, штаны, сапоги, тяжелые ботинки. Одежда эта выглядела более опрятной и свежей, да и пуговицы занимали свое положенное место, не то, что «убежавшие» с некоторых кителей и мундиров тех, кто предпочел не расставаться с прошлым. Уж лучше потерять пуговицу, чем последнюю связь-ниточку с Вермахтом. Но все они, и те, и другие, были гладко выбриты, накормлены и чисты, в отличие от вновь прибывших, заросших щетиной, грязных и измученных долгой дорогой на Восток.
Рядом с комендатурой был вбит столб с перекладиной, напоминающий виселицу. Но вместо веревки с петлей на ней висел средних размеров чугунный колокол, который при сильных порывах ветра начинал раскачиваться и звенеть. Тогда в ответ ему раздавался вороний гвалт с облюбовавших самую высокую и ветвистую березу птиц. Час назад колокольным звоном и были встречены въехавшие на территорию лагеря грузовики. Только раскачивал чугунный язык вышедший из комендатуры солдат; так здесь было принято при каком-либо оповещении или процедуре. Общий сбор, отбой, прием пищи или что иное.
На дверях комендатуры и в каждом бараке висело расписание дня, обязательное для всех заключенных:
«7.00 – подъем, уборка помещений
8.30–9.30 – завтрак
9.30–16.30 – работа на территории пункта
16.30–18.00 – обед
18.30–21.00 – культмассовая работа
21.00–22.00 – ужин, вечерняя поверка
23.00 – отбой».
– Добро пожаловать в ад! – выкрикнул кто-то из военнопленных, кажется, Рёске, выражая общее настроение.
Заключенные тихо переговаривались, переминаясь с ноги на ногу. Стоун, неплохо знавший немецкий язык, не вмешивался в разговор, хотя за две с половиной недели тряски в товарняке ему изрядно надоело молчать. Было тяжко и муторно. Но о чем с ними говорить? Они – чужие. Надо искать встречи с советскими офицерами. Они обязаны их всех как-то зарегистрировать. Вот тогда-то всё и разъяснится… Ждать осталось недолго. Может быть, даже сегодня его уже и отпустят. Да еще и извинятся…
Тяжелые ритмичные звуки, исходящие от чугунного колокола, сорвали с деревьев стаю ворон. Шеренги военнопленных по команде сержанта-охранника подтянулись, выровнялись. Через пару минут вслед за солдатом-звонарем из дверей каменного дома вышла группа советских офицеров НКВД. С десяток человек, все с каким-то строгим прищуром и тяжелым взглядом. Старший по званию – полковник. Среди них было и несколько неприглядных женщин в военной форме того же ведомства. Некоторое время все они с интересом внимательно рассматривали вновь прибывших, словно это были экземпляры в зоопарке. Наконец, вперед выступил коренастый капитан средних лет с грубыми чертами лица. Как выползший из-под земли корень дуба.
– Прошу всех выстроиться в четыре ряда, подровняться и сохранять спокойствие! – Громко объявил он на хорошем немецком языке. – Живо!
Питер Стоун попытался пробиться вперед, в первую шеренгу, чтобы на него смогли обратить внимание русские офицеры, но протиснуться между двумя танкистами было невозможно. Рядом с Питером стоял аскетичного вида худой мужчина, лет пятидесяти пяти. Рихард Кох, как уже успел узнать по пути в лагерь Стоун. А за ним – злобный толстяк Рёске и унтер Шнитке, с которым он перекинулся за время своего вынужденного пребывания на перроне Белорусского вокзала парой слов.
– Вы находитесь на территории Особого оперативно-пересылочного лагеря номер двадцать семь, в его Третьем отделении, которое через месяц будет переведено в столицу. И вы все отправитесь туда же. Меня зовут Александр Волков, и перед вами начальник этого лагеря полковник Ясин! – Грозно продолжил капитан, указывая на полковника. – Мы приветствуем вас на территории Советского Союза. Вас привезли сюда, чтобы вы восстанавливали то, что разрушили, а дальше… Посмотрим и разберемся с каждым в отдельности.
Последние слова заставили пленных внутренне напрячься, насторожиться. Редкие улыбки с лиц стерлись, по рядам военнопленных пробежал легкий шумок. Капитан усмехнулся и продолжил:
– Я координатор Третьего отделения лагеря по вопросам военнопленных. Готов выслушать каждого с его личными просьбами или проблемами по понедельникам до или после ужина. Через месяц! – Добавил он. – Как я уже сказал, а пока вы остаётесь здесь. Это связано с протокольными мероприятиями, регистрацией, дезактивацией и прочими процедурами.
Полковник подошел к нему и что-то тихо сказал. Капитан стал еще более серьезным, вытянулся и перевел слова своего начальника:
– Советский народ, советское правительство и лично товарищ Сталин предоставляют вам возможность искупить свою вину перед СССР и реабилитироваться. Любая попытка к бегству будет пресечена соответствующим образом. По беглецу будет открыт огонь на поражение… Без предупреждения!
Питер Стоун смотрел на одну из женщин в форме капитана НКВД – кого-то она ему очень напоминала. На вид ей было не более сорока лет. Редкое среди остальных симпатичное лицо, тонкие черты, немного стыдливый взгляд. Невысокая, хрупкая, военная одежда висела на ней как-то мешковато. Ей бы в вечернем платье на каком-нибудь балу щеголять, а не здесь, в лагере. Интересно, кем она тут работает? И главное – зачем? Врач, интендант, следователь?
А капитан Волков заканчивал свою вступительную речь:
– Сейчас вы получите по куску мыла из расчета на один месяц. Тем, кто не имеет сменной одежды, выдадут лагерную. Она хорошая, прочная, удобная, хотя и не от Хьюго Босс, как вы привыкли. Баня раз в неделю и, соответственно, раз в неделю у вас будет горячая вода.
Питер Стоун всё же раздвинул руками танкистов и пробился вперед, сделал несколько шагов к группе советских офицеров, но был остановлен жёстким взглядом Волкова и его словами:
– Стоять! Со всеми вопросами потом. Я уже сказал – когда. Через месяц. Подвожу итоги: сейчас вы сдадите всё, что имеете при себе, включая часы, награды, знаки отличия, погоны. Одежду, предметы личной гигиены, столовые приборы, запасы табака, зажигалки и фляги можете оставить. Фотокарточки тоже. Затем пройдет регистрация, краткая, формальная: вопрос – ответ, чтобы завести на каждого из вас персональную карточку. Советую говорить правду, ложь всё равно потом обнаружится. При более тщательной проверке. И будет только хуже. Предупреждаю заранее. Ответственный за регистрацию – старший лейтенант Коренев с помощником.
Волков указал рукой на двух офицеров, слегка наклонивших головы. Один из них был в очках.
– Ну, а после картотеки пройдете дезинфекционные и банные процедуры. Стричься и мыться. Вас осмотрит военный врач Топорков, вот он, а это фельдшер и медсестра. Мыло и белье получите там же. Всё это находится в ведомости Натальи Павловны, заведующей хозблоком, – он указал рукой в сторону миловидной женщины-капитана, на которую обратил внимание Стоун.
«Значит, все-таки, интендант, – с облегчением подумал он. – Хорошо, хоть не дознаватель».
– А затем дежурные распределят вас по свободным местам в бараках. Старших офицеров отправят в Первое отделение, все остальные: младшие офицеры, солдаты, сержанты – в виде исключения, в Третье отделение, минуя Второе. И это всё на сегодня. Разойдись!
Последнее слово прозвучало как выстрел.
Лондон, Ричмонд, поместье семьи Стоун. 25 июня 1933 года, полденьНа зеленой лужайке, с аккуратно подстриженными кустарниками и ухоженными цветниками, перед красивым двухэтажным домом середины XIX века в классическом викторианском стиле с большим крыльцом два юноши азартно гоняли мяч. Воротами служили каменная скамья и небольшая стела с латинской надписью: «Вальтер, самый верный борзой». Газон тянулся к искусственному пруду с типичным горбатым мостиком и ивами у основания. За ним расстилался небольшой парк с лиственными и хвойными деревьями, геометрической формой максимально приближенный к естественному природному ландшафту. Каменные аллеи и извилистые тропинки уютно дополняли его.
Всюду, тут и там, виднелись декоративные стелы с фонарями, в окружении вазонов с розами и цветниками, три беседки и каменные урны, расположившиеся в тени величественных ливанских кедров. А перед самим домом – три постамента с мраморными бюстами Веллингтона и Наполеона. Странный выбор в отношении последнего, поскольку хозяин предместья лорд Мэтью Вильям Стоун никогда не считал его своим кумиром. Но отдавал должное побежденному сильному врагу. А третий постамент оставался пустым. Злые языки поговаривали, что это место предназначалось для него самого, естественно, после смерти.
Воротами, в принципе, могли бы послужить любые два дерева, но всё дело в том, что на скамье сидела очаровательная девушка в атласном голубом платье и белой ажурной шляпке и посматривала в открытую книжку. Делала вид, что увлечена чтением, но больше следила за молодыми футболистами. А те тоже притворялись, что увлечены игрой, однако, кроме мяча здесь был магнит попритягательней. А ясный солнечный день, да и вся жизнь впереди, обещали много чудес и радости. И счастья.
– Ладно, Джесси, хватит пинать мяч без толку, – сказал, наконец, Питер, останавливаясь. И крикнул, обращаясь к девушке на скамье: – Мэри, пойдешь с нами в гребной клуб?
– И буду там смотреть, как вы веслами воду месите? – Задорно откликнулась она. – Тоже мне – удовольствие! Нет уж, я лучше Китса дочитаю.
– И что ты в нем нашла? – проворчал Джесси. – Йетс, на мой взгляд, гораздо тоньше. А уж его «Ветер в камышах» вообще… Певец «кельтских сумерек» одним словом. Не даром Нобелевскую премию получил.
– А по мне так ничего лучше Киплинга нет, – заявил Питер. – Поэт-воин. Слава Британии – его стихия.
– Но в армию так и не попал из-за близорукости, – насмешливо возразил его друг.
– А твой Йетс – оккультист. И Киплинг Нобелевскую премию еще раньше взял. Первым из англичан.
– Хватит вам спорить! – остановила их девушка. – Нашли чем меряться. Готовились бы лучше к Оксфорду. Экзамены на носу. Письменную работу одолеете? Эссе напишите? Или только футбол и бокс с греблей на уме? Ты, Питер, уже выбрал факультет?
– Он – за тобой, куда ты – туда и Пит, – усмехнулся Джесси. – Лингвистический или любой из гуманитарных наук. Ему всё равно. Решать тебе.
– Ты за меня не отвечай, – смутился юный лорд. – Сам-то с нами или всё на биологию и медицину тянешь?
– У меня отец и мать были врачами, и дед тоже, не то, что твои предки, сэр Стоун. Одни воины и управленцы, как твой папа. Так что, пожалуй, и я не стану менять традицию.
– Мы с тобой одной крови, ты и я! – Возразил Питер.
– Я ведь говорил, без Киплинга никуда! И все-таки тебе лучше идти в Вулидж, Королевскую военную академию. Прямая дорога. Уинстон Черчилль, хоть и дальний ваш родственник, это бы одобрил, ведь и сам выходец из Сандхерста.
– А с кем теперь воевать-то? С русскими?
– С Гитлером, ответил Джесси.
– Что Гитлер, он разве опасен?
– Опасен, бестия, еще заявит о себе. Чувствую, что большая война ещё впереди, но против Британии кость слаба. Сломается.
– Войны не будет, – вмешалась в разговор Мэри. – Наши политики всегда найдут правильное решение, договорятся и привезут нам мир из любой точки.
– Не верю я никому, – вновь проворчал Джесси. – А к большой войне готовиться нужно. Врачи понадобятся. И офицеры. Вы его речи слышали, видели его? Он же больной, безумец.
– Надо будет – повоюем, – твердо заявил Питер. – Но сейчас ни о чем таком думать не хочется. Здоровью вредит. А насчет Гитлера ты ошибаешься.
– Нет, мой друг! Версальский договор его не устроит, за Великой войной придет другая! У нас есть всё, колонии по всему миру, протектораты, доминионы и прочие владения, у русских земли на тысячи миль. Посмотри на французскую карту… Гитлер захлёбывается от зависти. Немцы опоздали; мир поделен давно, они остались с фигой и пытаются сесть за стол, где все места заняты.
– Насчет «здоровья» будешь теперь обращаться только к Джесси, – мило улыбнувшись, проворковала девушка, пытаясь поменять тему. – Станешь его первым пациентом.
– Не первым. Нулевым, – поправил Питер.
– Почему «нулевым»? – Удивился Джесси.
– Первый может оказаться и последним. У нерадивых эскулапов часто именно так и бывает в таком сложном деле, как медицина. А вот за нулевым пациентом очереди нет, – пояснил Питер. И засмеялся своей шутке. Потом добавил: – И сколько бы не было за моей спиной больных, при сложении с нулем их число не изменится. Так что твоей врачебной практике эксперименты надо мной нисколько не повредят.
– Остряк! – отмахнулся от него Джесси. – Ну а ты, Мэри? Будешь у меня лечиться?
– Сначала заболеть надо. К тому же, я ворчунов не люблю.
– А весельчаков? – спросил Питер.
– Их больше.
– Тогда… Выходи за меня замуж. Я серьезно. Заявляю при всех: при Джесси и перед прахом Вальтера, любимой гончей моего прадеда.
Девушка ответила не сразу, сначала внимательно посмотрела на него:

