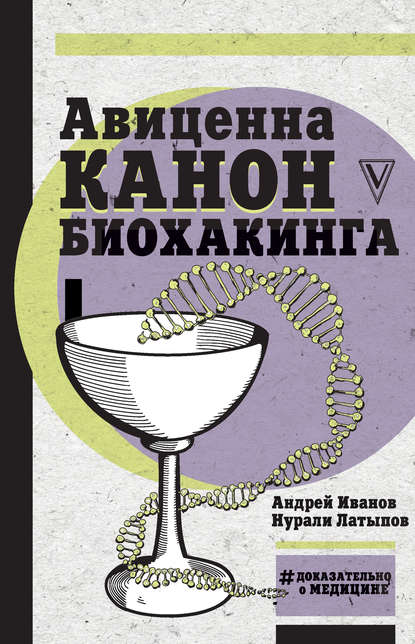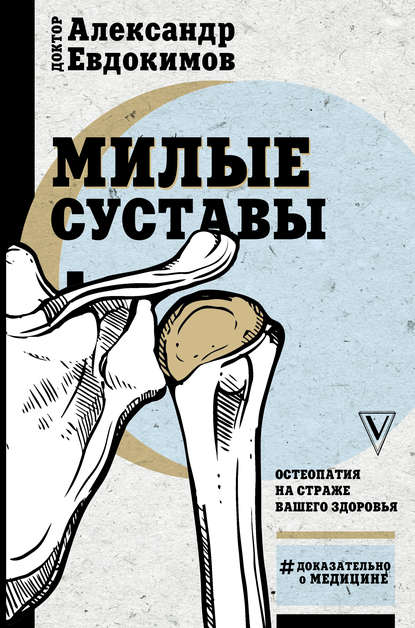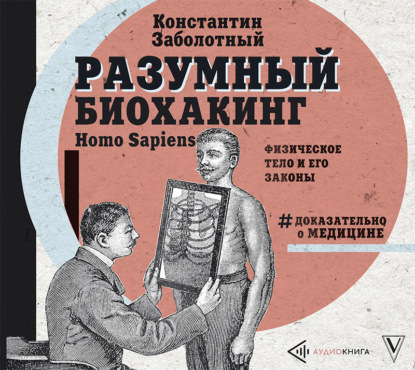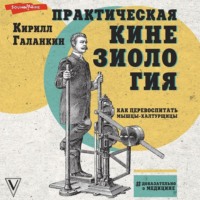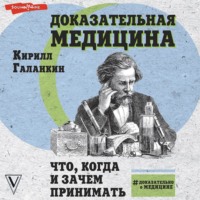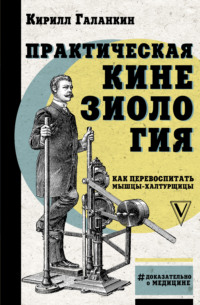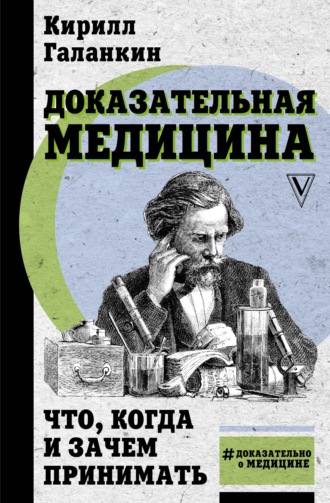
Полная версия
Доказательная медицина. Что, когда и зачем принимать
После трехлетнего «общего» курса следовал пятилетний специальный. Пять лет – значительный срок. За это время многому можно научиться, при условии что обучение организовано правильным образом. Но если все эти годы штудировать древние трактаты и состязаться друг с другом в диспутах, то толку от такого обучения не будет никакого.
Что же касается хирургов, то они обучались в хирургических школах, которые были похожи на все ремесленные школы своей практической направленностью. Здесь учили делать дело – пускать кровь, лечить раны и переломы, вправлять вывихи, вскрывать нарывы и т. п. Никакой логики с риторикой хирургам не преподавали. Более того, они учились не на благородной классической латыни, как студенты университетов, а на своих родных языках. Великий хирург Амбруаз Паре, о котором пойдет речь ниже, писал свои трактаты на французском, потому что латыни не знал. Но это не помешало ему стать первым хирургом короля и внести большой вклад в науку.
Сколько веревочке не виться, а концу все равно быть. В XVI веке в европейской медицине началась революция. Она получилась медленной, «ползучей» и растянулась почти на два столетия, но что такое два столетия в сравнении с двумя тысячелетиями господства теории Гиппократа? Сущая мелочь!
Первым из великолепной пятерки революционеров стал Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, вошедший в историю медицины под псевдонимом Парацельс («приблизившийся к Цельсу»). Он родился в 1493 году в швейцарском городе Эг. Отец Филиппа был врачом, а мать – патронажной сестрой, так что можно сказать, что мальчик с детства «варился в медицинском котле».
Имя Парацельса окутано множеством легенд, потому что он, помимо медицины и философии, занимался еще и алхимией, активно искал философский камень и вроде бы даже утверждал, что нашел его. Но нас с вами интересует не великий алхимик Парацельс, а врач, призывавший коллег к тому, что четырьмя столетиями позже назовут доказательной медициной.
Звезда Парацельса взошла в городе Базеле, где он совмещал преподавание в университете с должностью городского врача[14].
Парацельс читал лекции на немецком языке, а не на латыни, что нравилось студентам и вызывало возмущение у коллег. Но еще больше нравилось (или возмущало) то, что он преподавал. Программа Парацельса была основана не на классических трудах древних авторов, а на его собственном опыте. Это было совершенно новое знание, имевшее практическую направленность. Огромное значение Парацельс придавал химии. Он изучал действия различных химических веществ на организм и был сторонником простых по составу лекарств. Это противоречило общепринятым взглядам. Хорошее лекарство по средневековым представлениям должно было иметь сложный состав, желательно – с включением каких-либо редких компонентов вроде порошка, изготовленного из мумии, или толченого рога единорога. Необходимость каждого компонента была обоснована при помощи логики… Ну, вы понимаете.
Вот что говорил коллегам Парацельс: «Вы, которые изучали Гиппократа, Галена, Авиценну, думаете, будто все знаете, а на самом деле вы ничего не знаете! Вы прописываете лекарства, но не имеете представления о том, как их приготовляют! Только химия способна решить задачи физиологии, патологии и терапии, а без химии вы обречены на блуждание в потемках. Вы, врачи всего мира… Это все вы должны следовать за мной, а не я должен следовать за вами».
Как городской врач Парацельс тоже успел отличиться. Он решил упорядочить аптечное дело в Базеле, что вызвало большое недовольство среди владельцев аптек. Парацельс считал, что в аптеках должны продаваться только эффективные лекарственные средства, которые реально помогают больным, причем по доступным ценам. Дело закончилось тем, что он лишился обеих должностей и был вынужден покинуть Базель. Оставшуюся часть жизни Парацельс занимался врачебной практикой и писал научные труды.
С одной стороны, может показаться, что Парацельс ничего полезного не сделал, а всего лишь возмутил спокойствие в городе Базеле. Но с другой стороны, он сделал очень много. Парацельс был первым ученым, который публично заявил, что современная ему медицина никуда не годится, и призвал коллег к изучению практических наук. Кто-то должен был сказать: «А король-то голый!», и этим кем-то стал Парацельс[15]. Но Парацельс не только «возмущал спокойствие». Он предложил свою теорию происхождения болезней вместо отвергнутой им теории четырех телесных соков. Парацельс считал, что живые организмы состоят из химических элементов, которые в здоровом состоянии находятся в равновесии, а при болезнях равновесие нарушается. Воздействовать на одни химические элементы можно при помощи других. Парацельс первым начал использовать для лечения конкретные химические вещества, а не многокомпонентные снадобья. Вещества вводились в практику только после того, как Парацельс убеждался в их эффективности. Мнения авторитетов для Парацельса ничего не значили, на первом месте у него стоял эксперимент.
Парацельса считают отцом современной фармацевтики, потому что именно он заложил основы этой науки. Но можно присвоить Парацельсу и титул отца доказательной медицины, поскольку его научные взгляды были сугубо «доказательными».
Вторым «революционером» стал Андреас Везалий, родившийся в 1514 году в Брюсселе. Подобно Парацельсу, Везалий тоже происходил из врачебной семьи, но не простой, а аристократической. Отец Везалия был придворным аптекарем, дед и прадед – известными врачами, а прапрадед – ректором Левенского университета.
Везалий специализировался в области анатомии и хорошо представлял, сколько неточностей содержится в учебниках, написанных древними авторами. Анатомию было принято изучать по галеновскому трактату «О назначении частей человеческого тела». Поскольку в Древнем Риме вскрытие трупов считалось преступлением, Галену приходилось изучать анатомию на свиньях, собаках и обезьянах, что привело к многочисленным ошибкам. Хватало ошибок и у других древних авторов (вспомним хотя бы про Аристотеля и зубы). Везалий решил исправить все ошибки и дать врачам правильное анатомическое знание. Итогом его многолетнего труда стал семитомный трактат «О строении человеческого тела», который был напечатан в Базеле в 1543 году. Везалий не только исправил более двухсот ошибок, содержащихся в классических научных трудах. Он составил первый анатомический атлас в истории медицины, основанный на изучении человеческого тела. Человеческого, а не чьего-то еще! В наше время такое уточнение звучит странно, но давайте не будем забывать о том, что и в XVI веке раздобыть труп для исследования было не так-то уж просто. Везалий в этом отношении находился в привилегированном положении, поскольку был профессором медицинского факультета и преподавателем анатомии.
Научная общественность, которую лучше было бы назвать псевдонаучной общественностью, встретила публикацию трактата «в штыки». Программным документом критиков стал памфлет под названием «Опровержение клеветы некоего безумца на анатомические работы Гиппократа и Галена, составленные Яковом Сильвиусом, королевским толкователем по медицинским вопросам в Париже». Кстати говоря, автор памфлета преподавал анатомию Везалию, когда тот учился в Парижском университете.
Примечательно и показательно, что никто из критиков не удосужился проверить, клевещет ли «некий безумец» на анатомические работы Гиппократа и Галена или же говорит правду. Проверить было просто, но средневековые ученые не любили простых решений настолько же, насколько не любили покушений на авторитет «классиков». Везалий приглашал критиков на публичные вскрытия, но этого приглашения никто не принял. Зачем? Ведь и так ясно, что Гиппократ с Галеном не могли ошибаться. Бедному Везалию пришлось оставить преподавание и поступить на службу к императору Священной Римской империи Карлу Пятому.
Хорошо еще, что критики не организовали уничтожение трактата Везалия. Сжигать книги неугодных авторов в то время было модно. К слову будет сказано, что грешил этим и Парацельс. В Базеле он не то организовал сожжение студентами «ненужного хлама» – трактатов древних авторов, не то просто присутствовал при этом. Трактат Везалия можно сравнить с миной замедленного действия, подложенной под здание схоластической медицины. Со временем все больше и больше врачей убеждалось в том, что Везалий был прав. Особой популярностью трактат пользовался у хирургов. Хирургов, как ремесленников, научные дискуссии волновали мало – им нужно было понимать, как вести скальпель.
Итак, Парацельс сказал: «Коллеги, вы ничего не знаете и не можете помочь вашим пациентам! Учитесь у природы! Изучайте химию! Используйте лишь то, что эффективно!»
Везалий наглядно показал и доказал, что классики медицины могли ошибаться и ошибались часто.
Третьим «революционером» стал Амбруаз Паре, великий французский хирург, которого считают и отцом современной хирургии, и отцом современного акушерства, и отцом судебной медицины… И надо сказать, что считают вполне заслуженно. Но мы с вами не будем разбирать все заслуги первого хирурга короля, а коснемся только того, что имеет ценность с точки зрения доказательной медицины.
Придворную должность первого хирурга короля Амбруаз Паре получил в 1562 году и указывал ее в своих медицинских трудах – «это пишет (написал) Первый хирург короля». Не стоит подозревать Паре в чрезмерной гордыне или тем паче в чванстве. Он указывал придворный титул в научных трактатах для того, чтобы придать им больше веса. Обратите внимание: своим трудам придать, а не своей личности. Хирургия тогда считалась ремеслом, а не наукой, да вдобавок Паре писал свои труды на французском, а не на латыни. Упоминание о том, что автор является первым хирургом короля Франции, привлекало к трудам Паре внимание научной общественности. Многие труды Паре, в том числе и главный его трактат «Пять книг о хирургии», были переведены на латынь.
Первый трактат Паре, опубликованный в 1545 году, назывался «Способ лечить огнестрельные раны, а также раны, нанесенные стрелами, копьями и др.». Он был посвящен вопросам военной хирургии и основывался на опыте, полученном автором во время первой военной кампании.
Историю о том, как молодой армейский хирург изменил общепринятую методику лечения огнестрельных ран, можно считать классической притчей доказательной медицины.
В Средние века свежие огнестрельные раны прижигали (заливали) кипящим маслом. Хирурги верили в то, что масло якобы очищает раны. В первую очередь раны нужно было очищать от продуктов сгорания пороха, которые оставались на пуле после выстрела. Эти продукты считались ядовитыми[16].
Однажды у Паре закончилось масло, и он использовал вместо него холодную смесь из яичного желтка, розового масла и скипидара. «Той ночью я не мог спать спокойно, – писал Паре, – поскольку боялся, что раненые, которым я не прижег раны маслом, умрут от заражения ран. Рано утром я пошел к своим пациентам и, к своему удивлению, обнаружил, что те, кому я обработал раны новым средством, хорошо отдохнули за ночь, они практически не чувствовали боли, раны их не воспалились и не опухли. Тех же, кому я обработал раны горячим маслом, мучили лихорадка и сильная боль, а вокруг ран ткани опухли. И тогда я решил, что никогда больше не стану прижигать жестоко раны у жертв огнестрельного оружия».
Паре был не единственным хирургом, испытывавшим недостаток масла для обработки ран. Во время масштабных сражений масла всегда не хватало. Но никто до Паре не дал себе труда сравнить заживление обработанных маслом ран с заживлением необработанных. Хирурги верили в то, что раны надо заливать кипящим маслом, и не задумывались над тем, насколько это полезно и полезно ли оно вообще. А ведь подобная обработка не только ухудшала заживление раны, но и причиняла сильную боль. Некоторые пациенты умирали во время прижигания ран от болевого шока.
Кипящее масло также применялось и при ампутациях конечностей – для остановки кровотечения из послеоперационной раны. Кровотечение останавливалось, но какой ценой! Паре предложил перевязывать крупные кровеносные сосуды выше места ампутации. Когда крупные сосуды «выведены из игры», с кровоточащими мелкими сосудами справиться несложно – их можно перевязать прямо в месте рассечения или же прижать давящей повязкой. Доказательная медицина призывает использовать наиболее эффективные и безопасные методы, не так ли?
Заслуги Паре перед наукой были настолько велики, что в 1554 году его (цирюльника-хирурга!) приняли в Парижскую врачебную гильдию.
У хирурга Паре имелись и сугубо терапевтические достижения. Будучи придворным врачом, он интересовался токсикологией, наукой о ядах и противоядиях. Интерес вполне закономерный, ведь яды были излюбленным оружием заговорщиков.
Универсальным противоядием с древних времен считался безоар – камень пищеварительного тракта, образованный чем-то, не способным перевариться (волосы, грубые растительные волокна, семена растений). У человека безоары образуются очень редко, а у жвачных животных гораздо чаще.
Паре сомневался в чудесных свойствах безоара, поскольку хорошо разбирался в ядах и понимал, что универсального противоядия просто не может быть. Но он не мог развенчать безоар голословно, без каких-либо доказательств. В 1567 году представился удобный случай. Одного из королевских поваров приговорили к повешению за кражу столового серебра. Паре предложил несчастному повару возможность спасти жизнь – сначала принять яд, а затем толченый безоар. Повар согласился, и, надо сказать, совершенно напрасно, потому что его агония длилась около семи часов, а в петле он умер бы за считаные минуты. Но так или иначе, а бесполезность безоара была доказана.
Выступал Паре и против лечения препаратами, изготовленными из мумифицированных трупов (да, представьте себе, был такой метод!). Вначале в лечебных целях использовались только «аутентичные» египетские мумии, похищенные из древних захоронений, но по мере роста спроса популярный товар начали подделывать. Паре писал о том, что все мумии, продающиеся во Франции, изготовлены из тел казненных преступников, и добавлял, что поддельные мумии ничем не хуже привезенных из Египта, «потому что толку нет ни от тех, ни от других».
Амбруаз Паре продолжил дело, начатое Парацельсом. Он критически оценивал применяемые методы лечения и предлагал то, в эффективности чего имел возможность убедиться на собственном опыте. Наш человек, однозначно наш, вне всяческих сомнений.
Как по-вашему, какой очень нужной, фундаментальной медицинской науки не существовало до XVII века?
Физиологии, науки о жизнедеятельности организма, отдельных его органов и их систем.
Все высосанные из пальца сведения, бытовавшие в медицине с древних времен, научными не являлись. Взял кто-то (не будем указывать пальцем, кто именно) и решил, что головной мозг служит для охлаждения крови, идущей к желудку и сердцу… Зачем в таком случае природе или высшим силам размещать мозг далеко от сердца и желудка, автора этой, с позволения сказать, концепции не интересовало[17]. Кстати говоря, Аристотель считал, что в головном мозге образуется сперма. Но в другом своем трактате он писал, что сперма образуется из конечных продуктов пищеварения. Вот вам наглядный пример противоречивости античной медицинской «классики».
Отцом физиологии считается английский ученый Уильям Гарвей. Окончив медицинский факультет Кембриджского университета, Гарвей пополнил свое образование в Падуанском университете, где заинтересовался исследованием кровообращения. В 1618 году Гарвей прочел в Лондоне лекцию, в которой говорилось о том, что артерии и вены составляют единую замкнутую кровеносную систему, в которой кровь движется по двум кругам – малому (легочному) и большому. Это знание шло вразрез с учением Галена, который считал артериальную и венозную кровь совершенно разными субстанциями. Артериальная кровь в представлении Галена разносила по организму тепло и некую жизненную энергию, а венозная кровь питала внутренние органы.
Лекция, противоречившая взглядам Галена, успеха не имела. Собственно, ничего иного и не следовало ожидать. Но Гарвей продолжал свои исследования и десять лет спустя опубликовал во Франкфурте-на-Майне трактат под названием «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором полностью описывался путь крови в организме.
В отличие от лекции, трактат заметили, но только для того, чтобы раскритиковать. Профессор медицинского факультета Парижского университета Жан Риолан (младший) уделил труду Гарвея много внимания в своем «Руководстве по анатомии и патологии», которое было напечатано через 20 лет после публикации работы Гарвея. Риолан, образно говоря, разнес теорию кровообращения Гарвея «в пух и прах», причем сделал это с научных позиций, тщательно подобрав аргументы. Считается, что именно критика Риолана отвратила Гарвея от физиологии и вынудила заняться эмбриологией, наукой о внутриутробном развитии. Но тем не менее еще при жизни Гарвея его трактат получил высокую оценку у таких передовых и известных европейских ученых, как, например, Рене Декарт[18] и Санкториус[19]. А в 1654 году Гарвей был избран президентом Королевской медицинской коллегии, таким образом коллеги-соотечественники отметили его заслуги. Это избрание было чистейшим знаком уважения, поскольку Гарвей на тот момент был тяжело болен и не мог исполнять президентские обязанности.
У Гарвея была обширная врачебная практика. Лучшей рекламой ему служили не научные заслуги, а должность придворного врача короля Карла Пятого. Среди пациентов Гарвея был пятый член нашей великолепной пятерки революционеров – известный философ Фрэнсис Бэкон, известный прежде всего как основоположник эмпиризма, учения о познании мира посредством своих чувственных ощущений. Все прочие источники знания эмпиристы игнорируют, что не совсем верно, поскольку логика тоже играет важную роль в познании. Однако в XVII веке эмпиризм был не просто направлением философии, а способом борьбы со схоластичностью тогдашней науки, с логическими рассуждениями, не имеющими под собой материальной основы. Если маятник на многие века завис в одном положении, то нужно с силой толкнуть его в обратную сторону. Эмпиризм Бэкона был как раз именно таким толчком и послужил основой для научного подхода во всех областях знания. Бэкон предлагал делать выводы, опираясь на ощущения, то есть на опыт, а не на «очевидные» логические умозаключения. Он стал теоретиком новой, настоящей науки и дал всем ученым, независимо от их специальности, универсальный инструмент – свое антисхоластическое и антидогматическое учение.
Разумеется, эмпиризм нельзя идеализировать и возводить в абсолют. На основании собственных ощущений можно приходить и к неверным выводам. Достаточно вспомнить эффект плацебо, когда улучшение самочувствия наступает на фоне приема неэффективной пустышки. Вера в бесполезные способы лечения и вызванные этой верой «положительные» эффекты позволили ненаучной медицине сохранять свои позиции вплоть до второй половины XIX века. Да и в наши дни можно встретить много ненаучного-бесполезного, которое якобы помогает. Но повторим еще раз, что ценность эмпиризма в XVII веке заключалась в его противопоставлении схоластике, а также в том, что эмпиристы понимали значение опыта в процессе познания. «Все медицинское искусство заключается в наблюдениях», – говорил Бэкон. Он был настолько рьяным эмпиристом, что даже обвинял в схоластичности Гарвея, у которого одно время наблюдался.
По иронии судьбы причиной смерти Бэкона стала присущая ему склонность к наблюдениям. В шестидесятипятилетнем возрасте Бэкон простудился во время постановки опытов по изучению влияния холода на сохранность мясных припасов (он набивал снегом тушки кур и гусей и наблюдал, как долго они могут храниться). Простуда осложнилась тяжелым воспалением легкого, с которым организм Бэкона не смог справиться.
ПОСТСКРИПТУМ. Парацельс, Андреас Везалий, Амбруаз Паре, Уильям Гарвей и Фрэнсис Бэкон своей научной деятельностью произвели революцию, благодаря которой европейская медицина свернула со схоластически-догматической стези на научный путь и начала развиваться после застоя, длившегося целых два тысячелетия.
Глава четвертая
Пионер Линд
На всем постсоветском пространстве слово «пионер» ассоциируется с членами детской коммунистической организации. Но изначальное значение этого слова – первопроходец. В США так называли людей, которые переселялись на запад, осваивая новые территории.
Британец Джеймс Линд никаких территорий не осваивал. Он сделал несравнимо большее – основал метод клинического исследования и спас жизнь сотням тысяч людей. Да, сотням тысяч. Исследования Линда помогли найти средство против цинги, от которой, по самым сдержанным оценкам, в XVII и XVIII веках умерло около миллиона моряков из европейских стран. Выше уже было сказано о том, что недостаток витамина С, или аскорбиновой кислоты, вызывает нарушение синтеза коллагена, белка, составляющего основу соединительной ткани организма. Соединительная ткань называется так, потому что она соединяет клетки в органы, а органы – друг с другом. Эта ткань образует опорный каркас и наружные покровы всех органов. При недостатке коллагена соединительная ткань становится рыхлой, и организм начинает «рассыпаться». Развивается болезнь, которую называют цингой. На латыни цинга называется «скорбу́тус», и от этого слова было образовано название «аскорбиновая кислота» (приставка «а-» означает отрицание).
На начальной стадии, пока дело не зашло очень далеко, цинга лечится просто. Достаточно дать организму необходимое количество аскорбиновой кислоты, как синтез коллагена нормализуется, и симптомы быстро исчезают. Профилактика цинги тоже весьма проста. С растительной пищей взрослому человеку нужно получать 90–100 миллиграмм аскорбиновой кислоты в сутки. 50 грамм черной смородины или один крупный апельсин дадут такое количество витамина.
Но самое важное – знать причину. Или хотя бы установить, что эта болезнь лечится этим средством. Древние египтяне применяли плесень, соскобленную с хлеба, для лечения воспалившихся ран, не имея понятия о микробах и стадиях воспалительного процесса. Они просто знали, что плесень помогает при воспалении. Очень интересно – каким путем они пришли к такому выводу? Что побудило человека приложить к ране кусок заплесневелого хлеба? Мы этого никогда не узнаем, можем только строить предположения.
Первая «эпидемия»[20] цинги разразилась во время крестовых походов, участники которых подолгу питались вяленым или засоленным мясом с сухарями, то есть продуктами, в которых витамина С практически не было. Тогда, в XI–XIII веках, исследованием причин возникновения цинги никто не занимался. Да и некому, по сути, было этим заниматься, поскольку армии крестоносцев обычно сопровождали только хирурги, которые проводили симптоматическое лечение – накладывали повязки с мазями на язвы, отрезали отмершие ткани и т. п. Кто-то считал цингу наказанием за грехи, кто-то – порчей, насланной врагами, кто-то связывал ее с плохой водой… С окончанием крестовых походов цинга исчезла, чтобы вернуться во второй половине XV века с началом первых кругосветных мореплаваний. Крестоносцам было легче. Они шли по земле, а не плыли по воде, и потому не были полностью оторваны от растительной пищи. На кораблях же такой пищи не было совсем. Моряки во время плаваний питались галетами и солониной. Свежая пища, в том числе и растительная, оказывалась на столах только во время стоянок, ну немного еще можно было взять с собой и есть, скажем, в течение недели после отплытия, но не более того.
Португальский мореплаватель Васко да Гама, доплывший в конце XV века вокруг Африки до Индии, потерял из-за цинги более 60 % своего экипажа. Британец Джордж Ансон за время кругосветного плавания, растянувшегося на 4 года, потерял три четверти своего двухтысячного экипажа в основном из-за цинги. Сказать, что цинга была бичом мореплавателей, означает не сказать ничего – она была и бичом, и проклятьем, и ужасом. Состояние собственных зубов беспокоило моряков больше, чем погода и направление ветра. Если зубы начинали шататься, то это означало, что пришла цинга.
Моряки, в отличие от крестоносцев, не только страдали от цинги, но и пытались установить причину этого страшного заболевания. Было ясно, что цинга связана с длительным плаванием, но что именно ее вызывает? Сначала грешили на «плохой» морской воздух, затем стали подозревать, что цингу вызывает тяжелая матросская работа, была даже версия, связывающая цингу с вынужденным половым воздержанием… Наконец-то врачи задумались о том, а не виновата ли во всем пища, но свернули не туда – вместо того, чтобы подумать о рационе, решили, что причина в плохом переваривании пищи, вызванном не то морем, не то морской службой. Пища плохо переваривается и начинает гнить в кишечнике, это гниение постепенно распространяется по всему организму. У гниющей пищи реакция щелочная, поэтому для лечения цинги надо принимать внутрь что-то кислое.