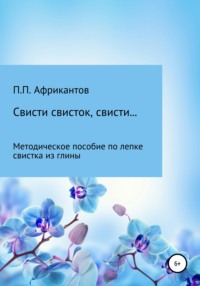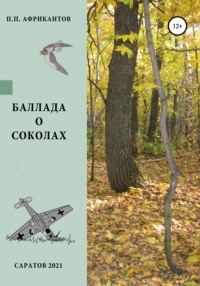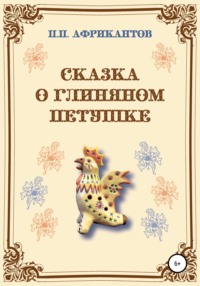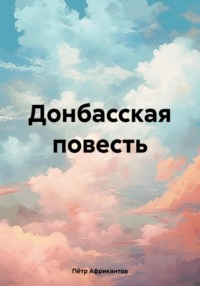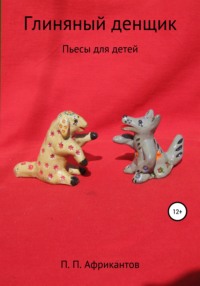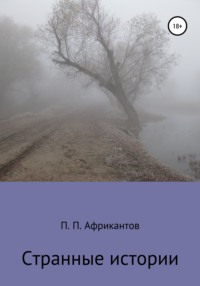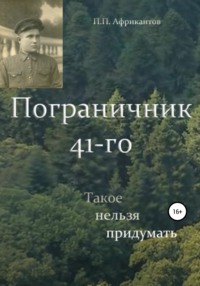полная версия
полная версияСаратовские игрушечники с 18 века по наши дни
– Совсем уж я замерзать стал, – говорит Аркадий, – и вдруг до меня звук доносится не похожий на другие звуки, каких в поле не бывает, как будто колокольчики перезванивают. Думаю: «А может быть, я уже умер, и это благовест слышится? Говорили, что человек после смерти ещё какое-то время слышит, не все органы сразу отмирают, вот я и слышу как колокола небесные трезвонят». Однако ощущаю, что не сплю и до слуха действительно эти странные звуки доходят. Непонятные звуки меня как-то встряхнули, дремотного состояния как не бывало; стал прислушиваться – как ветерок посильнее, так и звуки поярче. Вроде тройка с бубенцами. Сил уже на ноги встать не было, пополз на перезвон.
Дополз я до какой-то палки, из сугроба торчащей, вроде от неё перезвон исходит, стал ощупывать, рука на какой-то предмет на вершине наткнулась, взял предмет в руку – звон прекратился. Предмет был к этой палке привязан. Оторвал его от палки, к глазам поднёс – колокольчик игрушечный, глиняный, с коняшкой наверху, к язычку деревянная плашка привязана, её ветер раскачивает, а она, в свою очередь язычок тянет, тот бьётся о стенки, и колокольчик звенит…. Вот, оказывается, кто в поле вызванивает… Сначала обрадовался, а потом приуныл – какой мне толк от этого колокольчика,… в снег бросил, чтоб не смущал, прилёг – опять перезвон доносится, пополз на звук, где встану, где упаду и снова палка, а на конец палки тоже такой же колокольчик привязан. Понял я, что это не просто палки, а вёшки с хитроумными приспособлениями на концах, что трезвонят и путникам дорогу показывают. Обрадовался, аж зубы от радости стучать стали, за челюсть схватился, а зубной дрожи остановить не могу. Где ползком, где на карачках, где ноги переставляя, двигаюсь по вёшкам, на слух ориентируюсь, вёшки ведь в темноте не видно, а как до следующей вёшки дойду, так, тот колокольчик целую. Дополз бы или нет, не знаю, обессилел совсем, а тут мне навстречу Илларион…
– И без меня бы дошёл, – встрял мой прадед, – до дворов уж сажен сто осталось, вёшка б вывела…
– Не выбрался бы, дядька Илларион, – если б не твоя смекалка!.. – говорит племянник.
– А причём здесь смекалка, если ты на вёшки вышел, и по ним шёл?– спрашивает барин.
– А притом, что эти колокольчики сделал и к вёшкам Илларион привязал, – сказал Аркадий. – А не будь этих глиняных колокольчиков, то меня и в живых бы не было.
– Правда? – спросил строго барин, поворачиваясь к Иллариону.
– Истинная, правда, – сказал прадед. – Нехорошее это место, многие там плутают,.. вот я и решил….
А барин его перебивает:
– А я что говорил! Только охотник и мог до этого додуматься, – и опять пальцем над головой жестикулирует, – охотничью смекалку ничем не заменишь…. Игрушечники по полям зимой не ходят, это удел охотников! Вот охотник об охотниках и постарался… Верно, я говорю!..
Тут племянник из-за стола встаёт, снимает с вешалки меховую шапку с рукавицами и даёт прадеду, «от меня – возьми, не откажи».
– А от нас вольную, – говорит барыня Быстрякова, а сама слугу зовёт и приказывает, чтоб прибор чернильный с бумагами нёс.
Так мой прадед вольную и получил. А как вольную получил, то и в Малую Крюковку с женой Анфисой переехал жить, в Малой Крюковке тогда только два – три дома было. Потом Столыпин народ в Сибирь позвал. Так старшие дети Иллариона, что от Фимы родились: Николай, Алексей и сестра Акулина в Сибирь подались, а мой дед Андриян, которого из Большой Крюковки в Малую Крюковку Илларион мальцом привёз, с отцом остался. Потом у Иллариона с Анфисой ещё Фёдор народился, самый младший.
После Иллариона мой дед Андриян игрушкой стал заниматься, да по пороше с шомполкой за зайцем ходить. В роду Африкантовых охота в крови, никуда от этого не денешься. Только немного Андрияну пришлось поохотится, сменил шомполку на трёхлинейную винтовку и пошёл воевать, началась Первая мировая война. И не вернуться бы ему с тех иссечённых пулями полей, кабы не глиняная игрушка и сказка. Только это уже совсем другая история.
Как деду Андрияну сказка да игрушка жизнь спасли
Когда я был маленький, то очень любил слушать и читать сказки, я и сейчас сказки очень люблю, любили их мой отец Пётр Андриянович и дед Андриян Илларионович. Андриян Илларионович из-за любви к сказкам, можно сказать, жив остался, и даже серебряный Георгиевский крест заслужил. А дело было так. Шла Первая мировая война, мой дед находился на передовой, в окопах. Немцы много раз пытались взять штурмом русские укрепления, но это им никак не удавалось. Командир роты, в которой находился дед, был отважный офицер и к тому же большой любитель сказок. Отбили русские солдаты за день несколько атак противника, темнеть стало, немцы вроде приутихли. Солдаты наши спать стали ложиться. Отдых солдатский простой – на шинель лёг, шинелью накрылся, да кулак под голову сунул, вот и всё. Спит рота, то тут, то там храп раздаётся, одни часовые не спят, за неприятелем наблюдают, а десяток солдат и командир среди них, около костра греются, портянки сушат, сказки да байки всякие рассказывают. Мой дед глины красной в воронке от взрыва немецкого снаряда набрал, смешные фигурки про неприятеля лепит. Слепил свинью, ей немецкие погончики прицепил, а на голову каску пристроил, солдаты хохочут, забавно получилось.
Заговорились, заслушались солдатики, а дело уже за полночь. Вдруг командир как на ноги вскочит: «Газы!» – говорит. Он один под неприятельскую газовую атаку попадал и знал, что в это время делать надо. Кинулись людей будить, а будить – то и некого, все до одного мёртвые лежат, от газа погибли, остались лишь те, кто около костра сидел, да сказки слушал. Ядовитый газ к костру не мог подойти, его тёплый воздух отгонял. Что делать? Утром немцы в атаку пойдут, а защищать позиции некому. Собрал командир оставшихся в живых бойцов, кто у костра был и говорит:
– Делать, братцы, нечего, надо фронт держать.
– Как же мы его держать будем, когда нас на всю линию обороны осталось, что можно на пальцах пересчитать?– спрашивают бойцы.
– Так и немец также думает, что он нас всех газом погубил, – возразил командир, – пусть так он и думает, а мы ему поможем в этой мысли утвердиться, будем сидеть тихо, как мыши, вроде нас и нет. Как только немец в атаку поднимется – мы его до самого бруствера допустим, а потом из пулемётов и ударим.
Командир же думает: «Солдат у меня совсем – ничего осталось, только к пулемётам поставить, здесь главное, чтоб не запаниковали, нервы у солдатиков выдержали». Тут он голоса слышит, солдаты разговаривают.
– Сомнёт он нас, не устоять, – говорит один из солдат, – при живой роте и то с трудом держались.
– Если разом, да с умом ударим, как ротный говорит, то и удержимся, – заспорил с говорившим другой солдат.
– Не паникуйте, братцы, раньше времени, – говорит Андриян, нечего себя раньше времени хоронить, немца пуля тоже не милует.
Дед мой, хоть пулемётчиком и не был, но управляться с ним умел, да и товарищи его тоже были не лыком шиты, не первый день в окопах, люди стреляные. Заняли места за пулемётами, патроны приготовили, затаились, искоса в сторону моего деда поглядывают, улыбаются. Командир смотрит – улыбаются солдаты, никакого страха, а почему улыбаются, не поймёт. Можно сказать, бойцы смерти в пасть смотрят, а в глазах у всех весёлые искорки прыгают. Один из солдат командиру на моего деда кивнул, а у самого рот до ушей. Подошёл к моему дедушке командир, смотрит, а около пулемёта дед свинью в немецкой каске пристроил, что ночью у костра слепил, свинья ленту с патронами в копытах держит. «Как это понимать? – строго спрашивает офицер, а сам улыбку сдержать не может. «А пусть вторым номером у меня побудет, – говорит дед, – а то патроны подавать некому, всех товарищей потравили».
«Молодец, что солдат развеселил, – говорит командир, – весёлый солдат в бою втрое сильнее».
Только утро зарумянилось, немцы в атаку пошли. Идут во весь рост, думают, что всех русских солдат газом погубили, а наш командир, пригибаясь, по ходам сообщения бегает и бойцам наказывает, чтобы раньше, чем немец до бруствера дойдёт – огонь не открывали. А как немецкие солдаты стали на бруствер подниматься, наши пулемётчики по команде командира такой ураганный огонь открыли, что немцы с испугу назад побежали. Командир потом сказал, что это фактор неожиданности сработал, немцам надо было вперёд идти, а они назад, так в ложбине все и полегли под пулемётным огнём.
Все любители сказок за этот бой были серебряными Георгиевскими крестами награждены, командир ещё и серебряный темляк на шашку получил, а деду Андрияну за гляняную свинью в немецком мундире сам генерал руку пожал. Сам на дедову грудь георгиевский крест прикрепил со словами: «Благодарю за героизм и поднятие боевого духа русского воинства» и даже прослезился.
Помню, когда в нашей деревне дедушку просили рассказать, за что он получил боевую награду, а Георгиевский крест в нашей Малой Крюковке только у него у одного был, то дед всегда усы подкрутит, бороду расправит и очень серьёзно скажет: «За сказку и получил, – и обязательно добавит, – если б не сказка, да не игрушка глиняная, то я бы с фронта домой живым не вернулся». Так вот это было.
А как вернулся Андриян, то вновь игрушки стал лепить, да детей к этому делу приучать. Детей у него много было, а вот помошницей в игрушечном деле одна дочь Пелагея стала. Глину приготовить, подкрасить, как отец скажет, слепить что попроще, здесь она первая. Особенно любила Полинка игрушки продавать. Тут ей равных не было. Продать, ведь тоже талант нужен. А уж что с ней и с её игрушками произошло, того не описать никак нельзя. Об этом дальше читайте.
Розовое платье
Ох, и многое надо было успеть Полинке. Во- первых, постараться продать свой товар быстрее чем, отец продаст свой. У них с отцом условие – как приезжают в Саратов на базар, то каждый торгует своим товаром и в торговлю они друг друга не вмешиваются. Андриян продаёт творог, молоко, сметану, а Полинка – глиняные игрушки, которые отец обязательно лепит, приурочивая к очередной поездке на базар с маслом и яйцами.
Андрияну, такая самостоятельность дочери нравится, а с другой стороны тревожно, Полинка, распродав свой товар быстрее его, обязательно убежит и безнадзорно ходит по Сенному базару, удовлетворяя собственное детское любопытство, а на базаре всякое может случиться. Правда, перед каждой поездкой в город Андриян предупреждает дочь: «За Сенной базар не выходить!» А Полинка и не выходит, ей бы только по игрушечным рядам пробежаться, да посмотреть, что нового выставили на продажу, потом надо поинтересоваться, чем старьевщики торгуют – там тоже можно увидеть много интересного, а уж после надо обязательно зайти в маленький магазинчик, в котором продают одежду. В этом магазинчике можно постоять подольше и рассмотреть всё получше. В магазинчике два продавца – мужчина и женщина. Женщина продаёт женскую одежду, а мужчина мужскую.
Вот и сейчас усатый продавец подозрительно смотрит на Полинку и предупреждает напарницу «Смотри, Маша, как бы эта фитюлька чего не утянула с прилавка, уже полчаса трётся». После этих слов Полинке хочется усатому дядьке показать язык и убежать. В иных ситуациях она так бы и сделала, но только не сейчас, выгонят ещё. И потом она стоит у прилавка, где торгуют платьями, а не брюками и женщина- продавец к ней всегда хорошо относится. Вот и сейчас она урезонивает усатого продавца:
– Ты, Фёдор на неё не надо так, она не бродяжка, какая. – И обращаясь к Полинке спрашивает, – правда, девочка? – Полинка кивает головой и говорит:
– Мы с тятей из деревни приехали торговать. Мне нравится у вас бывать и смотреть на платья.
– Только тебе до этих платьев подрасти надо, – говорит продавщица, у меня детских платьев нет.
– Я знаю, – кивает девочка.
– А какое платье тебе больше всех нравиться? – интересуется продавщица.
– Вон то, розовое, с оборками, – кивает Полинка на понравившееся ей платье.
– А может быть с рюшечками? – спрашивает продавец, показывая ещё одно платье.
– У этого пошив не очень, потом у нас в деревне с рюшечками не носят, только с оборками. Я, когда замуж буду выходить, обязательно себе такое платье куплю, розовое, с оборками.
– О-хо-хо! Замуж собралась выходить, – подтрунивает усатый, – бородой вон только до прилавка достаёшь, сопли зелёные.
– Тебе, Фёдор, женской души не понять, – урезонила продавщица усатого, – а у девочки, между прочим, вкус есть. Вы чем занимаетесь? – спросила она Полинку.
Тут Полинка оживилась и стала рассказывать, как они с отцом игрушки продают.
– Что ж, и ты продаёшь? – удивилась продавщица.
– У меня ещё лучше покупают, чем у тяти, – похвасталась Полинка. – Он больше сметану, яйца, молоко топлёное продаёт, а я игрушки. Тятя сам говорит, что у меня игрушки лучше покупают.
В это время в магазинчике распахнулась дверь, и через порог шагнул Андриян.
– Вот ты, оказывается, где?! – говорит он, то ли сердито, то ли просто показывая сердитость. – Я так и думал, всю дорогу мне стрекотала про магазинчик и про платье. Вы уж извиняйте нас, – обратился он к продавцам, – работать вам мешаем, – проговорил Андриян, беря дочь за руку.
– Да нет, что вы, – ответил усатый продавец, – очень даже забавная девочка, смышлёная.
Это была последняя поездка Полинки в Саратов перед долгим перерывом. А перерыв этот был вызван тем, что грянула в их деревне коллективизация, лошадей согнали на общий двор. Отвёл и Андриян свою Махорку на колхозную конюшню, ездить стало в Саратов не на чем, за шестьдесят километров пешком с грузом не пойдёшь, и впервые Андриян в этот год не стал заготавливать на зиму глину для лепки игрушек. Жизнь в его семье зимой замерла. Сам он всё больше пропадал на дворе, ухаживал за скотиной, а когда заходил в дом, то частенько говорил: «Ноне дохода от игрушек не будет, надо получше скотину блюсти, овец развести побольше, они в хозяйстве самые прибыльные. С ними, да с коровой хоть с голоду не пропадёшь, времена – то какие… эх, хе-хе….».
А тут грянул голодный 33-й год. Не всем семьям в деревне Малая Крюковка удалось выжить, Андриян и два его сына Ефим и Пётр с ружьём по очереди ночевали в хлеву, сторожа корову, да с пяток кур, которые к тому времени остались. Пали лошади на колхозном дворе от бескормицы. Три только остались и среди них Махорка и то, только потому, что ходил Андриян и подкармливал бывшую собственную животину.
А перед войной, Полинка заневестилась. Исполнилось ей к тому времени девятнадцать лет, и надо было думать о свадьбе. А что о ней думать, когда в семье семь человек детей и все мал – мала, меньше. Думала о свадьбе Полинка и очень ей уж хотелось предстать перед женихом в розовом платье с оборками. Хоть в Саратов было ехать и не на чем, но всё же она попросила брата Ефима, чтоб накопал и привёз глины с Шейного оврага, решила упросить отца, чтоб помог ей налепить игрушек, а уж она как-нибудь свезёт их в Саратов.
Андрияну Полинкина затея не понравилась. Он хоть и понимал, что дочери хочется на свадьбе быть в новом платье, только Саратов не ближний свет, в руках игрушки не донесёшь. Однако, Полинка отца упросила и тот стал лепить. А тут и случай подвернулся, знакомый лесник обещал подбросить до Саратова, только ей до Петровского тракта надо было три километра пешком пройти, лесник никак не хотел в деревню по грязи ехать. А чтоб отец в последний момент не раздумал Полинку с лесником в город отпустить, она пошла на хитрость, и побежала на грейдер тайком, поздно вечером, потому как лесник в ночь ехал.
Как стемнело, юркнула Полинка за дверь, прихватив с собой ведро с игрушками, за двором спустилась в овраг, перешла по камешкам водотёк, поднялась в гору, а дальше край Ущельного оврага пошла, Вершинный овраг слева остался. Здесь, рядом с деревней, она не очень боялась, потом месяц, хоть и ущербный, но всё, же высвечивал тропинку и обозначал местность, тускло проливая свет на мокрые поля и на дальний лес. Самым страшным местом был лес, через который можно было пройти двумя путями: прямиком, по узкой дороге или через лесные ворота, разъединяющие два лесных массива. Полинка решила идти через ворота, пусть подальше, но не так страшно, лесные ворота широкие, всё видно, если приглядеться.
Вот уж и овраг закончился, дальше тропинка по полю паханому пошла, по впадинке, самой низинкой, где лемеха плуга только по земле ширкают, а не пашут, потому и твёрдо. Тут только комья попадаются, что с лемехов плуга опадают, через которые то и дело спотыкаешься. Наконец, кончилось паханое поле, дальше стернёвое пошло, а стернёвое поле прямо в ворота упирается, стали тёмные шапки деревьев просматриваться. Страшно конечно, но желание купить к свадьбе платье выше страха. Идёт Полинка, ведро о ноги стукается, да перевясло руки режет, только она на это внимания не обращает, потому как ей больше радостно, чем страшно, у неё перед глазами платье розовое с оборками стоит, это тебе не грязь, липнущая на подошвы. Она её вроде и не замечает, грязь – то, а вперёд идёт и идёт, о свадьбе думает.
Это произошло, когда лесные ворота были уже совсем рядом. Зверь лежал на тропинке, повернув к ней широкую лобастую голову, и ждал. Полинка его заметила, когда до волка оставалось саженей пять, не больше. Она остановилась. Волков она видела, и не раз, но чтобы так близко – нет. Она, конечно, испугалась, но взяла себя в руки. Решение было принято молниеносно – обойти. Девушка свернула с тропинки и стала обходить зверя стороной. Ей сначала казалось, что задумка удалась, но не прошла она и двадцати метров, как снова увидела лежащего на её пути волка. Что делать?
Это уже была не случайность, как она подумала в начале. Дальше Полинка рассудила так: «До деревни дальше чем до тракта, пойду вперёд». Полинка решила снова обойти зверя и только она сделала шаг в сторону, как хищник поднялся и медленно пошёл по стерне, чтобы снова встать на её пути. «Вперёд он меня не пустит», – подумала Полинка и решила вернуться в деревню.
Ей стало не по себе тогда, когда, возвращаясь в деревню, она миновала стернёвое поле и, войдя на паханое, снова увидела волка. Он серым пятном лежал на чёрной тропинке, вытянув морду в её сторону. Полинка остановилась. Обходить зверя пашней было трудно, ноги утопали в грязи, но она пошла спотыкаясь о борозды и описывая длинную дугу, пытаясь выйти на тропинку позади зверя. Это ей удалось. Она с трудом вытащила ноги из пашни и встала на твёрдую почву дорожки, понимая, что уже больше не сможет сделать такого маневра, сил для таких маневров не осталось. «Кажется, пронесло, – подумала она, – Иш, привязался».
Ей сделалось по настоящему страшно, когда она снова увидела лежащего на своём пути зверя. И если раньше она почему-то не видела его глаз, то теперь глаза хищника горели желтовато-оранжевым огнём, и тут Полинка закричала, то ли от страха, то ли от отчаяния: «Долой! Пошёл прочь!». Но волк не уходил, только глаза его загорелись ещё ярче и злее. И тут Полинка вытащила из ведра глиняную игрушку и запустила ей в волка. Игрушка, матово блеснув, упала где-то рядом со зверем. Она выхватила из ведра вторую игрушку и снова бросила в волка. На этот раз тот отпрянул в сторону и отступил. Видимо блеск игрушек, и красные вкрапления на них испугали зверя. Горящих желтоватых глаз зверя не стало видно. Полинка обрадовалась. «Наверное, ушел», – подумала она. Только радость её была преждевременной, метров через тридцать она снова на тропинке увидела светящиеся волчьи глаза. Подходя к зверю, ещё издали начала бросать в него игрушки и кричать: «Долой! Пошёл прочь! Боже! Спаси и сохрани…А-а-а-а!!!».
Волк нехотя отступал. Вот минуло паханное поле, с левой стороны пошли овражные заросли, тянущиеся до самой деревни. Эти кусты ещё больше страшили Полинку, неизвестно за каким может притаиться зверь, однако последнего всегда выдавали светящиеся глаза и девушка этим пользовалась. Она запускала игрушки в направлении оранжевых точек и кричала: «На! Подавись, зверюга! Ещё хочешь!? На ещё!». Наконец она сунула руку в ведро и не обнаружила там ни одной игрушки. Что она могла ещё сделать – это бросить в волка само ведро. Только этого она делать не стала. «А-а-а!!!» Закричала она изо всех сил, а затем тихо опустилась на землю со словами: «Ну,… иди, жри, чего ждёшь…» Слёзы залили её лицо.
Волк не уходил, он медленно и осторожно приближался. И тут, когда от Полинки до зверя оставалось расстояние в один волчий прыжок, со стороны села раздались два выстрела из охотничьего ружья. Волк повернулся на выстрелы, злобно сверкнул глазами и исчез в зарослях. Только и Полинка не могла дальше сделать ни шагу. Она, обняв пустое ведро, сидела на земле и горько плакала. И было не понять, то ли она оплакивала свою несбывшуюся мечту о розовом платье, то ли это были слёзы радости нечаянного спасения. Здесь, на тропинке, и нашёл её Андриян, идя с ружьём на крик дочери. Он принёс Полинку домой на руках, потому, как она не могла не только идти, но и держаться на ногах. Андриян положил Полинку на печь, сверху накинул полушубок и долго слушал, как в полузабытьи, дрожа и выстукивая зубами дробь, Полинка повторяла: «У меня никогда, никогда не будет ро-зо-во-го платья…».
На следующий день Андриян наточил нож и пошёл в хлев.
– Так для свадьбы же растили, – встряла мачеха, догадавшись о намерениях мужа.
– Молчи,– глухо сказал Андриян и вышел. Через три дня он приехал из города и вручил Полинке розовое платье, а жене сказал: «Перетерпим, не тридцать третий». На свадьбе Полинка была в новом розовом платье с оборками.
На заборе, ухватившись руками за доски, повисла ребятня, свадьба – это всегда интересно. Девочки-подростки, а среди них была и десятилетняя Тонюшка, разглядывали невестино платье. Ах! Как оно ей шло, как шло! Они по-детски завидовали этой малокрюковской красавице и мечтали, как бы скорее вырасти и чтобы у них тоже было такое же красивое розовое платье.
Р.S. Ровно через 57 лет Егорова Антонина Ивановна, вспомнит эту историю и расскажет. Расскажет, чтоб её уже никогда не забыли. Расскажет для того, чтобы её вспомнила и сама Пелагея Андрияновна, потому как в свои 95 лет уже многое в её памяти стёрлось. Когда я ей напомнил о розовом платье, она даже руками всплеснула от удивления:
– Точно! Было такое. Кто же тебе обо всём этом рассказал? Никак Тонька Задашина (уличное прозвище), больше некому. – И, помолчав, спросила: – Зачем это тебе?
– Рассказ хочу написать. Ты же сейчас в роду старейшая игрушечница.
– Была когда-то игрушечница, – сказала Пелагея Андрияновна и добавила. – Ты б лучше о брате Василии написал. У него задатки покрепче чем у меня были. Хорошо? А вот продавать он не умел,– и засмеялась.
Не выполнить просьбу 95-летней игрушечницы было нельзя. О чём писать я не знал, но вскоре услышал о дяде Васе одну интересную историю и она легла на бумагу.
Гуси
Ваське, тщедушному с большими голубыми глазами пареньку, двенадцати лет от роду, скучно. На улицу его не пускают, а дома тоска. И не просто тоска, а тоска смертная. «Толи дело Шурке Рыжему или Вовке Смыслову, поди, уже на пруду в выбивалки играют, а тут вот сиди и сторожи этих проклятых гусей» – подумал он и от безысходности запустил в большого рябушистого гусака старой, отвалившейся от сапога, подмёткой. Подмётка перелетела через гусака (перелёт) и угодила в железный таз. Бу-ум! разнеслось по двору. На звук открылась дверь и в неё выглянула старшая сестра Анюта. Увидев сидящего на крыльце братишку и не обнаружив ничего предосудительного в его поведении, она окинула взглядом двор, и закрыла дверь. Анюта Васю любит и жалеет. Его все жалеют, потому что Вася сирота. Своей матери он совсем не помнит. Она умерла, когда он был совсем маленький. Его выкармливала грудью старшая сестра Мария, потому как в это время у неё родилась дочь Тонюшка и молока обоим хватало. Но тех лет Васька не помнит и, странно бы было, если б помнил.
Матери Васька не помнит, но она часто ему грезится и Ваське представляется, что он не только её помнит, но и хорошо знает. Зря в семье говорят, что дети в малом возрасте ничего не запоминают. Может быть с кем-то и так, но только не с ним. Вот они любящие глаза прямо перед его лицом. Пухленькие материнские губы щекочут Васяткин животик и ему хорошо, мальчуган улыбается, открыв беззубый ротик, и ловит ручками её волосы. Вот поймал косицу и пытается засунуть в рот. Мать улыбается, высвобождает прядь из цепких ручонок сынишки, а потом вдруг, почему-то ни с того, ни с сего начинает от него удаляться. Вот материнское лицо на мгновение зависает в воздухе, затем уплывает в сторону и сливается с фотографией в рамке на стене. Это её, мамина, фотография. На ней она стоит рядом с тётей Дуней и тётей Маней. Только у тёти Дуни лицо совсем не такое как у мамы, мамины губы живые, они умеют шептать, и Васька слышит этот шёпот и особенно явственно он слышит её голос и ему становится нестерпимо обидно.