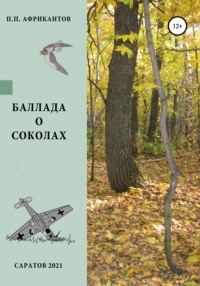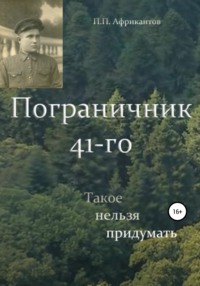полная версия
полная версияСаратовские игрушечники с 18 века по наши дни
Моро. Ты гений, Антуан. Ловко так всё повернул. А я уже хотел отдать распоряжение, чтоб готовили верёвки для колесования.
Антуан (улыбнувшись). Их не колесовать Моро надо, а бережно взять под руки и бережно посадить в их собственную карету, да под хорошей охраной доставить самому маршалу. Их смерть не улучшит нашего положения, а вот от их жизни можно извлечь много пользы для нашей армии… – И дальше, подумав, добавил: – Хотя бы только для нас, лично.
Моро (драгунам). В карету их! Доставим лично маршалу!
После того, как Африкант и Пётр Никитич очутились в собственной карете и под конвоем всадников тронулись в путь, капитан шепотом произнёс: «Они нас, Африкант, за Кутузовских шпионов приняли, сопровождают в штаб, только ты не обольщайся, шпионов во всех армиях всегда казнили…». Дальше ехали молча.
После описанных здесь событий, совсем недалеко, чуть дальше, по той же старой калужской дороге, в штабе русского главнокомандующего идёт разговор между Михаилом Илларионовичем Кутузовым и генералом Дмитрием Сергеевичем Дохтуровым. Этот разговор следует довести до читателя дословно, потому, как в большей степени от него зависела судьба наших незадачливых путешественников. В это время русский главнокомандующий стоит у большого дубового стола.
Кутузов (обращаясь к Дохтурову).В создавшейся ситуации, Наполеон предпринимает попытку обойти наши войска у Тарутино, чтоб выйти к Малоярославцу. Он думает по Новой Калужской дороге продолжить движение на Калугу и тем самым вырваться на стратегический простор. Кукиш ему с маслом, а не Калуга! – и Михаил Илларионович показал правой рукой увесистый кукиш. – Не для того мы, Дмитрий Сергеевич, – скрытно шли к Подольску, затем к Тарутино, чтоб выпустить француза на оперативный простор. Этот манёвр французской армии ожидаем. Правда, я рассчитывал, что француз пойдёт по старой калужской дороге до Тарутино, а он свернул. Этого я не ожидал. Боится французский император. Ой, боится… Впервые показывает неуверенность в своих силах. Это хорошо. Эта неуверенность нам на руку. Мы тоже двинем армию к Малоярославцу и немедленно двинем.
Дохтуров. Какие будут распоряжения, Михаил Илларионович, хотя задача, в общем, ясна.
Кутузов. Я для того тебя позвал, Дмитрий Сергеевич, что нам позарез нужен именно сейчас высокопоставленный французский офицер, который бы знал о самых последних распоряжениях Наполеона. Информация часто устаревает, не успев до нас дойти. Нам надо знать не то, что мы видим до горизонта. Об этом нам докладывают наши разведотряды. Нам надо знать, что делается за горизонтом, то есть знать то, что сделает Банопарт через два-три часа, чего на глаз, пока не прослеживается.
Дохтуров. Понимаю вас, Михаил Илларионович. Вы опасаетесь, как бы Наполеон не проделал свой «Тарутинский манёвр», только на Наполеоновский лад?
Кутузов. Всё можно ожидать, Дмитрий Сергеевич. Бонапарт – противник непростой. Да, он сейчас обескуражен. Он в растерянности, это видно по письму ко мне с просьбой выпустить его из России. Но, надолго ли? У него ещё есть сильные резервы. Бережёного – Бог бережёт. Поэтому нам надо иметь постоянно самые свежие сведения о его намерениях.
Дохтуров. Надо постоянно охотиться за их высшим офицерским составом. Я немедленно отдам необходимые распоряжения.
Кутузов. Вот…вот. Вы уж потрудитесь. – И главнокомандующий углубился в чтение бумаги. Генерал Дохтуров, не прощаясь, незаметно вышел.
Прохладно. Ветер – верховик раскачивает верхушки деревьев, гонит над лесом сухой лист, изредка спускаясь к земле, чтобы вихрем схватить на ней что ни попало, поднять да и закрутить в безудержном веселье и силе.
– Зима скоро, проговорил, знакомый уже нам, обер-офицер казачьего полка Чуб, стоя около морды своего жеребца и скармливая ему с ладони крошки хлеба.
– Интересно, и долго мы будем ещё ждать этого высокопоставленного француза? – спросил обер-офицера его товарищ младший офицер Сажин, сидя на стволе сваленной берёзы и очищая с сапог прилипшую грязь.
– Сколько надо, столько и будем ждать, – буркнул Чуб. Метрах в ста от них, в пологой балке стояла сотня спешившихся казаков. – Сказали взять высокопоставленного, значит высокопоставленного… На мелкоту размениваться не будем, мелкотой только себя раскрывать.
– Так откуда мне знать, кто из французов по дороге едет и кого хватать надо? – Зло сказал Сажин.
– А ты гляди и соображай.
Подошёл партизан Прохор из сельца, спросил:
– Чего у вас?
– Посмотри ты через свою палку, может быть чего усмотришь? – с улыбкой в карих глазах проговорил обер-офицер, показав на подзорную трубу Прохора. – Вы где расположились?
– Ниже по балке стоим. Наш командир сказал, что мы за вами не успеем. У нас пеших много.
– Ваше дело дорогу перегородить надёжно, чтоб не ускользнули, – растягивая слова, сказал Чуб.
– Не ускользнут. Мы поперёк дороги сосну свалим.
– Как же вы её свалите, когда около дороги только две чахлые берёзы, а сосен совсем нет?
– Ты, казачёк, оказывается только в седле лихо сидишь, да папаху заламываешь, скумекать не можешь. А во-он, видишь, пока мы разговаривали, она и выросла, сосна- то.
Казацкий офицер посмотрел в ту сторону, куда кивнул Прохор. Действительно, рядом с берёзой, покачиваясь, стояла стройная сосна.
– Вы что ж её из леса притащили?!– удивлённо воскликнул Чуб.
– Позиция хорошая, а вот деревьев рядом высоких нет. Пришлось привезти из леса и к берёзе привязать, так что упадёт туда, куда надо и когда надо, – заверил Прохор.
– Да вы, оказывается, щи не лаптем хлебаете, – улыбнулся Чуб. – Вот бы и сзади так сделать…
– Уже и сзади так сделали,– неторопливо проговорил Прохор. – Если французское благородие поспешит назад, а у французов голова тоже не из заднего места растёт, тоже думают, а им раз… и подарочек…. – Прохор приложил свою подзорную трубу к глазам и стал вглядываться в линию горизонта. Затем тронул Чуба за руку.
– Чего там? – спросил, встрепенувшись, Чуб.
– Карета, кажется, а за ней десяток конных.
– В каретах у них только высшие чины ездят, Наполеон и его ближайшее окружение, проверено, – уверенно сказал Чуб и прижал к себе нос жеребца, чтоб случайно не заржал. – Вы там сначала переднюю сосну валите, а сзади только тогда, когда в обратную кинутся, а не сразу, – сказал он Прохору.
– Не впервой…– озабоченно сказал Прохор и почти бегом побежал к партизанскому отряду.
Как и рассчитывали партизаны, ель упала перед самой каретой, сильно хлестнув ветвями двух конников, что скакали впереди. Самое же поразительное было то, что никто из сопровождения не стал защищать того, кто сидел в карете. Гренадёры дружно повернули коней назад, но упавшая ель и, выскочившие на дорогу с гиком и свистом казачки, преградили им путь отступления. Первые же двое верховых, не останавливаясь, пришпорили коней и, бросив своих товарищей, пустились наутёк.
Бой был коротким, но яростным. Трое пленных гренадер сидели на земле, связанные кушаками и верёвками. Чуб подошёл к карете, постучал шашкой по дверце и сказал, игриво и весело посматривая на товарищей:
– Господин, как тебя там… француз, прошу вытряхиваться… приехали – Но видя, что дверь не открывается и никто не выходит, он рывком открыл дверцу и остолбенел. Немая сцена, так можно описать реакцию партизан и казаков.
В карете сидели связанные по рукам и ногам двое русских.
– Первый раз вижу, чтоб русских пленных французы в карете возили да с эскортом,– недоумённо сказал Сажин, указывая Прохору внутрь кареты.
– Да это же наш барин. – Воскликнул Прохор. – Пётр Никитич, как же это вы!? – И, обращаясь к казакам, добавил. – Да вы не сумлевайтесь… свой он. Это он из пушки французских фуражиров расстрелял, помните я вам рассказывал?
– Глиняной картечью, – уточнил один из казаков.
– Ей самой… А с ним его ямщик…, ну тот игрушечник…, помните!?
– Да мы, ка-же-тся, с ни-ми то-же зна-ко-мы, – проговорил с расстановкой Чуб. И, глядя на Петра Никитича, спросил, – помните дорогу на Тулу?… Я вас не сразу вспомнил, а вот лошадок ваших знаю… крепкие коняшки… – но договорить он не успел, за спиной прогремел выстрел из пистолета. И тут же раздался удар и вскрик.
– Гад, мы думали он убит, а он очухался и из пистолетика бахнул, – оправдывался один из партизан.
– В грудь попал, – говорил другой, отходя от лежащего на земле партизана.
– Живой он! – послышался женский голос. – В карету его. Прохора, пуля попала именно в него, тут же поместили в карету и повезли в имение, а Петра Никитича и Африканта сопроводили к самому генералу Дорохову, где Пётр Никитич и рассказал, что с ними произошло.
– Значит, вот так прямо в карету посадили и повезли…– вытирая слёзы от смеха говорил Дохтуров…– а сзади эскорт… – затем, просмеявшись, сказал серьёзно, – свои неудачи французы готовы списать на кого угодно и этим оправдаться. В данном случае провал на Тульской дороге решили списать на провокаторов. И кому, интересно, такая мысль в голову пришла?
– Майору Антуану из драгун, господин генерал. Капитан Моро нас хотел просто пристрелить, – сказал Пётр Никитич. Только этот Моро сам лежит холодный. Перед смертью успел в нашего партизана выстрелить. А Антуан улизнул.
– Далеко пойдёт этот французишка, если пуля не остановит… Прыткий. – Проговорил генерал.
И только, вошедшие собрались уходить, как генерал, вглядываясь в Петра Никитича вдруг проговорил:
– Батеньки…, неужели… Аустерлиц! Пушечная батарея, проложившая дорогу нашим егерям… Капитан Житков, ты!!!
– Так точно, господин генерал! –
Дохтуров рывком обнял и прижал Петра Никитича к себе.
– Выжил… – говорил он взволнованно. – Я видел, как тебя уносили с батареи, кусок окровавленного мяса… Если б не ты и твои пушкари, не прорубились бы мы тогда сквозь неприятеля… А я то смотрю… Вот ведь где довелось встретиться а… Прибор капитану,– крикнул генерал денщику.
– Ну, а вы как, тут с французом!? – спросил Пётр Никитич, – когда они сидели с генералом за столом и пили чай.
– Добиваем антихриста. Сейчас он свернул на Малояролславец, только у него ничего не выйдет…
– Почему?
– Не тот теперь стал француз… не тот. Мечется как волк в капкане. Сила ещё есть, а духа победного нет. Ты, знаешь, какое Бонапарт письмо Кутузову прислал?
– Ну, если это не военная тайна, генерал? – улыбнулся капитан.
– Какая уж там тайна… – Дохтуров отпил глоток чая. – Просит Бонапарт выпустить его из России… молит только об одном, чтоб сохранить его честь и императорское достоинство…
– Ну, если так, то…
– Так… так, капитан, всё так. Не тот уже Банопарт… не тот. – И, помолчав, спросил. – А этот, Антуан, француз, благородным оказался, говорите?..
– Если б не его родословная, то этот Моро при первой встрече сделал бы нас пешими, а при второй – изрубил бы в капусту.
– Бывает и такое. – И генерал весело засмеялся.
Долго умирал Прохор. Долго выходила из большого тела большая жизнь. Пуля Моро, пробив лёгкое, застряла где-то там внутри и он, то тихо бредил, то начинал кричать и отдавать какие-то команды, то вроде, забывался, а когда приходил в себя, то обязательно интересовался – не приехал ли барин? Барина всё не было. Около постели Прохора стояли его жена и пятеро детей.
– Похож, не дождусь я барина, – сказал Прохор. – Убил меня француз… Насмерть убил. Позовите Зосиму…
Кто-то крикнул: «Старосту позовите! Прохор просит».
Позвали старосту.
– Что тебе, Прохорушка, – спросил Зосима, едва переступив порог.
– Ты вот что,– и Прохор попытался приподняться.
– Лежи, лежи, Прохорушка, – сказал ласково Зосима.
– Видно я барина не дождусь… – Сказал раненый. – Барин обещал не уезжать, пока меня не увидит. – Он сделал ещё усилие, чтоб досказать фразу, затем лёг, слабо махнул рукой и успокоился. Успокоился навсегда. А через десять минут приехал в деревню Пётр Никитич. Крестьянки с причитаниями бросились к нему, жалея, что он не застал Прохора в живых. Жена Прохора голосила по покойному. Одна из крестьянок подошла к барину и проговорила: «Он так хотел вас увидеть и чего-то сказать».
– Я знаю… Он мне всё сказал, – проговорил Пётр Никитич медленно. Я всё знаю.
– Как же он вам сказал, барин, когда вас здесь не было? – спросил Зосима.
– Душа его мне привиделась на дороге, в карете со мной ехала. Она-то и сказала его последнюю просьбу.
– Какую же?, – спросил Зосима.
– А просьба эта состояла в том, – возвысил голос барин, – чтобы не забыли мы его сирот. И его, и тех отцов семейств, что сложили и ещё сложат свои головы в борьбе с басурманами. Вот в чём состояла его просьба. – И, посмотрев строго на старосту, добавил. – Ты понял Зосима!?
– Как не понять… ни вдов, ни сирот не забудем…
А через две недели, когда отгремели бои под Малоярославцем и армия Наполеона безудержно покатилась на запад, выехали из сельца, дав последние наставления старосте Зосиме, артиллерии капитан Житков с кучером Африкантом. Пётр Никитич обещал, что вскоре снова приедет в сельцо, только организует из Крюковки обоз для помощи пострадавшим крестьянам. Чем он и стал заниматься после приезда в имение. Африкант же, когда пришёл домой, сразу сел лепить игрушки. До Рождества оставалось совсем ничего и ребятишкам надо было обязательно приготовить подарок. Война, войной, а рождественского подарка детям никто не отменял.
А вот о том, как от имени Африканта Андреевича наша фамилия образовалась? и как его дети стали, как сейчас говорят, профессионально игрушечным промыслом заниматься? это уже в следующем рассказе будет описано.
Фима
Давно это было. Очень давно – ещё при царе-батюшке. Жили в деревне Большая Крюковка, что неподалёку от города Саратова стояла, пять братьев, звали их – по уличному Африкантовы, потому как их отца звали Африкант. Так уж в деревне заведено было, тем более, что фамилий у крестьян тогда не было.
Весной, летом и осенью, обычно, жители деревни занимаются сельским хозяйством, а как придёт зима, то каждая семья своим подсобным промыслом занимается: кто в извоз подаётся, кто шорничает, кто кадушки на продажу мастерит, кто шапки да обувь шьёт. Братья Африкантовы мастерили сани. Чем отец занимался, тем и они. Если про глиняные игрушки сказать, то их Африкант лепил только к празднику, родственникам в подарок, да ребятишкам на утешение, а лишние продавал в соседних деревнях. Санное ремесло считалось делом более выгодным.
Первым широко игрушечным промыслом стал заниматься один из сыновей Африканта – Илларион. Или посчитал, что игрушки выгоднее, или у него к этому особая тяга была. Возможно, что и то и другое присутствовало, только и без случая здесь тоже не обошлось. Был он ещё не женат, тогда как брат Евдоким имел молодую жену Прасковью и в город на базар Африкант брал неженатого – Иллариона. В Саратов, как правило, везли шерсть, мясо, масло. Африкант всегда за прилавком стоял, торговал, а Илларион всё больше по базару ходил, да приглядывался, кто чем торгует, как берут, с продавцами заговаривал, ему всё надо.
Дольше всех Илларион задерживался у игрушечников. Тряпичные, глиняные, деревянные, каких только игрушек не было. Тряпичные были самые дешёвые. С размалёванными прямо по материи лицами куклы смотрели на покупателя всегда с улыбкой. Деревянные поделки были подороже, но не на много. Чаще всего люди толпились около глиняных. Наряду с дешёвыми собачками и кошечками в разных видах продавались и игрушки дорогие, такие как рыбачка или медведь, играющий на балалайке. Медведь был самым интересным: с открытой пастью, он лихо стучал по струнам. Мужичонка в треухе, заметив Илларионово любопытство, стал ему нахваливать товар. Хотел было Илларион медведя того купить, очень уж он ему понравился, да поостерёгся – отец заругает, свои игрушки имеются, да так и отошёл от прилавка. И не так Илларион хотел купить того медведя, как расспросить о хитростях нанесения рисунка и покраске. Они свои игрушки немного по-другому расписывали. Только застеснялся и не спросил.
Распродав товар, стали отец с сыном домой собираться. А тут к ним и пристань тот самый мужичонка в треухе. Узнал видно, что они по Петровскому тракту поедут: «Подвезите до Елшанки, – говорит, – тут недалеко от города.
– Где Елшанка сами знаем, сказал Африкант, только ты случаем не с кистенём ко мне напрашиваешься? – покосился он недоверчиво.
– Да это игрушечник, я его знаю, – вступился Илларион.
– Ну, то-то же, для доброго человека место всегда найдётся, – сказал Африкант и подвинулся.
– Ну вот, то кистень, то добрый, – засмеялся мужичок, усаживаясь поудобнее.
И только стали из ворот выезжать, вдруг откуда не возьмись чудненькая Агапка, что на базаре нищенствовала, раз к саням, да и говорит Иллариону смеясь:
– Скоро, молодой, с мясом да кожами скудель в город повезёшь, – а сама сгорбилась, изогнулась и прихрамывает.
Хлестанул Африкант кнутом лошадь, да на Агапку замахнулся, чтоб под сани не бросалась, а та, смеясь, кричит вдогонку:
– Скудель, молодой, повезёшь! Скуде-е-ль!!! – И долго ещё слышался смех Агапки, пока скрип полозьев не заглушил её голос.
«Вот чудная, привязалась, – думал Илларион, усаживаясь поудобнее,– Что за скудель? Чего кричит дура-баба? И впрямь полоумная, что с неё взять. Ей что, она сказала, а тут в голову всякая дребедень лезет. Ну, её».
– Как бы чего худого не вышло, – хрипло сказал Африкант, – прям под полозья кинулась.
– Агапка, часто дело говорит, – просипел попутчик, – только иносказательно. Её понимать надо. На базаре ей каждый торговец, что-нибуть дать норовит, чтоб торговля лучше шла. Люди всё примечают, А ты, Африкант, – кнутом…. Борода лопатой, а в этих делах не силён, – и он, не договорив умолк, наверное, чтоб не сердить Африканта, а то высадит в чистом поле и иди семь вёрст пешком.
– Я опасаюсь таперь, чтоб из этого чего худого не получилось, – ответил Африкант, – дорога в шесть десятков вёрст – не воробьиный скок.
Все умолкли, Лошадь бежала резво. Только Саратов проехали – ветерок неприятно засвистел, в городе за домами как-то незаметно было. Дальше, больше. До Елшанки версты три ещё, а ветер уже лошадиную гриву в косы вьёт, снег метелит.
– Не доедем – говорит Илларион, – отворачиваясь от ветра.
– Нам бы до Каменки дотянуть, – молвил Африкант, – там, у кума заночуем, не впервой.
– Не дотяните вы до кума, – просипел попутчик, – сверху сыпать начинает. Позёмка и верховушка, любую лошадь ухайдакают, а до Каменки ещё тянуть, да тянуть. Ей вон уже передувы по брюхо.
– Верно, говоришь, сам вижу, – стараясь перекричать ветер, ответил Африкант. – Ещё немного подсыпет, лошадь голову на оглоблю положит. Видно мы тебя до Елшанки не довезём. Назад вертаться будем.
– А ты не спеши вожжу тянуть, – проговорил попутчик, – до Саратова то дальше, чем до Елшанки. Тяни до деревни – у меня заночуете.
– Раз так, то и порешили, – ответил Африкант. – Чего Ларя, до Елшанки тянем, а утром оглядимся!? – спросил Африкант сына.
– Против непогоди не попрёшь, – ответил Илларион, – давай до Елшанки, судьба значит в Елшанке ночевать.
Не прошло и получаса, как лошадь остановилась перед высокими резными воротами, а ещё минут через пятнадцать, задав лошади овса и накрыв её попоной, все сидели в просторной горнице, освещавшейся лучинами. Сели за стол. Когда глаза пообвыклись к свету, Илларион заметил около печки, сидящую, как-то боком, на низкой скамееечке, в цветастом платочке девушку, она сноровисто катала тесто и готовилась видно лепить пирожки. Личико было её необычайно красиво. Илларион залюбовался. Она, заметив на себе пристальный взгляд юноши, смутилась и, быстро встав, юркнула за занавеску.
Илларион опешил – это лицом чудное создание, имело сзади уродливый горб, который перекашивал всю её фигуру, Иллариону показалось, что она к тому же была ещё и хрома. Он посмотрел ей недоумённо вслед. Борис, так звали хозяина, поймав взгляд Иллариона, пояснил, понизив голос до шёпота: «В детстве в погреб упала, – и тут же добавил, – да вы не думайте, она почитай всю семью кормит. А, точнее, выкормила. Братья поженились, сестру по осени замуж отдали, если бы не Фимушка, разве б управились. Гляньте на её производство, – и он отдёрнул занавеску. В небольшой комнатке, половину которой занимал большой стол да лавка, а по стенам размещались широкие дубовые полки – всё было заставлено игрушками в разной готовности. Одни были раскрашенные, другие стояли красноватые, видно обожженные, третьи сухие, а четвёртые были тёмные, только что слепленные. Готовые игрушки, отливая расписными боками, казалось, с любопытством смотрели на постояльцев.
– Вот это да! – с восхищением выдохнул Илларион и уважительно с интересом посмотрел на мастерицу. Та смутилась и, бросив лукавый взгляд на Иллариона, потупилась, водя кисточкой по собачке. Её тонкие, с длинными изящными пальцами руки, казалось, только и созданы были для этой работы.
– А можно мне посмотреть поближе, – спросил Илларион, глядя то на девушку, то на хозяина.
– За смотр денег не берём, – просипел Борис,– смотри раз интересно. Только в вашей деревне это мастерство вам не к чему, вы люди чисто сельские; зерно, куры, гуси. Да и потом в этом деле, окромя всего прочего, талант богом данный нужён. Хомуты шить, и то сноровка нужна, а тут…
Африкант мигнул сыну, дескать про наше игрушничество помалкивай.
– А как же она? – кивнул Илларион на Фиму.
– Она – это она, – ответил хозяин, – тут особый случай. Мы-то сначала горевали, плакали. А потом, когда я один остался, после смерти жены, да мозгами раскинул и понял – не случайность всё это.
– А што же тогда,– спросил Африкант?
– Ну, тя-тя, опять вы, – засмущалась красивая калечка. Голос её был подобием журчащего ручейка.
– А что, тя-тя, что тя-тя? – сказал отец и добавил. – Перст на ней божий. Быть значит такому. А иначе как бы сему таланту проявиться? Так вот она лепит, а я торгую, и всё у нас ладится. – Он помолчал. – Вы лучше расскажите, как у вас в деревне? Снегу на полях много, – и хозяин, сев с Африкантом за стол, повёл разговор о хозяйственных делах.
– И давно вы этим занимаетесь? – спросил Илларион девушку, когда их отцы отвлеклись разговором.
– Не помню, вернее как себя помню, так этим всегда и занимаюсь, – прозвучал её очень нежный и звонкий как колокольчик голосок. – Подружки со мной не водились, всё больше дразнились, обзывали по-разному из-за моей внешности. Я с ними водиться перестала. Так, привыкла к одиночеству. – Но тут, же улыбнулась и добавила. – Только вы, Илларион, не подумайте, что я одинока, мне с ними ни капельки не скучно, – и она кивнула на игрушки, – я с ними разговариваю, а они со мной. Так и живём.
– Как же, Фима, они с тобой разговаривают, они же глиняные?
– Это для вас они глиняные, а для меня самые настоящие, живые, – и она посмотрела на парня доверчиво. – А гляньте внимательнее, вот это злюка,– и она указала на глиняную собачку, – а это ревнивец, – и показала на другую, а вот этот, – и она подняла со стола длинноухого глиняного щенка, – миротворец. Он их всех лижет и успокаивает.
Она взяла миротворца и, поцеловав его в носик, прижала к щеке. – Правда, милашка? – спросила мастерица,– и, не ожидая ответа, продолжила. – Игрушки – это те же люди, со своими характерами и манерами. Я их и ругаю, и стыжу, и хвалю – а вы говорите скучно. А хотите, я вас научу лепить и о глине расскажу много чего?
– Глину мы тоже видали, сараи мажем, саманы сбиваем, – сказал Илларион, решив пока не говорить девушке о собственном игрушечном деле. – Да и какое это дело по сравнению с этим. – Он окинул взглядом помещение. – Тут целая мастерская, а у них в деревне лепят после ужина, как стол освободиться или на широкой кухонной лавке, размах конечно не тот.
Фима засмеялась. Илларион насупился.
– Не сердитесь, я не про саманы…, я про лепное дело, – сказала Фима. – У вас ведь в деревне лепкой не занимаются?
– Так если что из надобности, – уклончиво ответил юноша, думая о том, что если он скажет о собственных игрушках, то девушка замкнётся и разговора не получится.
– А что, из надобности?
– У нас в чулане и сейчас петух глиняный стоит, дед слепил.
Девушка удивлённо подняла брови.
– Понадобилось соседского петуха от нашего двора отвадить, – добавил Илларион.
– Зачем?
– У нас в деревне хороший петух особую цену имеет, это, можно сказать, авторитет хозяина. И каждый в своём хозяйстве старается таким петухом обзавестись, чтоб в драке другим не уступал.
– А ваш, что же, уступал? – полюбопытствовала Фима.
– Наш не уступал, только сосед наш Фомка, как отец рассказывал, откуда-то привёз драного петушишку, который всех петухов в деревне побил. Вот дедушка и слепил из глины такого же петуха как наш и выставил его на навозную кучу.
– И что, получилось?– заинтересовалась девушка.