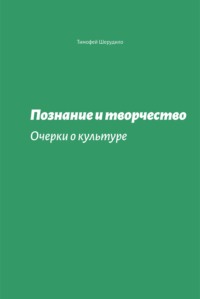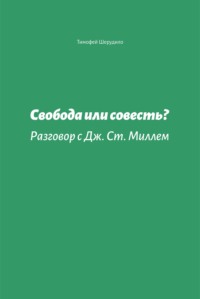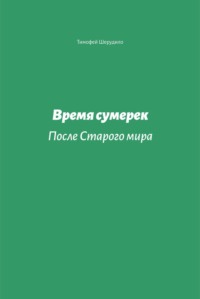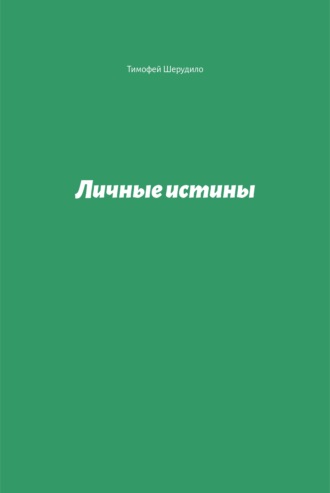 полная версия
полная версияЛичные истины
Поэтому так легко отвести ссылки на «рост уровня знаний», будто бы дающий нашей эпохе право решения старейших философских вопросов. Кипы фактов действительно громоздятся всё выше, но это не основа для какого бы то ни было мировоззрения, а только сырой материал, для овладения которым необходимо мировоззрение уже выработанное41 . Из сырых и несвязанных фактов не строятся мировоззрения, разве только служебные; напротив, лишь на основе уже выработанного мировоззрения факты приобретают смысл и стройный порядок. Говоря образно, порядок накопления и расположения бумаг в архиве не есть их внутренний смысл, тогда как наука (с моей вечной оговоркой о возможной подмене понятий) полагает, что из взаимного расположения, формы и цвета бумаг в хранилище можно извлечь некий внутренний смысл. Вопросы: «Кто построил это хранилище? Кто оставил эти бумаги? Что написано в этих бумагах?» подменяются другими: о виде, форме и цвете хранилища и бумаг. Печально видеть!
***
Слепой детерминизм и отрицание личной ответственности человека странно сочетается в наши дни с требованием для него безграничной свободы. Бесконечная свобода для совершенно ограниченного, поскольку его поступки вполне предопределены, существа – одно здесь противоречит другому! Естественно предположить, что слово «свобода» на знаменах этого времени написано по ошибке, и что на самом деле там должно стоять совсем другое слово:своеволие. Своеволие возможно и для раба среды, наследственности и обстоятельств, да ему оно и больше пристало, чем свободному. Речь идет совсем не о сущностях, не о свободе в подлинном смысле, но об исключительно психологическом вопросе, о чувстве освобожденности, о своего рода опьянении свободой… Вот чего в действительности ищут и находят народы. В свободу больше нет веры – тем важнее сохранить ее ощущение и видимость. И опять же, нельзя не задуматься над тем, как близко сходятся материалистическая вера в полную определенность человека и его поступков средой – и всё большее и успешное подавление этого человека машиной демократического или тиранического государства. «Ты не более как раб обстоятельств – так будь же и моим рабом, – говорит это государство, – но при том наслаждайся чувством полной, небывалой свободы: вот уже и прежние запреты брошены на землю, и прежние заповеди горят!» Свобода и освобождение, как показал опыт XX столетия, суть совершенно разные вещи, более того: освобождение не ведет к свободе. Напротив, именно на пути «освобождения» от заповедей, привычек, запретов, обычаев, словом, от истории-религии-культуры в их нераздельном единстве – человек пришел к нынешнему горестному положению. Мы «освободились» – но не для свободы.
***
«Свобода слова» в условиях демократии означает, во-первых, избыток сообщаемых обществуфактов при крайнем недостатке мыслей, и во-вторых – это следует из первого – тщательный подбор этих фактов, но не в пользу определенной точки зрения (в чем демократия видит свое решающее преимущество), а в пользу легкой усвояемости этих фактов большинством. Новости «с душком» имеют несомненное преимущество перед прочими; сообщения дурного вкуса и еще более скверного запаха имеют преимущество перед другими – всё потому, что легче усваиваются и быстрее схватываются полуобразованной толпой. Это несчастное создание – плод просветительных устремлений либеральной монархии и уравнительных идеалов ее наследницы, всеобщей демократии – неспособно питаться ничем сложным и требующим усилий, но при том жаждет постоянной пищи для своего воображения, освобожденного от тяжелой работы и снабженного поверхностной грамотностью – как бы в насмешку. Ни радости простого труда, ни наслаждения высшей умственной жизни недоступны этому дитяти новейшего времени, и оно ищет себе развлечения в одном лишь посредственном, т. е. буквально в том, что посредственно и ему по средствам. Таков оказался несчастный итог: желали низших поднять до уровня высших, или хотя бы сколько-нибудь их приблизить – на деле низшие приподнялись до среднего уровня и упразднили всё, что оставалось их выше. Движение осталось незаконченным. Победа «демократии» оказалась поражением просвещения. Крестьянин не стал Ломоносовым; более того – возможность появления нового Ломоносова отныне исключена. И Ломоносову, и воззвавшему его монарху предъявлен новый идеал середины. С высшими способностями, как и мечтали «бесы» Достоевского, покончено, и выдается этот конец просвещения за начало новой блистательной эры, тогда как на самом деле итог новейшей эпохи прост и печален: ученики сожгли школу и на ее месте поставили памятник Свободе.
***
Отцы современной демократии хотели создать общество, в котором одинокая и самодостаточная личность была бы предельно защищена от вмешательства со стороны. Это удалось, и против натиска Церкви и государства была поставлена крепкая ограда «прав и свобод». Создателями нового порядка личность подразумевалась неизменно страдающей стороной, и все меры предосторожности принимались именно в ее пользу. Прошло время, и оказалось, что лицо всецело защищено от общества, но общество не имеет никакой защиты против злонамеренного лица. И еще хуже: всеми доступными ему средствами убеждения это лицо доказывает, что само понятие «злонамеренности» устарело, что нет намеренийдурных и добрых, а только законные и незаконные, и пределы нравственности, таким образом, точно совпадают с границами закона. Угроза оказалась совсем не там, где ее видели когда-то. Государство и Церковь были некогда слишком настойчивы в утверждении нравственного порядка – гонимую личность от них оградили законами. Но когда освободившаяся буквально от всего личность принялась проповедовать свои, выработанные на досуге идеи – идеи освобождения от тягот морали, войны всех против всех и отбора в этой войне самых пригодных для жизни, идеи наслаждения как высшей цели и общей бессмысленности бытия, словом, когда эта личность наконец одичала духовно и принялась беситься с жиру в своем безопасном мирке – оказалось, что от нее и ее разрушительной проповеди нет защиты. Все учреждения западного общества имеют целью защиту человека от государства, и бессильны теперь, когда пришло время защищаться от потерявшей всякую опору, и притом избалованной долголетним потаканием «свободной личности». И удивительно: чем более резкие и нетерпимые выпады позволяет она себе против нравственного порядка, чем она смелее в проповеди самобожия (как только и может быть названо гуманистическое мировоззрение с его «всё дозволено» в сочетании с ненавистью к Божеству) – тем охотнее она берется в наши дни под защиту. Степень нравственного одичания считается степенью умственной свободы – соблазнительнейший порядок вещей, при котором слабые и неразвитые становятся судьями чужого ума и развития… Я думаю, пора наконец отказаться от глубоко ложной идеи «равенства всех людей» и вернуться к построению общества, которое бы основалось не на слепо раздаваемых «правах и свободах», а на идее обоснованных прав и разумных свобод. Такое общество сумеет защититься против тирании посредственностей, перед которой оказалась бессильна демократия XX века.
***
С точки зрения современности, мыслитель – человек опасный, потому что ищет ясных и точных определений. Тех же, кто ищет ясных и точных определений, наше время считает фанатиками, «скучными маньяками», как это сказано у Лескова. Гораздо более в духе времени расплывчатость и нетвердость основных понятий. Иметь же твердые и ясные мнения значит в наши дниоскорблять общество; для общежития годен только тот человек, который все вещи видит через дымку, стирающую грани и углы, или – что еще лучше – который смотрит на вещи в совершеннейшей безоценочной простоте. Такой и только такой человек удобен обществу, который и черное, и белое предпочитает вежливо называть «серым»: одно – темно-серым, а другое – светло-серым… Привычка к ясности губит человека в глазах нашего времени. «Чего же вы хотите? Это какой-то скучный маньяк!» Всё наслаждение жизнью современная эпоха, как и некоторые другие до нее, видит в неясности, нечеткости понятий, даже, пожалуй, свободу свою в отсутствии ясных понятий и полагает. Если так, она вполне заслуживает названия «эпохи сумеречной свободы».
***
Хотите погубить человека? Привяжите его к земле. Крепко, навсегда привяжите. Привяжите его к многочисленным потребностям, а особенно к ненужным. Заставьте его ценить себя настолько, насколько эти потребности удовлетворяются. Пусть основой самооценки будут не способности, а желания – этим вы достигнете очень многого: главное, вы отвлечете человека от вечного и неизменного и привяжете его к мимоидущему, даже более: вы заставите его поверить, что он сам – нечто мимоидущее и маловажное, «пар над водами». Привязывайте его к ощущениям – это совсем не то же, чточувства; ощущения всегда неглубоки, ничему не учат и никуда не ведут – привязывайте человека к ощущениям, раздражайте и возбуждайте его, чтобы никогда в нем не пробудилась мысль. А если она и проснется – гоните ее прочь охапками фактов и трезвоном сведений: внушите человеку уверенность в своем всезнании, достаточную, чтобы за ней могло скрыться любое невежество – и правьте им, и правление ваше будет крепко.
***
В отношении к миру, вещам и людям можно либопросить и заслуживать, либо требовать и брать. «Цивилизация» современности, которой принято так гордиться, в первую очередь есть цивилизация насилия. Необходимость и желательность насилия – ее первооснова, ее коренное допущение. Нынешнее откровенное поклонение сильным и их силе – только завершение долгого развития. Весь пафос «преобразования природы» и технического всемогущества, которым вдохновлялись как русская революция, так и западный мир двадцатого столетия, в нравственно-психологическом отношении сводится к одному: «Получить незаслуженное, даже если его придется отнять!» Эпоха ищет блага не по достоинству и заслугам, но в меру способности желать, и поэтому совершенно неспособна остановиться в своих пожеланиях – ведь удовлетворяемая жажда растет. Человек более не хочет ни просить, ни быть достойным желаемого. Для оправдания первого было изобретено воззрение, согласно которому просить нам не у кого; для оправдания второго – распространено убеждение в «относительности» всех достоинств и призрачности качественных оценок как таковых. Революция и приобретательская демократия на протяжении XX века шли по пути гордости, насилия и самобожия – и вместе зашли в тупик.
***
Время наибольшего «рассвобождения» оказалось временем всеобщего неуважения к свободе и бесстыдного использования умов и воль в корыстных целях. Жажда обмана достигла пределов метафизических, понимая под «метафизическим» нечто сверх потребности и разумных объяснений, – так вот, жажда обмана и основанного на обмане успеха давно перехлестнула всякие мыслимые потребности, и к расхожему определению политической свободы как «свободного состязания» пора сделать прибавку: «свободного состязанияобманщиков». О благородные и простодушные люди XIX столетия! Они были уверены, что на одного лжеца непременно найдется один слуга истины, и правда будет защищена 42 . Дети благополучного века не представляли себе, что такое многоголосая ложь в тысячу глоток, к тому же льстящая инстинктам невежественной толпы. Они полагали, что спор, всякий обмен мнениями будет и впредь подобен рыцарскому турниру, и не думали, что «свободное состязание мнений» превратится в избиение безоружных – ведь правда, как мы теперь знаем, выходит на бой безоружной. Свободу, вопреки всем верованиям ее сторонников, охраняет и спасает от растления только авторитет, сам по себе изъятый из области действий этой свободы, и уничтожение этого авторитета, к которому, силой вещей, так стремятся народы, убивает саму свободу. Такова оказалась истина: чтобы мы с вами могли пользоваться свободой суждений и критического мышления, в обществе должны существовать авторитеты, из-под власти всех и всяческих суждений и критического мышления изъятые.
***
Для появления демонического общества, руководимого демонической моралью, которое мы наблюдаем, необходимы некоторые внешние условия, причем такие, каких почти не бывало прежде. Это, во-первых, крайняя независимость личности, невовлеченность ее в общество, несвязанность, выключение из культуры, религии, всякого совместного действия, словом, общество, состоящее из рядом стоящих, но друг с другом несвязанных лиц. Во-вторых, это полная безопасность и спокойствие государства, отсутствие внешней угрозы. Только при соединении этих условий демоническое общество – понимая под демонизмом крайнее себялюбие, жажду выгод, удовольствий, прибылей для себя прежде всего – способно существовать. Почему так? Не разделяя веры в возникновение нравственности из общественных потребностей, нельзя не видеть, что существующие нравственные ценности,ценности самоотречения, только и делают возможным существование общества. Себялюбие, жестокость, алчность, насилие неуместны в человеческом обществе, по меньшей мере, до тех пор, пока одни члены этого общества имеют нужду в других. Но всё меняется с приходом нового времени, которое можно назвать «временем уединения». Одиночка в своей погоне за благосостоянием не имеет нужды в других одиночках, ему в лучшем случае нужна пара, но не как жена – помощница и советчица – нужна мужу, а как волчица – волку. Общественные скрепы распадаются, и впервые в истории демоническая нравственность, прежде достояние уединенных и сильных злодеев, становится доступна среднему человеку. Присоединим к этому внешнюю безопасность. Угрожаемое и слабое государство не то что не может позволить своим гражданам уединенную погоню за выгодами и удовольствиями, оно просто падет, как только мировоззрение «будем есть, пить и наслаждаться, потому что завтра умрем» – как только это мировоззрение победит. Строго говоря, и современное всесильное государство тоже не может держаться на этой вере и ее делах, но оно крепко накопленным запасом прочности, трудом прошлых поколений, и устойчиво, пока этот запас не иссяк. То, что мы наблюдаем, есть именно последний упадок, ни в коем случае не расцвет и подъем. Демоническое мировоззрение, мировоззрение хищной гордости, хорошо и упоительно только на свободе и в безопасности, в тени крепкого государства, пока это государство еще стоит, но с точки зрения культуры это непроизводительное проедание запасов. Демонизм бесплоден. Он весь в настоящем и не может иметь продолжения. Конечно, его приверженцы думают, что богатство, сила и безопасность будут на их стороне вечно, что потребление не имеет границ – но они ошибаются. Западное человечество преступило заповеди и увидело, что эти «раздражающие запреты» были хранителями общества, что по выходе из мира добра всё, к чему мы ни протянем руку, стало превращаться в труху…
***
Во времена быстрого культурного упадка удобнейшее настроение – нравственный релятивизм. Оно позволяет каждому последующему поколению, спустившись на еще одну ступеньку вниз, сохранить уважение к себе. Всякая перемена начинает рассматриваться как «прогресс»; качественные оценки уступают место количественным; и прискорбное состояние умственного застоя, если не прямого соблазнения масс ложными ценностями, начинает выглядеть «новой ступенью культурного развития»… Великое дело – стремление во что бы то ни стало сохранить уважение к себе, и первый шаг на этом пути – устранение сравнений и оценок. Всякое явление начинает рассматриваться само по себе, взятое отдельно от других, без связи с прошлым и без мысли о его влиянии на будущее, и рассматривается исключительно с количественной и описательной стороны – как «распространенное», «имеющее успех», «модное» или даже «современное», т. е. беспочвенное – ибо «современность» того или иного явления есть прежде всего мера его беспочвенности и чужеродности в культурной среде. Чем более что-либо дико, тем больше оно почитается «современным». И мера разрыва с прошлым делается мерой достоинств.
***
С. Л. Франк обосновывает ту мысль, что монархия требует известного уровня духовного развития, какого наше время уже не имеет, и почти невозможна в условиях понижения этого уровня. Для ее существования нужна вера в божественное происхождение наших ценностей и установлений, в первую очередь – государственной власти. Я бы к этому добавил, что демократия, которая во всём видит только «учения и предания человеческие», способна существовать и в обществе с заметно пониженной нравственной (нравственное нераздельно с духовным) температурой; она даже сама понижает эту температуру, как до прихода к власти, так и после. Правда, способность демократии справляться с разобщенным и безверным обществом тоже небезгранична: начиная с известного предела, индивидуализм и релятивизм становятся шаткими опорами. «Свобода личности», в конце концов, хороша только до тех пор, пока эта личность сохраняет если не совесть, то трезвое представление о своих пределах и обязанностях. До этих пор «свобода» является, собственно говоря, только мерой благожелательного невмешательства в дела личности, которая и без того себе знает меру, сама для себя предел и закон. С исчезновением этойнравственно вменяемойличности, т. е. с появлением человека, воспитанного на неограниченности прав и отсутствии обязанностей, более того – полагающего саму идею «долга» преступной, положение меняется. Демократия уже не является достаточной уздой для этой «новой личности»; эта личность как нельзя более нуждается в воспитании – а воспитателей нет в запасе, и сама мысль о необходимости воспитания давно отброшена…
***
Вероятно, каждая эпоха упадка считает себя эпохой последнего подъема. Во всякомокончательном падении есть нечто роковое, а именно – неудержимость движения и ослеплённость увлекаемых им. В этом разница между простым понижением уровня и решительным обвалом. В первом случае есть и живые силы, и надежды, и способности – но нет им применения, и они ждут. Обвал, рок – когда живых сил, надежд и способностей нет, когда задача превосходит силы решающего. Рок – это падение, которого невозможно избежать, п. ч. те же движения крыльев, которые до сих пор приводили к подъему, теперь влекут вниз. Проклятие человека и человечества, надо заметить, состоит в том, что, достигнув целей, он продолжает их добиваться, и те же усилия, которые приближали к желанному, начинают от него удалять. Однажды достигнув, к достигнутому нужно терять вкус; вместо этого человек, в большинстве случаев, продолжает бесконечно желать. Как сказал бы старинный грек, «боги любят умеренность желаний». И неумеренно желающий имеет успех, спору нет, – но его успех есть только ступень, передышка перед провалом. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность», говорит Библия. Даже всего доброго и прекрасного можно достигнуть только один раз; желание достигнуть того же, но в удесятеренном размере наказывается неудачей.
***
В связи с упомянутой верой в осмысленность жизни можно и о другом сказать. Согласно господствующим в наше время взглядам, получается, что более высокая духовная организация (признак которой, в частности – убежденность в осмысленности и цельности бытия) говорит о низком, первобытном уровне развития. Любопытно, не правда ли? «Наши предки были убоги и неразвиты, поэтому могли иметь поэзию, философию, религию… Мы же преодолели всё это – и не имеем ничего». Как это соотносится с излюбленной мыслью современности, с верой в прогресс? Либо прогресс охватываетвсе стороны человеческого, и тогда это действительно достойное восхищения движение; либо прогресс есть всего лишь боковое развитие, разработка технических приемов, от которой духовное благополучие человечества не только не прибавляется, но – уж теперь это очевидно – на глазах убывает. Тогда, в этом последнем случае, «прогресс» есть род болезни, мощной и трудноостановимой, и все его признаки – неудержимость, быстрота и скорое распространение – из положительных переходят в отрицательные, т. к. это черты болезни. Опыт же нас несомненно учит, что «прогресс» означает угасание и умаление человеческого во всём. Где же в таком случае его место – среди благ или среди болезней? А больной… больному наши рассуждения не слышны. Напротив, слышите ли вы, как он гордо кричит: «Смотрите, как сильна моя болезнь! Смотрите, какой у меня неслыханный жар! Смотрите, как лихорадка трясет мое тело! Не было еще на свете болезни, подобной моей!..» Я шучу над опасно больным, может быть, умирающим, хотя мне предельно грустно.
***
Прежде страдали от недостатка; современное западное человечество, впервые в истории, страждет от избытка. Соблазн стяжательства был, конечно, и раньше, но пока приобретательство требовало большого труда, предприимчивости и удачи, даже в стяжателе оставалось место для известных достоинств: бодрости, упорства, целеустремленности… Стяжательство было всё же трудом, а трудящийся не остается без вознаграждения. Но с того времени, как приобретения сделались легче, всё изменилось. Вещи сами приходят и зовут: «Возьмите нас!» Если прежде речь шла о том, чтобы защитить свою душу от порока жадности, так сказать – внутреннего врага, то теперь нужно защищаться от потока вещей, которые всеми средствами, всеми уловками стараются вызвать к себе любовь, а это сети посильнее и покрепче прежних. Раньше человек выходил на жизненное поприще, ища себе трудов и неотделимых от этих трудов соблазнов – каких, зависело от того, что находил он в собственной душе. В утреннем тумане он выбирал путь, чтобы следовать по нему до конца… Теперь тот же человек остается в покое; он никуда не следует, никуда вообще не направляется (т. к. не верит, что вообщеесть куда идти) – соблазны приходят к нему сами, как они когда-то приходили только к сильным мира сего. Как царям и князьям прежде, ему достаточно только протянуть руку и зачерпнуть. Но к царским соблазнам этому человеку недостает царственного величия. Он бросается в погоню за умело показанными ему благами… и бежит, пока хватает дыхания. Вещи стали слишком сильны. Человек эпохи демократии действительно сравнялся с царями – в смысле состоящих у него в услужении сил, внешних удобств и искушений. Однако цари повелевали, им же самим повелевают – вещи, силы которых не смог он преодолеть.
***
Последние несколько веков очень много пеклись об охранении «человеческого достоинства». Однако время показало, что «человеческое достоинство», взятое как цель, есть только шаг на пути к обособлению и гордости, и больше того – что идеал самодовлеющего «человеческого достоинства» и слаженная общественная жизнь как-то печально несовместимы, если не противоположны. «Человек должен уважать себя и бытьбезусловно уважаем». Но истинное самоуважение как раз не безусловно, не беспредельно; мы не только ценим себя лишь по заслугам, когда они есть, но и добровольно поступаемся самооценкой ради уважения или любви к другим. «Безусловное самоуважение», «безусловная ценность человеческой личности» – из этих прекрасных слов следует разрушительный вывод: что каждая личность хороша и достойна не в своем идеале, не в воображаемой высшей точке – но здесь и сейчас, и уже здесь и сейчас заслуживает безусловного уважения. Человека думали возвеличить, оказав ему почет не по заслугам, а на деле унизили как никогда, п. ч. внушили, что он «и так хорош». Такова правда. Идея «прав человека», «неотъемлемого достоинства» была, может быть, и хороша на высотах, но оказалась совершенно неприложима на земле.
***
Считается, что несколько столетий назад человечество освободилось от груза давних предрассудков. Даже если бы это было так – удивительно, как быстро оно обзавелось новыми бездоказательно принимаемыми истинами, среди которых – идея равенства. Как и многое другое внаследии революций, эта идея подлежит переоценке. Равенство было некогда удобнейшим химическим реактивом для разложения политического устройства старой Европы, для разнуздания масс. Все революции, не исключая и последней, русской, пускали в народ идею равенства только затем, чтобы разжечь пожар, и брали ее назад на следующий же день после победы. «Равенство» совершило ужасную подмену в человеческих отношениях. Если прежде задавались вопросом: «как поднять и очеловечить угнетенного заботами человека?», то в эпоху демократии вторая часть этого призыва – «очеловечить» – оказалась отброшена. «Поднять и внушить неколебимое довольство собой», это будет вернее. Вся нравственная сторона заботы об угнетенных отпала. Поднять из грубости до уровня высших? Зачем? Не лучше ли оставить в прежней грубости, но придать к ней досуг, самоуважение, почти неограниченную свободу?.. Вопрос о духовном совершенствовании той части рода людского, которой заботы не оставляли времени на иное развитие, кроме развития мышц – оказался подменен другим: об уравнении благосостояния независимо от уровня развития. Последствия известны. Мещанское счастьице разлилось по Европе, раскатилось за океан, а теперь насаждается и в России…