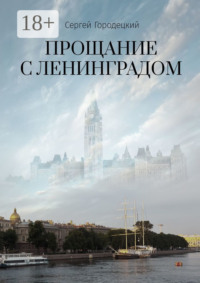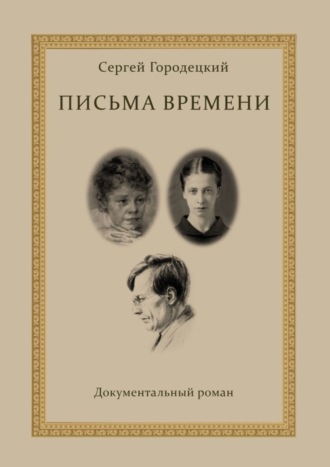
Полная версия
Письма времени
После демобилизации я два месяца лечился дома от полученного в дороге ревматизма, а затем поступил в июле 1918 года на службу в Центральное Управление по снабжению Красной Армии. Через некоторое время я был переброшен на работу в Нижний Новгород, а затем в управление Приволжского Военного Округа, где начал работать во II мобилизационном отделе.
В июне 1919 года я был командирован с секретными сводками о ходе сбора оружия по губернии в Реввоенсовет Восточного Фронта, в г. Симбирск. По выполнении данного мне поручения заболел, перенес тяжелую операцию.
По возвращении в Н. Новгород я подал рапорт и был зачислен в только что сформированный для отправки на фронт конно-горный артиллерийский дивизион начальником команды разведки. Под Казанью наш дивизион принимал, проверяя его готовность, т. Фрунзе. Вскоре нас отправили в Туркестан на борьбу с басмачами.
В Туркестане, в составе конно-горного артиллерийского дивизиона 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии, я принимал участие в действиях против басмачей с февраля 1920 по февраль 1921 года в качестве начальника команды разведчиков, начальника команды связи, командира взвода и т. д. В памяти встают выезды для преследования басмаческих отрядов, ночные тревоги, напряженная боевая жизнь…»
Документы, письма, дневники, рукописи… Я долго разбирал их в длинные зимние ночи. Странно, что прошлое возвращается тогда, когда становится далеким. В мимолетных улыбках, случайных движениях, мелькнувших профилях старых фотографий угадываются характеры, судьбы, и чем больше будешь смотреть, тем яснее будет рисоваться за очевидной внешностью незримая жизнь.
Стихи… Стихи человека, глубоко понимавшего поэзию, но так и не опубликовавшего ни одного из своих подготовленных к печати сборников стихов. Разве что совсем немного, еще в юности.
Для меня, т.е. через поколение все это стало частью моего мироощущения. Прошлое не исчезло, не обратилось в ничто. Оно существует, просто осталось позади, на том отрезке пути, а не только в памяти. Оно идет тебе в руки – на, бери…
Вот несколько вырезок из газет того времени.
ВЕСТНИК Ив.-Вознесенского Губсоюза Потребительских Обществ. Двухнедельный журнал по вопросам хозяйственной жизни и кооперации.
Зимние ласки. – Альманах. – Кинешма. Лит.-худ. Об-во – 32 стр.
Маленькая, в 32 страницы, книжка на хорошей бумаге, любовно и изящно изданная, правда, скорее похожая по внешности на сборник стихотворений, чем на альманах, причем и само слово альманах набрано неудачным шрифтом и помещено на случайном месте обложки. Участвую в сборнике исключительно местные силы – Кинешма, Плесс, Иваново – и это первое, что хорошо. Почти весь альманах заполнен стихами – 36 вещей; прозаик нашелся лишь один, давший маленький очерк из жизни Ивановского студенчества. В стихах преобладают плессцы и кинешемцы. Не будем поэтому останавливаться на знакомых Иванову именах, которые являются в сборнике гостями.
Останавливает внимание Б. Городецкий своими Туркестанскими пьесами, простыми, свежими, полными вещественных, конкретных подробностей, что придает им необходимый колорит. Поэт, очевидно, молодой, обладает ценным умением ставить на своем месте нужные слова, когда неожиданные, задерживающие внимание эпитеты дают впечатление того своего, что и ждет читатель от каждого вновь появляющегося писателя. «Сумасшедшая ночь», «Перекрестилась рожь», «Многоголосый туман» – все это от подлинной поэзии. Понравился нам своей выдержанностью «Вечер», понравилась заключительная строка стихотворения с начальной строкой: «Косогоры, овраги». В «Стихах о царевне» хорошо второе-третье стихотворение. Стихотворение Д. Семеновского «Ах, какой заставлю силой» и отмеченные стихотворения Б. Городецкого – лучшее, что есть в сборнике.
Необходимо отметить пьесы Смирновой, которые просты и образны. И Городецкий, и Смирнова многими нитями связаны с Буниным, да и как им не быть таковыми на тихих, поросших соснами холмах Кинешмы, глядящей на волжские дали. Радует сознание, что молодые поэты не оторвутся от почвы, которая их породила, и будут черпать вдохновение из родного, незамутненного источника.
Л. Чернов, очевидно, еще слишком молод, и по его вещам, достаточно темным, больше строгости к самому себе, больше сжатости в своих вещах.
Н. Смирнов, М. Артамонов и С. Селянин дали характерные для них стихотворения; выделяется значительностью своего внутреннего содержания последняя строчка стихотворения С. Селянина.
Занятна рассказанная М. Сокольниковым попытка постановки в Костроме Блоковской «Розы и Креста».
Приветствуем начинание Лит.-худ. кружка, желаем, чтобы он был дружнее и теснее, и верим, что в будущем, вдумчиво и не спеша поработав над своими дальнейшими опытами, он снова даст знать о себе, не отгоняя на будущий раз падчерицы – прозы, в которой хотелось бы увидеть отражение местного быта.
Газета «Рабочий край» Иваново-Вознесенск
(Статья появилась через 2 дня после «указующей» статьи т. Троцкого в «Правде»)
Не хотелось писать вообще об этой книжке, хорошо изданной и пошло озаглавленной «Земные ласки». А после статьи Троцкого о внеоктябрьской литературе, пожалуй, и не было надобности писать. Этот Альманах (?) целиком и полностью подходит под ту характеристику не приемлющей и отрицающей революцию (а, стало быть, и жизнь) литературы, о которой писал Троцкий.
Но писать, к сожалению, приходится, так как в редакцию поступают отзывы со стороны и – опять-таки к сожалению – не только из тех кругов, для которых собственно и печатаются на прекрасной бумаге все эти душеспасительно срифмованные, елейные песнопения о соловьях, подснежнике, царевне, об утре, полдне, вечере и так далее, но и от людей, которые, казалось бы, должны быть бесконечно далеки от поэзии, которая представляет из себя смесь перепевов Фета с церковными канонами.
А это именно так. Это сказывается прежде всего на стиле. Почти все представленные в тощей книжке на 31 стр. поэты удивительно пристрастны к церковным образам и словам.
Вот несколько выдержек:
БЛАЖЕН; БЛАГОСЛОВЛЯЕТ; КАК ЛАМПАДА ПЕРЕД ИКОНОЙ (Дм. Семеновский). И чудится – идет БОГОСЛУЖЕНИЕ… О БЛАГОСТИ ВСЕМИРНОЙ; березка МОЛИТСЯ (Борис Городецкий); и засвечен звездой БОЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН; солнце с ПРЕСТОЛА на землю сошло (А.П.Смирнова-Ворфоломеева); НЕЗДЕШНИЙ, СВЯТЫНЯ (Сергей Селянин).
Поэты из Кинишемского «литературно-художественного (церковно-художественного?) общества» настолько религиозно настроены, что Леонид Чернов-Плесский даже петуха приобщил к Тихоновской церкви:
Вероятно, впрочем, вышеозначенный петух пришел в такой церковный пафос от последующего четверостишья:
От такого нагромождения поэтических образов не только петух, МЫШЬ запоет, только не «аллилуя», а «избави нас от лукавого»!
Однако сколько-нибудь толковый религиозно настроенный петух должен придти в благочестивый ужас от такого места из того же вычурного – под вычурным заглавием:
– стихотворения:
Как говорят, полиандрия (многомужие) распространено в Албании, а у нас в России в церковную «догму» это занятие пробовала вводить Охтинская Богородица. Не перебралась ли она в Кинешму?
Борис Городецкий в стихотворении – какие обычно печатались в рождественских номерах «Нивы» под заглавием «Елка» – но в сборнике, переименованном почему-то в «Дремотный сон» (если это не простая характеристика душевного состояния «Лит. худ. о-ва»), живописует такие картинки.
Быт – достаточно хорошо объясняющий происхождение всех этих песнопений.
Леонид Чернов-Плесский приобщил петуха к Тихоновской церкви. Именно к ТИХОНОВСКОЙ, так как кинешемско-беспартийно (?) – церковное «лит.-худ. о-во» по своей идеологии, очевидно, даже не дошло до «живой церкви».
Идеология этих тихоновских певцов очевидно выражена в стихотворении Л. Чернова-Плесского – «В сиянии утра», где:
Это «благочестивое» стихотворение посвящено первому сборнику Кинеш. «Литерутарно-худ. Общества» и помечено: «Кинешма, июнь 1922».
Воля читателя, но смысл этого «сияния утра» как-то само собой расшифровывается так, что «утро» – Нэп, засиявший над верующим капиталом, которому уже грезится, как раскроются «раевы врата» воскресения буржуазного общества, а «иссохшие адовы сети» диктатуры пролетариата будут «во песках во сыпучих зарыты». Страшен сон размагниченной, религиозной интеллигенции, да милостив день истории. Пролетариат будет строить новое общество, оглушая нежные уши сюсюкающих чистоплюев, и, несомненно, создаст поэзию дня, предоставив кинешемским псаломщикам, как соловью Леон. Черн.-Плесского:
Всего отвратительнее (и это вторая причина, почему приходится писать) видеть в этом сборнике епархиальной поэзии «творения» поэта-коммуниста Ник. Смирнова. Добро бы они попали более или менее случайно, как стихи Смирновой-Варфоломеевой! Нет, они как нельзя больше кадят церковным ладаном.
В четырех помещенных стихотворениях целиком выдержан церковно-лирический, елейный тон.
Первое так и называется: «Свете Тихий». Это – не аллегория, это —обычное церковное обращение к Христу, о котором идет речь. В стихотворении «На Волге» —
И дальше:
В стихах «Левитанские места» у Ник. Смирнова – «ВЕТЕР-ВЕЧЕРНИЙ ПСАЛОМ». Там же – и «Тихие очи Христа», и АРХАНГЕЛ, и т. д.
В последнем стихотворении – «БЕССМЕРТИЕ» – Ник. Смирнов рекомендует себя «ВЗЫСКУЮЩИМ МОНАХОМ» и, видимо, не прочь взять на себя роль праведника.
Я не знаю, к кому молодой «пророк» обращает свои призывы о вере, но эти призывы вовсе не о вере в творческий гений пролетариата, ибо не коммунизм, не революция зажигает огонь проповедничества у Ник. Смирнова. Его вера – обыкновенное тихоновское православие.
Он сам говорит:
Огонь мой – луч Христова взгляда.
(«Свете Тихий»)
Разумеется в РСФСР провозглашена свобода вероисповедания, и Ник. Смирнову предоставляется полное право исповедовать и тихоновское православие, и состоять вместе с Черновым-Плесским в секте Охтинской богородицы (если эта секта не находится в разногласии с уголовным кодексом по части разврата); даже при существующей свободе печатного растления – он может издавать на прекрасной бумаге свои псалмы, но как Николай Смирнов примиряет свое христианское поэтическое творчество с принадлежностью к РКП, абсолютно не понятно.
В сборнике есть рассказ о каком-то проходимце из «бывших студентов» Мих. Сокольникова. Мимоходом в нем разоблачается вранье интеллигенции о том, как ее Советская власть притесняет.
В рассказе не сказано, что речь идет об Иванове, но это и без того ясно. Как отнесся «город» к переведенному туда во время революции высшему учебному заведению?
А вот как:
«Своим высшим училищем город гордился: к нуждам его относились серьезно, хлопотали в центре. Устроили так, что ежедневно, в специальных вагонах, из Москвы приезжали знаменитые профессора».
Вот вам и опровержение сказки о враждебном отношении к культуре варваров-большевиков, сделанное интеллигентом в книжке для сельских попов.
Выводы?
А выводы таковы, что как бы ни бесцветны были кинешемские «эмигранты» от революции в византийскую церковь, как бы ни мало читались они рабочими (на кой черт рабочему этот лирический ладан), но вредны они несомненно.
Уж одно появление таких сборников в рабочей губернии, говоря языком кинешемских поэтов, «прискорбно», но надо принять во внимание, что мелкая трудовая интеллигенция, имеющая литературные запросы молодежь, за неимением ничего лучшего под рукой, могут подчас читать эту «поэзию» и будут развращаться.
Вместо проникновения пролетарской идеологией, настроениями, будут отравляться церковным чадом.
Вывод может быть один – организация и распространение пролетарской литературы.
Что касается общественной оценки, повторяю, она достаточно ярко дана в статье т. Троцкого («Правда» за 19 и 20 сентября) о внеоктябрьской литературе, с той разве поправкой, что «Земные ласки» не только вне Октября, но смело могут быть поставлены и вне Февраля.
(посвящается кинишемскому альманаху «Земные ласки)
Мне сейчас так хорошо, как редко теперь бывает. Странно на меня действует контора. Здесь я теряю все свои хорошие мысли, все мои хорошие слова, и все люди кажутся дрянными, и сама я такая же дрянь. И в голове мутно и тошнит… и тоска зеленая. Ужасно нехорошо. В слове «хорошо» или «нехорошо» можно соединить очень много понятий. Вот у нас оно очень много значит. Если мы говорим, что «было хорошо» и какой-нибудь человек – «хороший» – это значит, что в нем соединяются такие качества, которые мы наиболее ценим в человеке, то есть не только обыденные вещи, которыми отличается вообще человек, но и то хорошее, то выходящее из ряда вон, что отличает людей сильных духом и одаренных.
Вот пишу и думаю: как я все-таки неумело и глупо выражаюсь. Мне хочется двумя словами выразить то, что я хочу сказать, чтобы эти несколько слов охватили те понятия, ту мысль, которая у меня есть.
7 июля 1917 г.
Свершилось! То, во что я верила до самой последней минуты, – рушилось. Еще и теперь я не верю, что это не так, но только верю, хочу верить, а на самом деле – никакой надежды. Господи, как ужасно. З. сказал, что нам решили не подавать руки. Они у нас в крови. В нашей русской крови. Вот оно начинается. Начинается преследование большевиков. Ужасней всего то, что оно справедливо… И даже хочется, чтобы они все издевались как можно хуже и грубее. А то великодушно простят. Вот это хуже, во сто раз хуже.
10 июля 1917 г.
Мне нужно много, много сказать именно здесь. Боюсь, что не хватит времени…
13 июля 1917 г.
И действительно не хватило. Пишу только сегодня. Да и то, я за это время так много пережила, что не в состоянии написать про все.
Вчера разбирала свои письма. Случайно нашла письмо Толи. «Я так бы хотел чтобы Вы приехали, что на радостях готов целовать и целовать Вас». «Я так ценю нашу дружбу, Ниночка!» – пишет он. Тогда я, привыкшая к таким фразам в его письмах, только улыбалась, как-то поверхностно переживала это и подобное. Мне даже казалось, что это неуважение ко мне, а теперь совсем иначе. Отвыкшая за последнее время от ласкового слова, живущая какой-то походной жизнью, я прямо поразилась, прочитав эти строчки. И мне могли так писать! А может он так и в действительности чувствовал. И вспомнился Толя… И показалось, что в месте с ним ушло мое счастье. Хорошее, милое, маленькое, но полное счастье. И так было жаль, что я тогда не уехала к нему туда в далекий Брянск. Все существо, все мысли, все потянулось туда за ним, молоденьким, хрупким, едва произведенным офицером. Потом прошло. Подумалось так же как и тогда, когда я писала ответ, что это неискренно, что это под влиянием беспутной военной жизни. И сейчас то же. Хотя в глубине души мне очень хочется поехать к нему. И подчас я даже мечтаю, как бы мы с ним хорошо зажили. Я хочу послать ему письмо, спросить только, жив ли он… И не хочу, что бы он подумал, что мне он дорог, хотя бы даже минутно – дорог.
Теперь другое. Нам, то есть всей России грозит голод. Какой это ужас! Представляю себе, что Витя и Володя и мама умрут от истощения. Я, папа и Оля, как крепкие натуры – выживем. Но прежде этого будем, может быть, как дикие звери драться из-за каждого куска хлеба, из-за каждой капли молока… Вот когда я пишу, это совсем не так ужасно, а когда представляю, то гораздо живее и ужаснее. Ну представьте себе: Витя лежит больной – нужно достать молока. Мама истощенная, голодная, худая идет за молоком, а там, как и теперь, куча, тогда может быть в десять раз большая чем теперь, баб, кричащих пронзительно голодными ужасными криками. Им тоже нужно молоко. И вот, несмотря на то, что они имеют такое же право на молоко как и мама, она все же расталкивает толпу, насколько позволяют ей силы и получает (в лучшем случае). Но на нее, конечно, накидываются женщины с озверелыми физиономиями, рвут на ней платье. Она отбивается. Молоко, прижимаемое крепко к груди, плескается. В лучшем случае она доберется домой с каплей молока, которого не хватит даже больному ребенку, а ведь ее могут и убить и отнять и измучить так, что она не дойдет до дому. А потом, когда не станет сил жить в городе, мы пойдем куда-нибудь в провинцию в надежде найти хлеба. И это зимой. Вижу я: темно… по узкой дороге снежного поля идем мы, закутанные в лохмотья, голодные и измученные. Может быть в одной из деревень нам бросят корку хлеба не шестерых, в другой удастся что-нибудь украсть и в конце концов – неизбежная смерть, голодная и ужасная…
Когда я раньше читала про народные бедствия, мне было жаль, зачем я не была их участницей, что бы помочь всем. Теперь же я знаю, несмотря на мое очень, очень сильное желание, я ничего не сделаю, и мне теперь хочется как-то перескочить к другому, хорошему будущему. Мирному. Главное – мирному, а остальное приложится…
15 июля 1917 г.
Я начала писать эту тетрадь для того, что бы яснее разобраться в своих мыслях, но только уж очень их много за последнее время. И нет сил записать.
5 мая 1918 г.
И хочется писать и не хочется. Хочется потому, что как-то лучше разбираешься во всем, кода пишешь. Не хочется потому, что всего не напишешь, а часть – бесполезно. Самое же главное еще очень смутно обрисовывается в душе и хочется хранить про себя. Все, что чувствуешь хочется сказать очень кратко и сжато – вылить это в какое-нибудь художественное произведение.
Что лучше – творчество или личное счастье?
16 июня 1918 г.
Душа, безмерно жаждущая любви и любовной страсти, оскорбленная жизнью, ее мертвыми ласками и холодными руками, которые убивают своим прикосновением и тело и любовь – вот тема В. О. Комиссаржевской. Разве не известно тебе – нужно ли мне идти туда или нет? Могу ли я или нет? «Достаточно одного маленького знака – и я…»
Я право не знаю, что мне делать. Мне так хочется и я так боюсь, что не смогу…
15 июля 1918 г.
Весь – как старинная, стильная, ложно-классическая гравюра Брюллова. Глаза – агаты, какого-то темно-вишневого цвета, полные краски… Ты поешь свою последнюю лебединую песнь. Я начинаю песнь юности. Молодую, порывистую, счастливую подчас, песню красоты, любви и свободы. Что если эти мелодии соединить?
Страшный у меня характер. Я иногда так забываюсь, что только какое-нибудь несчастье способно вывести меня из оцепенения. Самозабвение доходит до ужасных размеров. Иногда я способна прожить в нем несколько дней. Самое ужасное, что самозабвение выражается в каком-то тупом хождении мыслей вокруг одного явления, предмета или чего-нибудь подобного. Не то, что разбираться в явлении, а просто без конца представлять себе, как оно было и как могло бы быть.
Добрая жизнь достигается неустанным вниманием к себе самой и своим действиям, неустанным заглядыванием внутрь себя.
Боже мой! Как я еще не умею жить…
14 июля – это день красивой сказки в моей жизни.
9 августа – это оборотень моей красивой сказки.
Я сама не понимаю, к чему все это? Зачем ему знать меня? И зачем мне знать его?
«Смотрите, что бы удары моего хлыста не были слишком сильны».
22 августа 1918 г.
Я в деревне. Читаю дневник Надсона и начинаю писать свой. Хорошо здесь. Одно меня тревожит – это служба. Велено явиться в понедельник, а я буду не раньше пятницы. И подумать, что есть какая-то дурацкая служба, которая может отравить такое прекрасное настроение, как у меня сейчас.
Есть два мира. Один думает, что жить в деревне и не являться на службу – преступление, другой, к которому принадлежу я думает, что грех отрывать человека от деревни и не позволить ему хоть на две недели пожить там и наслаждаться деревенскими прелестями.
Сижу сейчас на меже между полосами. Надо мной небо, голубое-голубое. Вокруг колосья уж начинают желтеть. Синеют васильки. Косят жито. Снопы красивые, золотистые, с синими васильками.
Облака набежали на солнышко. Каркают вороны. Господи, неужели опять начнутся плохие дни. Набежал и ветерок. Колосья зашумели, зашумели. Шумят будто поют песню. Песню солнца и ветра.
Только вот не думается сейчас ни о чем. В Петрограде было так много о чем нужно было подумать в деревне. А теперь лежишь, смотришь вокруг и так далека от всего Петроградского, городского, что думать не хочется.
Разучилась я писать дневник. И вообще давно не писала ничего порядочного, ни дневника, ни писем, ни сочинений. Вероятно, поэтому думать тоже разучилась. Никак не могу сосредоточиться на чем-нибудь одном. Даже иногда задаю себе думать вот о данном предмете, а все-таки не могу сосредоточится. Плывут в голове образы, картины, воспоминания, мечты о будущем. А думать логически, рассуждать – не могу. Кажется, что вообще могу только воспринимать и сейчас же отзываться на впечатления, а рассуждать о нем – не хватает у меня и сил. Я вот сейчас решила очень твердо, что буду непременно вести дневник. Вместе с тем учиться говорить и точнее выражать свои мысли.
23 августа 1918 г.
Какая прелесть это Надсон! Как много чувства и какая чистота чувства! Не то что у нас. У нас, как только проблеск чувства, так мечты о поцелуях, о близости и прочей гадости. А у него?
«Ах эти ночи безумные, страстные, когда сон летит далеко от глаз, когда кровь жаркой струей бьет в виски, щеки и глаза горят беспокойным, лихорадочным огнем, и все во мне сливается в одну, наиболее приятную мечту о Наташе (хотел бы сказать Таль, да не посмел, даже в дневнике). Разве это не страсть, первая глубокая, вечная страсть?»
Как хороши эти слова и как далеки они от чувств и мыслей молодежи нашего времени. Наилучшие из последних говорят: «Хоть час, да мой».
Ольга Прокофьевна, которую я считаю одной из лучших людей, говорит, что не считает грехом ничто, что доставляет ей наслаждение, хотя бы наслаждение опускалось до самых пределов того, что считается нравственностью. Таня, мечтавшая о чистой любви мистера Марчбенкса из «Кануиды», преспокойно живет с Масленниковым (хотя я до сих пор не знаю, что побудило ее выйти за него. Сомневаюсь, что она любит его. Слишком уж он серенький человечек для любви Тани).
А сама я? Разве я не поддалась барону? Разве не виновата я в том, что осталась тогда у него? Разве теперь не мучает меня желание броситься на шею к Николаю, двоюродному брату. Иногда мне кажется, что это обыкновенное проявление братской родственной любви, иногда, что это проблеск чувственности. Не знаю… Совсем не знаю, чего больше.
Я знаю, что всякая чувственность мне противна, а порывы к ласке у меня были еще тогда, когда речи не могло о чувственности. Но теперь после той проклятой ночи, когда я разумом презираю барона, и забываясь, все-таки хочу его видеть, смотреть в агатовые глаза и протягивать ему для поцелуев свои руки – теперь я сомневаюсь в своей непорочности.
И почему все это? Сравнить поколение 60 – 70 годов, когда все дышало стремлением к добру, беззаветным стремлением к истине, страданием за мир, за людей и преданной, чистой, такой же беззаветной любовью к женщине. И теперь, когда девизом человеческой жизни становится: «хоть час, да мой» и «Лови текущий миг и плюнь на остальное», когда люди запутались и в зле хотят видеть добро, а добро называют злом – это ужасно. Не знаешь, куда идти, что делать и как жить.
Таня вот… Из моих друзей и знакомых, она – самая умная и хорошая. В противоположность мне, у нее всегда существовала цель жизни – сцена. Теперь она соединила свою жизнь с М. А., вдруг у них будут дети? Тогда прощай сцена. Прощай дорогие мечты о высокой беломраморной лестнице, на вершину которой она собиралась восходить к ореолу артистической славы.
Ташенька, моя дорогая. И все же я ее очень, очень люблю! Люблю еще больше, чем прежде. Помню ночью (я ночевала у нее) мы лежали в постели. Она говорила мне о том, что Масленников собирается учиться зимой, что он твердо решил это, и была горда сознанием того, что он будет учиться для того, чтобы быть достойным ее. «А ты сама-то любишь его?» – спросила я. Она мне на это не ответила. А ведь это – самое главное.
По моим наблюдениям… мне кажется, что она его любит, но любит, как своего первого обладателя, а не как человека, любит совсем не так, как мечтали мы с ней о любви безграничной, красивой и полной той неизъяснимой прелести, что делает ее содержательной в широком смысле этого слова.
Еще о поколении, к которому я имею честь принадлежать. Хотя нет, это пожалуй относится к моей собственной персоне. Я совершенно не имею никаких убеждений. Я верую в Бога, и в то же время не верю ему. Вот сейчас я думаю про это самым искренним образом и спрашиваю себя – верую ли я? Нет, в того Бога о котором говорили нам в школе, я не то что не верю, а просто знаю, что его быть не может. Бога во всех догматах, выдуманных досужими, (почему-то мне кажется католическими) клерикалами нет.