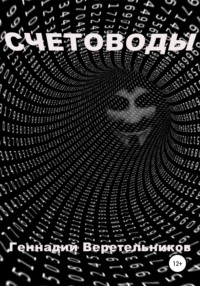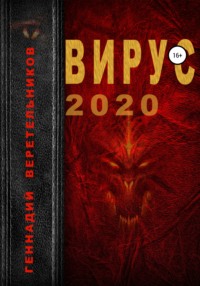Полная версия
Летят Лебеди. Том 2. Без вести погибшие

Геннадий Веретельников
Летят Лебеди. Том 2. Без вести погибшие
Облака летят белым-белые
Помню глаз твоих грусть несмелую
Помню ты молчишь, слёзы катятся
И сыночек наш в юбке прячется
Уходил на фронт, обещал писать
Обещал вернусь, чтоб поцеловать
Я старался, дочь, я старался сын
Не погибнуть зря, средь чужих долин
Из окопа вижу белых лебедей
Не судите птицы, глупых нас, людей
И прошу ту стаю, что летит домой,
Передать любимой, мой поклон земной
Птицы смелые, машут крылами,
Машут белыми, летят милые
Если не судьба мне прийти домой
Преврати меня в птицу лебедь мой
В письме искреннем, боль останется
Я вернусь домой, может станется
Может и живым, войны жребием
Если не живым, то жди лебедем
Прилечу в наш двор, покурлыкаю
Лебединую, песню дикую
Ты возьмешь детей, сядешь у окна
И слеза твоя будет мне видна…
Пуля не дала мне закончить бой
Белым лебедем в край лечу родной
Я вернулся в дом, только нет его
Там, где дом стоял, черно озеро
Над воронкою, лебединый крик
Эхом жалобным разлетелся в миг
От обугленных, стен разрушенных
Черной нечистью обезлюженных
Из окопа вижу белых лебедей,
Не судите птицы, глупых нас, людей,
Вы летите лебеди от войны долой,
И возьмите лебеди вы меня с собой,
Птицы смелые, машут крылами,
Машут белыми, летят милые,
Не судьба, любимая, мне прийти домой,
Превратился в лебедя, ненаглядный твой
Без вести погибшие
Судьба солдатская – идти вперёд и умирать,
не надеясь ни выжить, ни остаться в памяти
людей такими, какими они были…
Судьба офицерская – отправлять солдат на смерть, своим примером показывая, что умирать «За Родину!» не страшно…
Судьба предателя – быть расстрелянным…
Чудовищные, но, к сожалению, правдивые слова…
От автора:
После того, как одним из моих читателей были прочитаны оба тома романа «Летят Лебеди», то был рождён стих, который посвящен русским воинам попавшим в плен, и над которыми немецкие «доктора» проводили свои эксперименты. В романе описывается один из них. (Концлагерь Маутхаузен)
Изуверы хотели выяснить, через сколько погибнет немецкий военнослужащий, по стечению обстоятельств попавший в ледяную воду.
Эксперименты, естественно проводили над пленными. Все мужчины и женщины не русской национальности погибали от получаса до часа. И вот привели двух раненых русских офицеров…:
Рабы, на колени немедленно встаньте!Настал откровенья момент:Великая нация Гёте и ДантеПроводит свой эксперимент.Рассчитан объём мозговых полушарий,Цвет глаз и оттенок волос.На сцену выходит воинственный арий!Он в мир Справедливость принёс!Евреи, пигмеи, арабы, цыгане —Исчезнут по воле судьбы!А эти «недочеловеки» славянеДля ариев – просто рабы.Германия – царство великих учёных —Всем прочим покажет пример!Научные опыты на заключённыхПроводит герр доктор Рашер.Здоровье отчаянных асов люфтваффеРашеру натёрло виски.Для опытов создан в концлагере график.Ведь пленным не надо писать эпитафий,Как крысам иль свинкам морским.Они, в барокамерах корчась от боли,Изъяты из списка людей.Такая уж выпала узникам доляВо имя великих идей.У входа охранник, а рядом – собака.Герр доктор грызёт шоколад.Сюда поутру привели из баракаДвух раненых русских солдат.Подводят к Рашеру, не дав оглядеться.У каждого – волос седой.Обоим приказано быстро раздеться —И в чан с ледяною водой.Герр доктор – светило! Он – высшая раса!Он знает (и спорить не сметь!),Что выдержит сердце не более часа,А далее – спазмы и смерть.Вот стрелка хронометра по циферблатуОт цифры до цифры ползёт.В воде ледяной замерзают солдаты.Рашер шоколадку грызёт.На шеях несчастных натянуты жилы,От судорог скулы свело.Но час пролетел, а они ещё живы!Фашистскому зверю назло!Рашер поражён! Не захочешь, а струсишь!Вращаются мысли с трудом:Что делают там эти наглые «руссишь»В воде, охлаждаемой льдом?!Есть жёсткий закон в человечьей природе!Его не нарушит никто!Подумать! – уже третий час на исходе!А им хоть бы что! Хоть бы что!Когда ты пленён и раздавлен бедою,Спасения не обещай!«Прощай!» – прозвучало в тиши над водою.В ответ, будто эхо – «Прощай!»Фашисты безмолвно столпились у чанаС глазами испуганных псов.Но русское сердце исправно стучалоПять долгих и страшных часов!Мы сделаны Богом из разного теста.А, стало быть, разный замес.Вы нагло и подло присвоили местоТого, кто взирает с небес.Но, право, не стоило сравнивать расы,На свой примеряя аршин:Истлеют в земле ваши бравые асыВ обломках подбитых машин.Смысл опыта доктор поймёт у Рейхстага,В аду собираясь гореть:Что русскому Ване – великое благо,То Фрицу – страданье и смерть.00.20 02.06.2021Пролог. Ненависть
Будь милосерден и добр!
– Говорит Господь
Будь справедлив и беспощаден!
– говорит Сатана
Воспоминания ветерана, вернее просто ответ на вопрос:
– Что же такое НЕНАВИСТЬ?
«Я до войны, что такое ненависть и не знал, потому, как причин её испытывать не было. Горе разное было. Собаку, которую сам выкормил молоком козьим – волки зарезали. Бабушка с лестницы упала – разбилась, похоронили. Это было горе. Война началась – это беда. А вот ненависти не было.
Любовь была. Да и сейчас свою бабку люблю.
Я из деревенских, с трактором на «ты», техника ведь схожая с танками, потому в сорок первом, когда война уже гремела тогда вовсю, взяли меня без разговоров в танковое училище.
Был у нас в училище один старшина-инструктор – кличка у него была «в задницу раненый». Его, действительно, туда ранило вскользь, пулей. И он по этому поводу, вероятно, комплексовал.
Раз в заднее место ранен – значит трус. Глупость, конечно, страшная – много там выбирает пуля или осколок – куда попал, туда и попал. Но этот старшина, как волк ходил с утра до ночи, злой, аки чума, ну и вымещал на нас всю свою глупую ненависть. Как только не измывался он над нами. И чуть что не так – орет:
– Трусы, дезертиры, сопляки… Под трибунал пойдете!
Поначалу нам было страшно, а потом мы попривыкли и поняли, что старшина наш был, что ни на есть самый обычный трус, но с властью, какой-никакой, над нами, над салагами, значит.
Раненый – понятно, на передовой побыл – понятно, и обратно туда явно не хотел – тоже понятно. Как-то на самом деле двоих ребят наших, уже не припомню за что, подвел-таки под трибунал.
Ребята решили его придушить ночью. Я был против! Нельзя нам об такую сволочь руки марать! Пообещал придумать план, как его на передовую отправить, ну и придумал.
Было на полигоне, на стрельбах и прочих тренировках, такое упражнение – оборона танка в ближнем бою. Через верхний люк надо было гранату кинуть в цель. Боевую гранату.
Он нас этим упражнением замордовал, вот буквально замордовал!
Нам стало понятно, что он на самом деле трус и страшно боится, что кто-то из нас гранату внутрь танка уронит, где он, драгоценный, сидит и нами командует.
Я припрятал в башне заранее кусок железяки, похожий в темноте (а в танке темно) на гранату, ну и вызвался кидать гранату первым. Трус подает мне (весь потный, он всегда со страху потел) гранату и начинает свою обычную брань:
– Докладывай, что должен делать, сопля!
Я начинаю монотонно бубнить:
– Вынимаю чеку, открываю люк, бросаю гранату, – в этот момент выбрасываю железяку вниз, которая загрохотала, как прощальный вальс немца Шопена, говорю – ёпрст! – и выкидываю гранату из танка, при этом не забываю закрыть люк, чтобы этот дурачок из танка под осколки гранаты не рванул.
Он, таки рванул и ударился головой в закрытый люк, что-то там с матами, и тут прозвучал взрыв гранаты снаружи танка. Он затих и от него повеяло чем-то странным, до боли знакомым, как летом из солдатского уличного туалета.
Он молча открыл люк, вылез и бегом кинулся к ближайшему озеру. Мы же наблюдали всю дорогу на его задней части всё увеличивающееся в размерах рыжее пятно.
Кличку, понятное дело, мы ему поменяли (на «засранца»), но и он ещё более озверел, но стал нарушать инструкцию – заставлял нас всё делать снаружи танка (на половину высунувшись, пока гранату не кинем, а потом уже позволял забираться внутрь). И так было до тех, пор, пока проверяющие не увидели! Да как его построили, да какими словами его обложили! Мать моя, женщина! И покойников он на фронт готовит! Да такого танкиста в поле сто раз из автомата застрелят фашисты! Обозвали вредителем и исполнили нашу мечту – отправили на фронт!
Когда он уходил, то пришел к нам прощаться. Мы же к нему даже не вышли и плюнули ему в след. А наша ненависть к нему сменилась полным презрением. Мы все тут на фронт рвемся, каждый день считаем, сводки фронтовые слушаем, гадаем, где воевать будем, а этот … И жалко, и противно.
Но это тоже была, оказывается, не ненависть!
А вот какая она, эта настоящая ненависть, я чуть позже расскажу.
Третий бой мой начался так. Атака. Взрыв. Улетел в чёрную бездну. Нет сознания, пришел в себя – плен. Но в плену-то другая история, там больше ярость и злоба на всех. Когда меня из плена освободили – сразу короткая проверка, хоть трошки обгорелый я был, но меня признали все мои ребятки из полка, потому не длинная с запросами и посиделками под замком. Потом сразу в госпиталь, ремонтировать мои конечности пострадавшие. На мне с детства всё заживает, как на собаке, хоть и хотели комиссовать, но не вышло по-ихнему, зажило всё. Потому не прошло и три месяца, как я догнал своих! Наступление шло полным ходом! И вот моя рота, новенький Т-34, мечта танкиста Красной Армии! Но не уберёг я его, сожгли его фашисты в четвёртом бою. Расскажу вкратце, как. В колонне танковой завсегда есть первый танк, ну и последний. Так вот, когда нарываешься на засаду или на подготовленную оборону фашистов и ваша колонна не успела развернуться в боевое построение, то эти два танка (первый и последний) всегда страдают больше всего. По ним бьют, чтобы сделать манёвр остальных машин очень сложным в условиях обездвиженности колонны. Кого ставили первым, всегда знал, что шансов выжить очень мало, потому готовились к любым ситуациям и смотрели во все стороны. В тот раз первым в колонне шёл мой танк ну и нарвались мы на минное поле с корректировщиком артиллерии, который сидел на дереве, а били по нам из-за холма, не видели мы их … Танк подбили, и он сгорел, в итоге, ну а сейчас речь не о том, а о шестом танке, который подо мной сгорел. Дело в Берлине уже было, в сорок пятом. Атака. Мы наступаем. Пехоту нашу рассеяли осколочными, и она подотстала на квартал, может пол, не суть важно. Я увидел, через открытый люк, фаустпатрон и тень человеческую, понял, что сейчас шмальнёт он по нам, не успеваем мы его уложить, потому только рявкнул:
– Быстро все из танка! – и люк нараспашку!
Танк, когда в него фаустпатрон попадает, жахает аки лампа с керосином, если попадает в бак с топливом, а в Т–34 он, этот самый бак, почти везде![1]
Жахнул.
Из люка выскакиваю в столбе огня, ребята за мной, горит на нас всё! Комбез, шлемофон, сапоги, а что не защищённое, руки там, лицо, сразу, как чулок с волдырями слазит.
А тот немец видит наше копошение, фауст кидает и целится из-за баррикады в меня из винтовки своей, ну и стреляет! Я бегу прямо на него, вот из меня ненависть прёт со всех щелей, вот за день до Победы сжечь мой танк и меня, да я ж тебя голыми руками… Бегу и чувствую, что попадает в меня фашист, а мне не больно, только ногу толкнуло… в общем, на этой самой ненависти я и добежал к нему, повалил его на землю и всадил ему нож в глотку, уже и не помню, как он мне в руку попал … Да, а пока я бежал – он ещё раз в меня попал – в плечо. То я уже потом в госпитале узнал, когда в себя пришел, а так, последнее, что я помню, это его кадык и моя «финка», нож, значит, такой …
Вот, что может ненависть с человеком сделать, силы какие может придать ему нечеловеческие! А вы говорите …
Поэтому, вот что на фронте, в бою всему голова – ненависть к врагу! А всё остальное – так, для красного словца.
Это был, кстати, шестой танк, что подо мною сгорел, я рассказывал. Они горят, к сожалению, целиком, а потом ещё и взрываются, ведь там боекомплект полный-неполный, а мы танкисты горим, иногда, частично.
Когда в первом своем танке горел – попал в госпиталь без сознания. Долго без него, сознания, был и без документов – сгорели они. А без документов человек – не человек, солдат – не солдат, командир – не командир …
А домой пришла похоронка. Писарь – придурок, возьми и напиши в сопроводительном письме – «Ваш сын сгорел в танке». До невозможности глупый оказался человек, разве можно такое родителям писать-посылать? Это чуть позже уже стали писать в похоронках нормальные слова про геройскую смерть и прочее … А тут «сгорел в танке!». Вот каково это было матери читать! Отец, слава Богу, от мамы письмецо-похоронку припрятал, и в редакции показал. Поэт один узнал об этом и стихи написал на мою геройскую смерть … А я-то жив! В себя пришел, всё наладилось, уже ходить могу, а отец на мои письма из госпиталя отвечает как-то странно, сухо и непонятно. Оказывается, он не верил, что я живой – почерк у меня шибко изменился. Ещё бы ему не измениться, если через мою руку пяток осколков пролетело и не задержалось, хорошо, хоть попришили всё (почти) на место. Потом ещё раз похоронка пришла, но отец уже точно не верил, и правильно делал – жив я оставался, чего и всем вам желаю. А я в плен попал. Пенсию за меня мои родители получали. Но, наверное, не за всё время, ведь за то, что я официально в плену числился, за те полгода, что я у немцев был, не выдавали им. Это когда «смертью храбрых» приходит, то – да! Пенсия, как семье героя! А тут-то всё, наоборот, почти что предатель, самый, что ни на есть …
Хорошо, что и экипаж мой, и командир полка моего, когда меня освободили, были живы. И времени немного прошло – с полгода, и рапорт тот нашли быстро. И все ребята написали, что оставили меня у сгоревшего танка мёртвым. В общем – посчитали меня убитым, потому как не дышал! Они-то вот посчитали, а немцы нет. Очнулся в концлагере пересыльном, в госпитале – оказалось, что я в плену. Врачи все русские. Спасибо им отходили меня чуть, ну как могли, и на том спасибо! Ходить начал потихоньку – ушёл в побег. Поймали быстро – слабый был я совсем, надо было ещё силушек поднабраться, а потом бежать. Но нет, учимся на своих ошибках – научили меня фрицы уму-разуму – вот уж кровушкой умылся, так умылся, и зубы мне все передние выбили сапогами-кулаками.
Второй раз через три месяца сбежал – опять попался, поляки местные меня выдали. Все пальцы на ногах прикладом винтовочным раздробили, чтоб не бегал больше, повезло мне, наверное, что не расстреляли. Под конец войны немцы пленных стали беречь, зависело, конечно, от лагеря, наш лагерь больше для работ на заводе был, потому и не порешили. Ну, а когда отступали, то просто не успели нас порешить-перестрелять всех, бежали они больно спешно…[2]
Вот в плену, когда ярость-ненависть меня душила, думал, что когда придёт мой час, я их, германцев-то, зубами грызть-убивать буду, хоть и не осталось от зубов моих ничего – пеньки одни!
В Австрии, как-то поставили меня пленными немцами командовать – трупы коней-лошадей закапывать. Земля у них каменистая – тяжело немчуре было её копать-долбать. Я же думал – всех немцев с этими конягами вместе закопаю-прикопаю. А потом думаю себе и гляжу на них – ведь, по сути, несчастные и жалкие люди, сдутые какие-то, безжизненные, хоть и рожи – как моих две, а то и три …
И ушла ненависть, как и не было её. Стало мне на них вот наплевать с высокой горки …
Только вот речь ихнюю, немецкую, до сих пор слышать не могу, но думаю, что это не ненависть закипает, а что-то иное, да и сердце потом начинает барахтаться, как не в себе, и курить хочется, а бросил ещё в сорок шестом, как с госпиталя окончательно вышел.
А так – ненависти на них нет совсем. Немцам ведь тоже досталось. Насмотрелся я на них и в войну, через прицел, да и после на пленную немчуру. Век бы их больше не видеть и не слышать».
1945. Белоруссия
В твоей жизни твои органы и части тела (глаза, руки, ноги, мозг и так далее) безостановочно на тебя работают и выполняют все твои задумки, важные и бессмысленные, все, а ночью, когда ты спишь, они тоже отдыхают, все, кроме одного …
Твое сердце трудится и днём, и ночью, без остановки, поэтому, когда ты встретишь того, кто нужен твоему сердцу, не допусти того, чтобы обстоятельства, или те, кто рядом, помешали ему это получить! Получить то, что оно, сердце, выбрало!
Не обижай своё сердце!
Мы с тобою летим, как два лебедя – пара
На край света летим, от войны, от пожара…
Перенесемся, уважаемый мой читатель, из оккупированной Европы в июль 1945 года, в Белоруссию, которая была практически полностью разрушена войной. Минск получил столько ран, за четыре года войны, что было принято решение не восстанавливать столицу, а начать строить рядом новую. И вот отец героя этой главы был назначен главным инженером строительства. Но потом, что-то, где-то изменилось и решили все-таки восстанавливать старый город. Так он со своим отцом переехал в Белоруссию.
Давайте дадим слово ему.
* * *Кому: г. Севастополь
Иванову Дмитрию
От кого: г. Москва
Веретова Александра
Дорогой мой друг Дима!
Всё-таки хорошо, что в этой жизни у людей появляются друзья.
Наше детство было незабываемо! Всегда, когда собирается большая компания, я люблю вспоминать наши детские похождения. Помнишь, как-то после зимы, когда всё вокруг таяло и превращало все окрестные углубления в реки и озёра, мы, три отважных мореплавателя девяти, десяти и семи лет, и наша верная дворовая собака Шарик (на корабле должна быть собака!), пошли на местную достопримечательность – городской пруд. На фоне прочитанных за зиму книг об отважных капитанах, всем дико хотелось бороздить моря и океаны, ну или любой более-менее доступный водоём. Выбор пал на пруд. На лодочной станции нам категорически отказывались выдавать лодку, хотя мелочь у нас была. Мы бродили по берегу, и тут удача улыбнулась нам, недалеко от станции мы нашли деревянную катушку от больших проводов и решили сделать из нее спасательный корабль, который поплывёт спасать «Челюскинцев»! Надо было только приподнять её на бок, докатить до берега и столкнуть в воду! Тяжелая была неимоверно, если бы не проходящие мимо курсанты, мы бы не справились – они помогли поставить её на бок. Потом самостоятельно прикатили её к городскому пруду, который на это время стал почти морем, погрузили его туда, вооружились длинным шестом и отталкиваясь от дна, отправились в путешествие. Увы, катушка для нас четверых оказалась крайне неустойчивой. Шарик оказался самым сообразительным членом экипажа, поэтому метров через десять, когда болтанка под ногами стала опасной он бросил нас и поплыл к берегу. На удивление, эта операция привела в устойчивость наше средство передвижения по водной глади – устойчивость улучшилась. Мы осмелели и дали круг почёта под удивленные взгляды прогуливающихся по парку неравнодушных прохожих и под их же крики. Они, почему-то собрались все на берегу и что-то там махали нам руками. Один мужчина начал раздеваться и тоже кричал без остановки, видимо он хотел нас от чего-то спасти.
Мы поняли, что спасаться надо от всей этой компании спасателей, которая увеличивалась в геометрической прогрессии, о которой я тогда понятия не имел, крики стоящих на берегу привлекали внимание всех в этом парке. Потому, дабы не быть отведёнными за ухо к родителям, мы кто шестом, а кто руками, со всех сил гребли к противоположному берегу. Спасатели раскусили наш план и ринулись бегом вокруг пруда. Полуодетый мужчина тоже.
Мы победили. Но еще некоторое время убегали по дворам от восторженных зрителей. Собака, причём обогнала наших восторженных преследователей и пряталась вместе с нами, правда мокрая и дрожащая от холода. В общем, домой мы добрались без происшествий, даже собаку удалось высушить до прихода родителей с работы, чтобы не задавали лишних вопросов.
Все мы жили в общем дворе.

Дима, мне очень нужна твоя помощь, но, чтобы ты понял глубину моей просьбы, я тебе сейчас изложу в этом письме эту историю:
«Я, мама, моя сестра, и моя бабушка переехали в Минск.
Сначала город необходимо было расчистить от завалов, потом восстановить коммуникации, и только потом строить дома. Расположились мы рядом с большим госпиталем. Вернее, не мы, а полк, в котором служил мой отец, а ещё вернее, штаб полка. Работа кипела. Мы с сестрой, в свободное время помогали выхаживать и прогуливать тех раненых-выздоравливающих, кто уже был близок к возвращению в нормальную гражданскую жизнь. Война в этой части света закончилась. где-то на Дальнем Востоке ещё сопротивлялась империалистическая Япония, но дни её были сочтены. Госпиталь располагался рядом с железной дорогой, и мы иногда ходили смотреть, как идут поезда с возвращавшимися с войны нашими войсками. Все были радостны, все и всегда пели, как правило под гармошку. Да и сами мы любили спеть. Но то, что мы услышали, остановило время, причем не только мое, а всех, кто присутствовал в этот момент на железнодорожной станции.
Издалека мы увидели очень большое скопление народа возле одного из вагонов теплушек. Это мы уже потом узнали, что нам в госпиталь привезли партию раненых с ожогами, и в тоже время отправлялся состав с бойцами, которые направлялись на Алтай.
И вот мы с сестрой услышали, как кто-то очень красиво поет. Голос, всепоглощающий, бархатный бас плыл по вокзалу, отражался от стен госпиталя, выливался из окон второго этажа, заполнял собой всё пространство между зданием казармы, в которой мы жили и самим госпиталем. Не стало слышно грохота колёс, проезжающих мимо грузовиков, мы с сестрой замерли. Это я сейчас могу объяснить свои чувства и переживания, – а тогда я просто остолбенел.
Я никогда не слышал такого голоса. Ни до, ни после этого. В нём сочеталось несочетаемое. Боль и радость, душа и птицы, счастье и разлука, шум моря и степной ветер… И хрипотца, которой заканчивался каждый последний звук в каждом слове песни. И ещё звук аккордеона, но он был потом… сначала был голос … Мы с сестрой бросились посмотреть поближе, но не смогли сразу пробраться через толпу – всё было забито. Людей было неимоверно много. Всё, что мы смогли выяснить, что это были проводы сибиряков на Алтай, и пел гвардии капитан Боровой. Его перевели, как выздоравливающего из Гомеля, где находился госпиталь с бойцами, которые получили ожоги. Как правило это были танкисты. Я не знаю, как у моей сестры оказался букет полевых ромашек, и как она попала на импровизированную сцену, где играл и пел капитан Боровой, но ей это удалось. После концерта Василий, оказалось, что так звали певца, сам подошел к нам и поблагодарил Надежду, мою сестру, за цветы, и вызвался нас проводить.
Все девушки-медсёстры госпиталя, завидовали Надежде, это было им не скрыть. Я же не смог с первого раза посмотреть Василию в глаза. И понял о ком местные сорванцы-беспризорники, которые ошивались и кормились на станции, возле госпиталя, говорили, что к нам приехал «страшный капитан» … вместо капитан…
Лицо Василия было изуродовано ожогом на две трети. Вся правая часть, включая ухо и шею. Правая рука была без одного пальца, и тоже вся в ожоговых шрамах.
Ему было двадцать шесть лет. Родом он был из Киргизии, это на берегу красивейшего озера Иссык-Куль. Был заместителем командира развед. роты. Знал тысячу смешных историй, и мог рассмешить даже умирающего.
Так в нашей с Надей жизни появился капитан Боровой.
С Надеждой они гуляли каждый день. Каждое утро он неизменно приходил к нам с букетом полевых цветов. Всегда одет с иголочки. Всегда чем-то хорошо пахнущий, и всегда веселый. Надя отвечала ему взаимностью и не отпустить на прогулку папа Надю просто не мог. Отцу пришлось навести справки о нем, потому что он видел, что наша Надя влюблена, влюблена по уши, как говорила наша бабушка, а она знала толк в жизни.
Вечером, за ужином, я узнал от отца, что капитан Боровой прошел всю войну. Разведчик. Два раза был ранен. Последний раз в Берлине. Горел в танке. Награжден тремя боевыми орденами и представлен к Герою, но пока не пришел ответ из Москвы на этот счет. Пел и играл на гармошке с детства. Не успел закончить институт культуры и начал воевать вместе со всей страной, в июне 1941 года. Последнее ранение было тяжелым. Но он выкарабкался. Правда у него плохо (последствие ожога), работало веко на одном глазу, моргало чуть медленнее, чем здоровое, и совсем не росли волосы на голове. Мне, да и всем домашним, кроме Нади, приходилось прилагать усилие, чтобы при разговоре с Василием смотреть ему в глаза, настолько страшно было изуродовано его лицо. Отец пытался отговорить Надежду, он всегда к моей сестре обращался по-взрослому, если был какой-то важный вопрос, и называл Надей просто дома за чаем. Надя сидела за столом с каменным выражением на лице и не произнесла ни слова. Ей уже было восемнадцать лет, и отец хотел, чтобы она поступила учиться в Москву, капитан Боровой же, звал её с собой в Киргизию. До выписки из госпиталя ещё было три недели. Целых три недели.