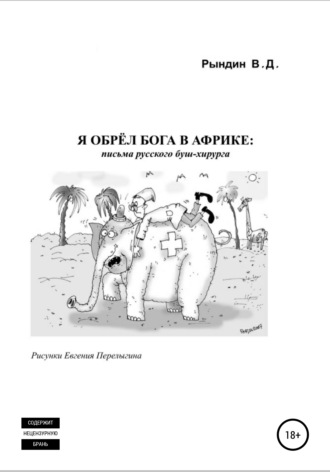 полная версия
полная версияЯ обрёл бога в Африке: письма русского буш-хирурга
Объективные причины.
а. Относительность, неконкретность медицинских знаний. Медицина не является точной наукой. Постулаты и диагностические программы, изложенные в руководствах и монографиях, касаются наиболее частых вариантов клинических проявлений, но нередко у постели больного врач сталкивается с абсолютно неожиданным течением патологического процесса и необычными реакциями организма больного. Приведём пример. У шестилетней девочки, находящейся на плановом обследовании в клинике по поводу левосторонней диафрагмальной грыжи, ночью появились загрудинные сжимающие боли (клиника стенокардии, подтверждённой характерными изменениями на электрокардиограмме). Вызванный опытный хирург, профессор поставил фантастический диагноз «острый аппендицит в диафрагмальной грыже». При левосторонней торакотомии была выявлена ложная диафрагмальная грыжа. Слепая кишка располагалась в плевральной полости. Червеобразный отросток был флегмонозно изменён, припаян к перикарду, который на прилегающем участке инфильтрирован, воспалён. По-видимому, воспаление локального участка перикарда вызвало спазм подлежащей веточки венечного сосуда, что привело к клинической картине стенокардии и изменениям на электрокардиограмме.
б. Различия врачей по опыту, знаниям, уровню подготовки и, извините, уму и способностям. Великий английский драматург Бернард Шоу хорошо подметил: «Если мы согласимся, что врачи – не кудесники, а обыкновенные люди, то мы должны признать, что на одном конце шкалы находится небольшой процент высокоодарённых личностей, на другом – столь же небольшой процент убийственно безнадёжных тупиц, а все остальные располагаются между ними». Трудно возразить против этого мнения, и никакие усовершенствования учебного процесса и подготовки врачей не могут исключить эту причину.
в. Различия в оснащённости медицинских учреждений, безусловно, сказываются на уровне диагностики. Естественно, что располагая современными методами диагностики (МРТ, КТ, УЗИ), легче выявить, например, опухоль внутренних органов, чем на основании рутинных-рентгенологических исследований. Вышесказанное относится и к неотложной диагностике.
г. Появление новых заболеваний или известных, но давно забытых. Эта причина проявляется нечасто, но влечёт за собой значительное количество диагностических ошибок. Наиболее ярким примером является ВИЧ-инфекция, приводящая к развитию СПИДа – заболевания, которое поставило врачей перед проблемой его диагностики и неразрешимой проблемой лечения. Появление таких, забытых и редко встречающихся заболеваний, как малярия, сыпной тиф, неизбежно влечёт серьёзные диагностические проблемы.
д. Наличие сочетанных заболеваний. Крайне сложно, например, распознавание острого аппендицита у пациента с болезнью Шёнляйна—Геноха или гемофилией, выявление инвагинации у ребёнка с дизентерией и т. д.
е. Юный возраст. «Чем младше ребёнок, тем сложнее диагноз».
Субъективные причины.
а. Неполноценный осмотр и обследование больного. Часто ли мы видим полное обследование обнажённого больного? А ведь это должно быть нормой, особенно когда речь идёт о ребенке. К сожалению, нормальным стало локальное «обследование», чреватое реальной опасностью диагностической ошибки. Многие хирурги не считают необходимым пользоваться при осмотре стетофонендоскопом. Известны наблюдения напрасных лапаротомий по поводу «острого аппендицита» при правосторонней базальной плевропневмонии, по поводу «острой кишечной непроходимости» при парезе, вызванном эмпиемой плевры, и т. д.
б. Пренебрежение доступным и информативным методом исследования – довольно частая причина диагностических ошибок. Наиболее ярким примером служит пренебрежение пальцевым ректальным исследованием у больных с неясными болями в животе. Просмотры тазового острого аппендицита, перекрута кисты яичника, внематочной беременности, апоплексии яичника – вот неполный список типичных ошибок, связанных с недооценкой информативности пальцевого ректального исследования.
в. Чрезмерная самоуверенность врача, отказ от совета коллеги, консилиума. Эта причина свойственна как молодым хирургам (страх уронить свой авторитет, своеобразный «синдром молодости»), так и многоопытным специалистам («синдром собственной непогрешимости»), и часто приводит к трагическим ошибкам, причём действия врача нередко граничат с преступлением, Мыслители прошлого и современности многократно предупреждали об опасности убеждённости в собственной непогрешимости.
«Чем меньше знаешь, тем меньше сомневаешься»! (Робер Тюрго)
«Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения». (Лоуэлл)
«Умный врач, то есть чувствующий малость своих познаний и опытов, никогда замечаний сиделок не презрит, но паче воспользуется ими». (М.Я. Мудров)
Но как часто приходится видеть опытного пожилого хирурга, резко обрывающего молодого коллегу: «Хватит, знаю сам, яйца курицу не учат»!
г. Использование устаревших методов диагностики и лечения – как правило, удел хирургов старшего поколения, когда разумная осторожность незаметно переходит в неприятие всего нового. Нередко это результат неинформированности врача, не читающего современной специальной литературы, отставшего от прогресса современной хирургии.
«Во врачебном искусстве нет врачей, окончивших свою науку» (М.Я. Мудров).
д. Слепая вера во всё новое, бездумные попытки внедрения новых методов в практику без учёта обстоятельств, необходимости, сложности и их потенциальной опасности. На заре отечественной кардиохирургии в широкой печати появились заметки о хирургах, успешно выполнявших митральную комиссуротомию в условиях районной больницы (!). Безусловно, риск, которому подвергались недостаточно обследованные и подготовленные больные, абсолютно неоправдан. Иногда подобные действия молодого коллеги продиктованы неопытностью, искренним желанием внедрить нечто новое; хуже когда потаённой причиной является желание увидеть в газете своё имя: «впервые в Колдыбанском районе хирургом К. и т. д.».
е. Чрезмерная вера в интуицию, поспешное, поверхностное обследование больного нередко становятся причиной тяжких диагностических просчётов. Под врачебной интуицией следует понимать сплав опыта, постоянно пополняемых знаний, наблюдательности и уникальной способности мозга выдавать молниеносное решение на подсознательном уровне. Коллегам, злоупотребляющим этим даром, нужно помнить слова академика А.А. Александрова о том, что интуиция подобна пирамиде, где основание – огромный труд, а вершина – озарение.
«У меня не так много времени, чтобы торопливо смотреть больных». (П.Ф. Боровский)
ж. Чрезмерное увлечение хирургической техникой в ущерб воспитанию и совершенствованию клинического мышления. Это явление можно считать «патогномоничным» для молодых хирургов. По-видимому, операция сама по себе настолько впечатляет воображение молодого врача, что отодвигает на второй план будничную многотрудную работу по поиску правильного диагноза, обоснованию показаний к операции, выбору оптимального её плана, подготовке к послеоперационному выхаживанию больного. Часто приходится видеть, как начинающие хирурги искренне радуются, когда выясняется, что больному предстоит операция, и огорчаются, когда становится ясно, что можно обойтись без вмешательства. А ведь должно-то быть всё наоборот! Высшей целью хирургии является не только разработка новых, более совершенных операций, но и, прежде всего, поиск нехирургических методов лечения тех заболеваний, которые сегодня излечиваются только ножом хирурга. Не случайно столь стремительно внедряются в практику методы малотравматичной эндоскопической хирургии. Любая операция – всегда агрессия; об этом хирург не должен забывать. Известный французский хирург Тьери де Мартель писал, что хирург познаётся не только по тем операциям, которые он сумел сделать, но и по тем, от которых он сумел обоснованно отказаться. Немецкий хирург Куленкампфф говорил, что «выполнение операции является в большей или меньшей степени делом техники, воздержание же от неё – результат искусной работы утончённой мысли, строгой самокритики и точнейшего наблюдения».
з. Стремление врача прикрыться авторитетом консультантов. По мере всё большей специализации медицины эта причина встречается всё чаще. Лечащий врач-хирург, не утруждая себя анализом клинических проявлений, приглашает консультантов, исправно фиксирует в истории болезни их суждения, подчас весьма противоречивые, и совершенно забывает, что ведущей фигурой в диагностическом и лечебном процессе является не врач-консультант, вне зависимости от его титула, а именно он – лечащий врач. То, что консультанты не должны отодвигать на второй план личность лечащего врача, отнюдь не противоречит разумной коллегиальности, консилиумам. Но абсолютно не допустим такой «путь» к диагнозу, когда хирург заявляет: «Пусть терапевт снимет диагноз правосторонней базальной плевропневмонии, инфекционист исключит кишечную инфекцию, уролог отвергнет заболевание почек, вот тогда я подумаю, нет ли у больного острого аппендицита».
и. Пренебрежение необычным симптомом очень часто становится причиной ошибок. Необычный симптом – признак, не характерный для данного заболевания или данного периода его течения. Например, у больного, несколько часов назад перенесшего экстренную аппендэктомию под общим обезболиванием, появилась рвота. Скорее всего, это обычная постнаркозная рвота плохо подготовленного к операции больного. Совсем другое дело, когда рвота появляется на пятые сутки у того же пациента, что может быть признаком перитонита, ранней спаечной непроходимости или иной катастрофы в брюшной полости. Каждый необычный симптом требует экстренного выявления его истинной причины и выработки дальнейшей тактики, учитывающей эту причину. Лучше в подобных ситуациях созывать экстренный консилиум.
к. Увлечение разнообразными специальными методами исследования в ущерб клиническому мышлению – причина всё чаще встречающаяся в последние годы. Само по себе внедрение современных технологий в медицинскую практику прогрессивно; оно открывает новые диагностические возможности, меняя саму идеологию диагностического и лечебного процессов. Однако у этого процесса есть и реальные нежелательные стороны, зависящие исключительно от врача. Во-первых, необоснованное назначение больному всех возможных в данной клинике исследований. Во-вторых, назначая инвазивные, потенциально опасные для жизни больного методы (зондирование полостей сердца, ангиография, лапароскопия и т. д.), врач не всегда задумывается о возможности их замены более безопасными. Наконец, стали появляться специалисты новой формации – своеобразные «компьютеризированные медики», опирающиеся в своих суждениях исключительно на данные «машинного» обследования и пренебрегающие анамнезом и физикальными методами исследования. А.Ф. Билибин, выступая на Первой Всесоюзной конференции по проблемам медицинской деонтологии (1969), сказал: «Самое печальное состоит в том, что развитие техники не совпадает с развитием эмоциональной культуры врача. Техника в наше время получает овации; мы не против этого, но мы бы хотели, чтобы овации получала также общая культура врача. Следовательно, речь идёт не о боязни техники, а о боязни того, что за увлечением техникой врач потеряет умение управлять своим клиническим мышлением». Прочтите, коллега, ещё раз эти слова и задумайтесь, насколько они актуальны именно сегодня!
Г. Условия, способствующие врачебным ошибкам.
1. Экстремальные ситуации, требующие немедленных решений. Давно подмечено, что большая часть интраоперационных просчётов совершается при критических ситуациях (внезапное профузное кровотечение, остановка сердечной деятельности и т. д.). Поэтому чем сложнее ситуация, тем спокойнее, хладнокровнее, выдержаннее должен быть хирург.
2. Усталость хирурга, поток сложных операций также создают условия для ошибки. Хирург должен об этом помнить, концентрируя своё внимание и силы в такие моменты. Время после ночного дежурства – не лучшее для операции.
3. Вынужденная необходимость выполнять работу, не свойственную основной специальности. К сожалению, отсутствие нужного специалиста (акушера-гинеколога, детского хирурга и т. д.) и ургентность ситуации нередко ставят хирурга перед необходимостью выполнения той или иной операции (ампутация матки при профузном кровотечении, кесарево сечение, трахеотомия у новорождённого и др.). Быстрая подготовка к необычной операции (план, методика) и максимальная собранность помогут с честью выйти из сложной ситуации. Однако оптимальным вариантом является вызов специалиста.
Д. Анализ врачебных ошибок.
1. Анализ врачебных ошибок – обязательное условие сокращения их количества. Анализ должен быть постоянным, он не может сводиться к квартальным или годовым отчётам либо ограничиваться клинико-анатомическими конференциями. Лучше практиковать разбор допущенной ошибки на утренней конференции следующего дня.
2. Первейшей целью анализа врачебной ошибки должен быть не поиск и наказание виновного, а поиск причины совершённой ошибки и путей её предупреждения. Но очень часто анализ ошибки подменяется поиском (а иногда «назначением») и наказанием виновного, сохраняя тем самым условия повторения той же ошибки в будущем.
3. Разбор ошибки должен проводиться деликатно, не унижая профессионального и человеческого достоинства врача, допустившего просчёт. Увы, куда чаще учиняется громовой разнос без ограничения в выражениях.
4. Главным действующим лицом при разборе ошибки должен быть сам врач, совершивший её. Когда бессонной ночью врач снова и снова возвращается мыслью к случившемуся, когда думает: «А почему я сделал так, а не иначе?», а утром надо обсуждать ошибку, но очень не хочется, то поневоле закрадывается мысль: «А может, и не надо?» Скрыть медицинскую ошибку бывает довольно просто (медицина – не точная наука), но гоните эту мысль прочь! Ещё страшнее увидеть по прошествии времени, как ваш коллега повторит сделанную вами ошибку только потому, что вы её скрыли!
5. Есть выражение: «На ошибках учатся». Бисмарку приписывают слова: «Только глупые люди учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих». Врачу не подходят оба высказывания. Врач должен учиться на своих и на чужих ошибках, более того, он обязан учить других на своих ошибках, во имя уменьшения их количества!
3. Торжество умирания Чего хотят родственники больных и хирурги «от Бога»Прошло всего около месяца, как умерла древняя бабушка с перфорацией язвы желудка, которую по просьбе родственников я передал для операции Игнату Монсону.
Вчера умерла женщина, которую я отказался повторно оперировать по поводу рецидивирующего кровотечения из варикозных вен дна желудка. Для получения «second opinion» я порекомендовал родственникам близкого им по бурской крови доктора Р., который больную и прооперировал – после проксимальной резекции желудка она так и не пришла в сознание и умерла, три недели проведя в отделении интенсивной терапии.
Теперь, похоже, настала моя очередь… Игнат Монсон и терапевт доктор Омар неделю лечили по поводу парааппендикулярного абсцесса женщину со спинномозговым рассеянным склерозом, параличом ног, пролежнями в области крестца. Монсон вскрыл абсцесс через небольшой кожный разрез и вставил туда тонкий катетер, но опорожнение гнойника было явно недостаточным. Монсон на уик-энд возил своих детишек в Крюгер-парк и просил меня приглядеть за больной. Я смотрел её в субботу и воскресенье, и написал мою рекомендацию Монсону – сделать дренирующий разрез побольше.
Раз-два в год Игнат проводит курсы ATLS – за какую-то там плату обучает врачей провинции американской системе подхода к оказанию помощи больным с травмой. Курсы занимают Игната с 8:00 утра до 7:00 вечера в течение четырёх дней – на лечение частных больных при таком раскладе времени не остаётся, поэтому Игнат обратился ко мне с просьбой вторично прооперировать его больную. Ну, я, сгоряча-то, согласился было: перевёл больную в отделение интенсивной терапии (ICU) – больная, по-моему, пребывала в септическом шоке – и попросил Марию, жену Игната, оценить возможности больной перенести операцию.
«Рындин, она умирает» – сказала Мария, посмотрев больную, но от дачи наркоза для операции, к моему удивлению, не отказалась, – «Давай попробуем подготовить её. Завтра весь день я буду занята на ATLS-курсах с Монсоном[86], мы сможем оперировать её только после 7 вечера».
День подготовки в ICU состояния больной существенно не улучшил. Я выяснил, что, хотя пациентка была госпитализирована из дома престарелых, у неё есть дочь. Связался с ней: «Мефру, мама ваша в очень плохом состоянии. Доктор Монсон попросил меня вторично оперировать её. Сегодня она настолько плоха, что об операции речи быть не может. Мы вернёмся к оценке её состояния завтра. Но в любом случае риск операции крайне велик – ваша мама может умереть во время операции и вскоре после неё. Что вы думаете по этому поводу?»
У меня была надежда, что хоть дочь откажется от операции, но женщина разочаровала меня: «Хорошо, доктор, do your best». Это чёртово «do your best» вовсе не означает «делайте так, как вы считаете лучше для больной». Это чёртово «do your best» можно повернуть, как дышло, в любую сторону – и за врача, и против него.
Перспектива иметь Марию недосягаемой в течение всего дня – они выключают мобильники во время занятий ATLS – меня не очень устраивала, я ведь тоже могу быть занят на операции в провинциальном госпитале. К кому же должны будут обращаться сёстры ICU, если больная резко поплохеет? На следуюшее утро я обратился к главе местной анестезиологической мафии буров: «Доктор Смит, вы для меня – «топ» анестезиологической мысли в провинции. Посмотрите, пжста, больную и скажите своё мнение – можно ли её оперировать»?
Мафиози, похоже, никогда ни одному больному не отказал в общем обезболивании для операции – он только иногда требовал какое-то время для подготовки больного к такому сражению. Он и в этот раз не оправдал моих надежд: «Доктор Рындин, дайте нам ночь на подготовку – у больной очень низкий калий крови, а завтра после обеда мы можем обеспечить вам наркоз». И этот не поддержал меня…
Звоню доктору Р., тому самому «second opinion», который прекрасно сопроводил на тот свет больную с цирррозом печени и кровотечением из варикозных вен дна желудка: «Доктор, у меня для вас есть очень дерьмовый случай – вы ж понимаете, что ни один хирург не направит коллеге хорошего больного. Больная, похоже, просто подошла к терминальной стадии своей болезни, но, с другой стороны, не совсем прилично позволять ей умереть с большим гнойником в правой подвздошной области. Тут, я бы сказал, политическое дело. Больная, как мне кажется, умрёт в любом случае. Но одно дело, если она умрет в руках Монсона-Ортеги или моих, скажут: «Ах, эта кубино-русская мафия невежественных врачей». Совсем другое дело, если она умрёт в ваших руках, люди будут восхвалять ваше имя: «Ну, уж если даже сам доктор Р. и Смит не помогли, значит Бог так решил».
Молодой бур любезно посмотрел больную и дал рекомендации, примерно такие, которые я написал для Монсона в уик-энд: «Расширить разрез, промыть гнойную полость и широко задренировать».
«Док, я не могу злоупотреблять вашей добротой за несчастную оплату консультации – операция и последующее наблюдение за больной в ICU принесёт вам значительно большее финансовое удовлетворение за моральный ущерб вовлечения в это мерзкое дело. Берёте больную?»
«Oh, yes, I can do it for you». Это был тот редкий случай, когда дурацкое выражение «I can do it for you» отражает истинный смысл ситуации: он берёт больную на себя и будет её оперировать ради моего спасения, но никак не ради спасения больной. Ну, как тут не быть благодарным?
У меня вообще дурной глаз: если я сказал «Больной помрёт», нет силы, которая может избавить несчастного от смерти. Больную прооперировали вчера, она на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Опытные сёстры ICU говорили мне и до операции: «Док, если мы посадим эту больную на аппарат, мы её не снимем с него», – а эти тётки знают, о чём они говорят.
Я был бы счастлив ошибиться. Но сейчас речь не обо мне, а родственниках такого рода критических больных.
В книжке по юридическим аспектам медицины ЮАР написано чёрным по белому: «Взаимоотношения врача и пациента – их частное дело. …Принимаясь за лечение больного, врач не даёт никаких гарантий на излечение – он берёт на себя обязательство делать всё, что в его силах для этого». Обращаю внимание – «в его силах». Это значит, применительно к данному случаю, в силах доктора Рындина, в Африке, в ЮАР, в провинции Лимпопо, а не в силах медицины вообще, в руках российского Хирурга-от-Бога Dr. Genius’a, который недавно осчастливил клинику Мэйо своим 20-минутным визитом.
Я заметил, что большинство любящих родственников панически боятся взять на себя решение вопроса «Будем продолжать агонию нашей любимой мамы/ бабушки или мужа/папы/дедушки либо дадим им без мучений завершить их жизненный путь»?
Другие очень быстро устают даже от непродолжительной фатальной болезни любимых людей и срываются на врачах: «Ах, делайте всё, что вы считаете нужным». В их глазах я читаю только два решения: либо бабушка или дедушка становятся, как и прежде, не требующими от них никаких особых забот, а если нет – то пусть они поскорее умирают.
Вот тут и наступает время выхода на сцену «Хирурга-от-Бога». Ловко манипулируя на бесстыдстве родичей, Хирург-от-Бога оперирует уставшего от жизни больного (вместе с предоперационной «реанимацией» это потянет долларов на пятьсот), далее без особого напряжения ведёт его в ICU (по скромнейшим расценкам страховых компаний ЮАР, каждый день 10-минутный визит приносит ему 50 долларов) – на круг двухнедельная проводка такого больного от первой консультации до смерти приносит хирургу 1,5–2 тыс долларов.
Чеченец Бекхан Хациев во время дискуссии на эту тему нашёл подходящую цитату Льва Толстого (лень искать книгу для точности цитирования): «Современная медицина нарушила торжество умирания».
Я бы добавил: «… развратила человеческий разум ложной надеждой на бессмертие».
165. Слава! Ты забрался в такую жопу
Вот вам, господа коллеги и граждане налогоплательщики, пример открытого представления противоречивой хирургической тактики одним доктором (В. Рындиным) на постоянно действующем M&M meeting’e в виртуальной курительной зале Russian Surginet’a – и снимания с него исподнего для общественной порки другим доктором (неким Мишей К.).
Всё началось с моего в вольном стиле изложения ситуации в операционной частного госпиталя, куда меня позвал мой друг Тхлелане для подзаработать полсотню баксов – помочь ему в удалении жёлчного пузыря у очень больной и такой же толстой тётки.
Я далеко не ас в хирургии этой области, но Тхлелане и ещё хуже: во всех предыдущих операциях по удалению жёлчного пузыря он отдавал мне 70 % работы по самому опасному этапу операции – выделению-превязке пузырного протока и пузырной артерии, выделению самого пузыря из его ложа.
Важность такой степени доверия трудно переоценить: африканцы не склонны доверять белым. А в ЮАР сам нынешний президент учит своих детей: «Нельзя доверять белым»! Ну, их история научила такой форме защитной философии.
В тот день Тхлелане был максимально осторожен – вхождение в живот заняло у него в два раза больше времени, нежели обычное его архинеторопливое оперирование. В области жёлчного пузыря мы встретили воспалительную массу – к пузырю подпаялись большой сальник и петли кишок… После продвижения в животе со скростью 1 см/15 мин мы наконец-то увидели стенку жёлчного пузыря – она была зловеще чёрного цвета. Это состояние называется гангреной жёлчного пузыря – в Европах и Америках такие запущенные случаи встречаются часто, а для нас это большая редкость. Тхлелане был в шоке.
– Что будем делать, доктор?
Вся область печёночно-дуоденальной связки с находящимися в ней портальной веной, общим жёлчным протоком, печёночной артерией была представлена довольно плотными воспалительными сращениями – работать в таких условиях по программе удаления жёлчного пузыря можно только опытному хирургу. Любая неуверенность, неправильное движение может привести к повреждению упомянутых структур, что чревато серьёзными проблемами для здоровья, а то и для жизни больного. Давать советы здесь трудно – любое осложнение действия, предпринятого по твоему совету, может навсегда испортить хорошие партнёрские отношения.
Если ты уверен в себе, просто предложи взять операцию на себя. Я знал, что Тхелане не справится с ситуацией, а я сам не был готов взять на себя непростой случай – к этому нужно быть психологически готовым ещё до операции.
– Тхлелане, есть гениальное решение: открыть пузырь, опорожнить его, промыть и оставить в нём катетер Фолея (мягкая латексная трубка). Никакого риска! (Этот метод хорошо известен в хирургии с древних времён под названием холецистостомия.)
Моё предложение было с благодарностью принято и чудесно исполнено. Больная прошла после операции, как огурчик и была успешно выписана.

