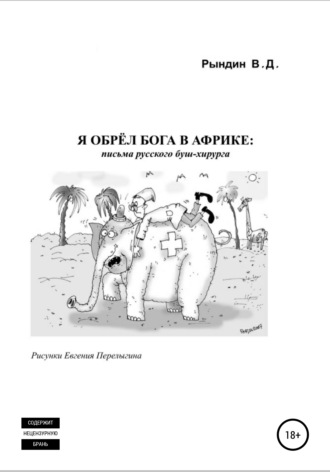 полная версия
полная версияЯ обрёл бога в Африке: письма русского буш-хирурга
Но выбора у меня не было, поскольку ЮАРовский Медицинский Совет сообщил, что экзамен такого рода (для зарубежных врачей-специалистов со стажем свыше 20 лет) они проводят в последний раз.
Мой начальник и ангел-хранитель Маховский подсказал мне хитрый ход:
– Слава, я узнал, что экзамен на медицинском факультете в Блюмфонтене будет проводить заведующий кафедрой хирургии профессор дю Тойт. Позвони дю Тойту и попроси разрешения прибыть в его отделение на 7–10 дней перед экзаменами.
Профессору я позвонил и его разрешение на приезд получил.
17 февраля я и Денис расцеловались с мамой и Ксюшкой: Денис спешил к началу второго года учёбы в Кейптауне, я направлялся в Блюмфонтен. Я завёз Дениса в аэропорт Питерсбурга и, не дожидаясь отлёта самолёта, ровно в полдень уже гнал машину по хай-вею N-1[40] из Северной провинции на юг.
Расстояние без малого в 800 км я должен был покрыть за 8 часов, поскольку с наступлением темноты ездить по дорогам ЮАР мне представляется опасным.
Дороги ЮАР – сказка, не моим пером их описывать! Через 3 часа я миновал без заезда Преторию и Йоханнесбург (около 300 км) и, несмотря на остановки на бензоколонках для заправки машины, туалета и «попить кофе», в половине восьмого вечера прибыл в столицу Свободного Штата Оранж. В советской литературе, по-моему, неправильно перевели «Оранжевая республика» – республика была названа по имени королевской династии Оранж в Нидерландах в начале XIX века, а не по имени реки, да и реку-то, воды которой вовсе не оранжевого цвета, правильнее называть не «река Оранжевая», а «река Оранж»… Нечто подобное мир знает в связи с Красной площадью в Москве, которая не «красная» по цвету кровавого коммунистического знамени, а «красная» – красивая.
Блюмфонтейн – финансовая столица ЮАР, а его университет – лучший в стране. Излишне говорить, что и по оснащённости оборудованием университетский госпиталь может вполне конкурировать с госпиталями США.
На одной из стен коридора кафедры висит два десятка фотографий заезжавших сюда иностранных хирургических знаменитостей. Среди них узнаю американского хирурга-эндокринолога профессора Глена Гельхельда из университета Дж. Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия), с которым я подружился за время его двукратного посещения миссионерского госпиталя в Манзини (Свазиленд) и с которым мы находимся в постоянной переписке (я надоедливо пишу Глену из моего миссионерского захолустья, а он мне вежливо отвечает – беспредельно терпеливый человек!).
Профессор дю Тойт (я бы прочитал его фамилию на французский манер «дю Туа») – молодой симпатичный африканер – тепло встретил меня и попросил всех своих сотрудников в моём присутствии говорить не на африкаанс, а по-английски. Этот, в общем-то нормальный, жест вежливости по достоинству можно оценить только с учётом знания нынешней ситуации – правительство чёрного большинства ЮАР взяло курс на сокращение сферы употребления африкаанс в стране.
Я многое успел увидеть за полторы недели и понял, что «похоронить» меня на экзамене может, среди прочего, полное отсутствие теоретических познаний и практических навыков по сосудистой хирургии, которой очень интенсивно занимались на кафедре.
Накануне экзамена профессор дю Тойт спросил меня:
– Слава, хотите переехать к нам? Нам нужны опытные хирурги в периферийных госпиталях. Это хорошие деньги!
– Проф, я согласен, но только подождите, я ведь могу и не сдать этот экзамен. Долгие годы работы в примитивных условиях Африки входят в кровь и извращают мышление. Я с завистью смотрю на ваших молодых докторов.
Тем не менее, сердце моё аж затрепетало от приглашения дю Тойта. Я не выдержал и позвонил жене:
– Тат, просто хочу выплеснуть распирающее чувство… хотя прекрасно понимаю, что могу провалиться с треском.
В среду 25 февраля я пошёл в католический храм. Это было начало предпасхального поста. Татьяна моя говорила, что в Православии предпасхальный пост начинается с Прощённого воскресенья.
Католический пастор говорил:
– Когда болельщики «Бафана-бафана» (национальная сборная ЮАР, вышедшая в финал пан-африканского футбольного чемпионата в 1998 году) окрашивают свои лица в цвета национального флага ЮАР, они демонстрируют своё единство с «Бафана-бафана». Когда мы, католики, сегодня мажем свои лбы пеплом, мы демонстрируем своё единство с Христом.
В одном случае – «прощение», в другом – «посыпание головы пеплом», тоже ведь связано с покаянием, с прощением… И ещё – «из праха земли мы пришли в этот мир, в прах и уйдём… всё – суета сует».
Так, может, и мои стремления к сдаче экзамена так же суетны??? Во всяком случае, это успокаивало на случай провала…
Я постоял в очереди прихожан – и мне помазали лоб пеплом. Потом ещё постоял в очереди – и меня причастили.
– Господи, прости тщеславие, разбирающее меня. Я даже не прошу успеха в завтрашнем испытании. Испытание-то – оно вот уже, сегодня. Всё в твоей власти – предаю тебя в руки твои…
По числу посещений мною церковных служб в протестантских и католических храмах я давным-давно был бы отлучён от Православия, но человек я всё-таки православный. Говорят, что щенок на всю свою жизнь признаёт хозяином только того человека, которого он увидел в момент прорезывания глаз, все другие люди для него так – «человеки». Ну и опять же пословица «сколько волка ни корми». Вот и у меня, как у того щенка… или волка.
Атмосфера на экзаменах была очень тёплая и дружелюбная.
Перед началом экзамена выступил профессор дю Тойт:
– …в случае успешной сдачи экзаменов вы получаете преимущества, которые имею, например, я…
Нас, хирургов-иностранцев, собралось 13 человек: шесть поляков, румын, чех, болгарин, шри-ланкиец, пакистанец, португалец и я, русский. С первого контакта мне приглянулось двое: холёный португалец Армандо Рибейро, уроженец Мозамбика, заведующий хирургическим отделением в Барагвана госпитале (Соуэто) и его подчинённый, польский хирург Алекс Бражковский.
Большинство собравшихся уже получили гражданство ЮАР или «право на постоянное проживание». Кое-кто имеет полную регистрацию Медицинского Совета ЮАР как GP (General Practitioner) с правом частной практики – они хотят полную регистрацию на правах общего хирурга. Самый маленький стаж работы в ЮАР (6 лет) у Алекса Бражковского. Но какие эти 6 лет – в самом крупном госпитале южного полушария! Ничего не скажешь – это тебе не миссионерский госпиталь в Свазиленде.
Вопросы, как письменные, так и устные, были чёткими и, при поверхностном рассмотрении, довольно простыми.
26 февраля я нас был трёхчасовой письменный экзамен – мне показалось, что я вполне прилично справился с ответами на вопросы.
27 февраля утром каждого из нас подвергли получасовому устному теоретическому «обстрелу».
Мне повезло: я попал к профессору дю Тойту и к другому, не менее симпатичному, моего возраста ассошиэйт-профессору (доценту) Ван дер Бергу.
– Слава, нам неудобно – мы вас хорошо знаем. Мы вам даём минус 10 очков форы!
Я вышел от этих милых людей с ощущением, что более половины экзамена пройдено мною успешно. Я обалдевал от распирающего меня счастья и только твердил:
– Господи, ну прости моё тщеславие…преждевременную радость… Господи, пронеси!
Не пронесло!
Заключительный этап экзамена – разбор больных.
Я был последним – тринадцатым!!! – в списке экзаменуемых.
Мой черёд по расписанию был обозначен на два с четвертью пополудни.
Попытки дружеской беседы в ожидании вызова на экзаменНе раз я уже замечал в Африке готовность представителей восточноевропейских стран если не к объединению, то к общению. Что стоит за этим? Русский язык? Вряд ли – все предпочитали говорить по-английски. Общие проблемы эмигрантов, не принятых коренными жителями страны? По-моему, это общность судьбы в прошлом: «мы все из одного лагеря». Так наш, российский, блатной люд распознаёт друг друга в толпе.
– Ёп иху мать! – старательно выговорил болгарин Колев, обращаясь ко мне.
Моя теория «лагерной общности» получила ещё одно подтверждение.
А общения-то в общем не получилось. Болгарин всё как-то наскакивал на русских: – Мы вам не только алфавит дали, но и религию…
– Спасибо! Но с религией вы, по-моему, ошибаетесь – христианство-то мы в Византии позаимствовали. Да и Кирилл и Мефодий, сказывают, византийцами были.
Вмешивается поляк Лазовский:
– Русские вас дважды освободили.
Я пытаюсь перевести разговор на шуточный лад:
– Именно поэтому, говорят, болгары не любят американцев – они их ни разу не освободили!
Лазовский напирает:
– Много русских погибло при освобождении и Польши, и Болгарии… неизвестно, что было бы с Европой…
Болгарин что-то там говорит за американцев:
– …много солдат погибло по причине некомпетентности…, а без самолётов войны не выиграешь…
Лазовский:
– …и одними самолётами тоже!
– Жентильмены, давайте лучше про женщин поговорим! – призываю я.
Взаимопонимания не получилось.
Тем не менее, доктор Колев в последующем не раз обращался ко мне по-русски, вполне дружелюбно и с юмором.
А доктор Лазовский вручил мне свою визитную карточку со словами:
– Я много работал с русскими. Глупо нам обвинять друг друга. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, если понадоблюсь.
Поляки помоложе и португалец что-то очень ожесточённо напирали:
– …всё решают деньги!…
Католики, блин…
Я лишний раз поблагодарил Господа за то, что он послал мне ангела-хранителя в облике чрезвычайно интеллигентного, доброго и духовно богатого Андрея Маховского.
Кто же против денег-то? Деньги, они всем нужны, да ещё «ой! ка-а-а-ак»…
Только без Любви, без Души, без Бога в конечном счёте, особенно в нашей профессии, как же жить-то?
Любопытное сравнение, предложенное доктором Армандо Рибейро:
– Риск помереть от малярии в Мапуту не выше риска от пули в Йоханнесбурге.
Когда настал мой черёд идти на заключительный этап экзамена, я морально уже был на пределе. Одна моя больная заявила, что она устала… Общались с больными через переводчика… 20 минут на обследование. Мне сказали, что после осмотра наших больных нам дадут возможность попросить результаты инструментальных обследований (рентген, эндоскопия и т. д.) и анализов. Ничего этого не оказалось – от койки больного мы шли прямо на расправу к экзаменаторам.
Короче, достались мне больные с сосудистой патологией… Предчувствие – великая вещь!
Мне было жалко смотреть на профессора Барр: ему было стыдно за седые волосы на голове русского врача, который претендовал на то, чтобы называться его коллегой.
А в глазах молодого доктора-африканера Лобстера я читал не только презрение, а прямо-таки ненависть ко мне за моё глупое бормотание при ответе на вопросы.
Настроение было испорчено – не столько ощущением провала, сколько чувством стыда. Даже пить не захотелось, а до того была такая задумка – пропустить стаканчик хорошего виски.
Ночь кое-как с боку на бок перекантовался, а в 6 утра, даже не просмотрев утреннего выпуска новостей CNN, я двинулся в Питерсбург, к жене и дочери.
Лирическое отступление: дороги Южной АфрикиОпять ЮАРовские дороги… Езда по ним доставляет мне огромное удовольствие, а потому и успокоение. Понять меня может только водитель из экс-СССР.
О техническом состоянии этих дорог я могу сказать следующее: в Москве мой «Жигуль 1600» к 100 000 км пробега практически закончил своё существование как надёжного автомобиля, а в Свазиленде-ЮАР мой Nissan 1400 и после 140 000 км бегал, как новенький – тьфу-тьфу-тьфу… через левое плечо.
Рекордное время, за которое я «пробегал» расстояние 200 км от моего дома на Юго-Зпадной в Москве до моей «фазенды» на берегу Оки под Калугой составляло 3 часа.
В ЮАР расстояние 268 км от моего госпиталя в Питерсбурге до указателя на трассе N-1 «ПРЕТОРИЯ» я покрываю за 2 часа – это с учётом осторожности, чтобы не попасть под радар транспортной полиции.
В первые месяцы пребывания в ЮАР мой Денис был поражён вежливостью водителей на дорогах:
– чуть поближе подобрался в правом ряду (движение-то левостороннее!) к впереди идущей машине, и тебе немедленно уступают дорогу;
– при движении по дороге с одной полосой в одну сторону даже тяжёлые грузовики-«дальнобойщики» съезжают влево за жёлтую полосу (предел проезжей части) – уступают дорогу;
– благодаришь за это миганием аварийных огней – «Thank you!», а тебе в спину стреляют всплеском фар дальнего света – «Pleasure»;
– когда вежливость проявляешь ты, то и тебе достаётся «Thank you!» от «мерседесов», «Бэ-эМ-Вэ» и других, у которых мотор помощнее.
Как мы вели себя на дорогах России? Как мы выражали своим чувства, сидя за рулём?… Денис и в Москве часто стыдил меня за «кучерскую» манеру поведения, и в ЮАР напоминал:
– Пап, просигналь «спасибо»: тебе дорогу уступили… Папа, он тебе «спасибо» говорит, мигни ему фарами «йебо!».
Очевидно, что не только я открыл Бога в Африке…
* * *Дома я поплакался на груди у жены, у Маховских…
Душка Маховский уверяет:
– Слава, ты сдал.
Его бы устами… Да только мне-то виднее.
В понедельник я отправил факс профессору дю Тойту – поблагодарил его за гостеприимство, отметил теплоту и дружелюбность атмосферы, в которой проходили экзамены… Извинился за проявленную некомпетентность.
Это была и искренняя благодарность, и маленькая надежда – а вдруг пожалеют…
Результаты экзамена будут известны где-то через месяц.
Прошу простить меня за долгое и нудное повествование, но ведь это – последний экзамен в моей жизни. Ну и, вроде бы, хотелось как бы попрощаться со всем этим делом…
Теперь я буду писать письма, мемуары, статьи для публикации в журналах, словари, учебники и т. д.
А читать в ближайшие 1 месяцев буду только анестезиологию и начну учиться давать наркоз, ибо не исключено, что мне придётся ради увеличения зарплаты на 1000–2000 рандов перейти в какой-нибудь отдалённый госпиталь.
В первый же понедельник я встал в 5 утра и сел учить анестезиологию, чем снискал восхищение своей Татьяны. Ну, хоть жена оценит!
Денис провёл с нами свои трехмесячные каникулы. Он очень переживал, что, возможно, не сдал какой-то там страшно трудный и нудный предмет, преподаваемый совсем непростым американским профессором.
Наступил момент, когда можно было позвонить на кафедру и справиться о результате экзамена. Денис звонит – ему сообщают, что он сдал экзамен. Денис переспрашивает, потом на следующий день опять:
– Папа, у них бывают ошибки!
В конце-концов Денис заликовал:
– Ййй-е-есть! Он в состоянии сделать это – университет Кейптауна…
Можно понять чувства русского парня, закончившего советскую школу в самом разгаре горбачёвской перестройки с уровнем знаний, приближающимся к нулю, и владением английского в объёме «fuck you!».
…Ну вот, собственно, и всё, ребята…
Могу добавить, что наше желание привезти сюда на годик внучку, скорее всего, можно осуществить, так как экзамен-то я всё-таки сдал!!!
Это моя Татьяна не выдержала и позвонила в Медицинский Совет…
Я не поверил: ошибка!
Позвонил сам:
– Это не ошибка?
Потом Андрей Маховский звонит мне:
– Слава, поздравляю!
– А ты откуда знаешь?
– Секрет.
121. Хирурги и другие убийцы в белых халатах
Вызывают в приёмное отделение: сегодня моя бригада на «ин-тейке» – приёме всех больных с острой хирургической патологией… В реанимационной комнате над больным с политравмой уже колдует мой кубинский друг Игнат Монсон – он побывал на паре-тройке одно- и двухдневных рабочих совещаний по травме и поэтому считается у нас «специалистом-травматологом».
В целом Монсон – очень грамотный хирург и действительно, пожалуй, лучше всех нас подкован по травме, но быть «подкованным по травме» и быть специалистом-травматологом – две значительные разницы. Монсон это, похоже, не совсем понимает. Когда он делится с нами своими знаниями или умением повозюкать по телу больного прибором аппарата УЗИ – это очень хорошо выглядит, и помощь принимается с благодарностью. Но когда он начинает с безапелляционным видом что-то вещать – это раздражает. Сейчас он поводил прибором по животу больного с травмой черепа, множественными переломами рёбер, костей таза, всех костей обеих нижних конечностей и заключил:
– Слава, в животе ничего нет…
Это должно понимать как то, что Игнат Монсон не нашёл (!) признаков кровотечения в брюшную полость. Я откровенно сомневаюсь. Не потому, что я такой умный, просто при таком множественном поражении костей в животе всегда что-то есть. Прошу молодого доктора выписать направление на КТ головного мозга, а сам иду бить челом рентгенологу:
– Слушай, после КТ головы сделай ему КТ живота. Ведь если кровоизлияния в мозг нет, ты же и внутривенно контраст можешь ввести для лучшей информативности КТ внутрибрюшных органов, да?
У больного низкое давление – кровь течёт отовсюду… очень много её в околокостных тканях бёдер, таза… Монсон стягивает таз простынёй… Чёрные ортопеды смотрят на действие с сожалением – им просто не понять этой жалкой попытки остановить кровотечение из тазовых вен.
– У нас нет инструментов для наружного стягивания костей таза – надо отправлять больного в Преторию… – просвещают они меня.
– Ага… – радостно отмечаю своё понимание я и тут же задаю дебильный вопрос. – А чей этот больной-то сейчас?
– Общих хирургов, – охотно повторяют урок просвещения друзья-ортопеды.
– Ну, да… – заключаю с безнадёжным вздохом я.
…Через час реанимации больного иду смотреть снимки КТ его живота: в животе полно жидкости – крови, понятно…
– Ребята, попросите доктора Опарина прекратить операции: нам нужно этого больного срочно оперировать – он не доедет до Претории.
Через час получили операционную. Крови дали всего 4 пакета по 300 мл – этого мало.
Гемоглобин больного 1,2 – я видел такое только раз в жизни в Луанде у чёрной русскоговорящей медсестры (обескровливающее кровотечение было связано с внематочной беременностью). Я тогда спас эту женщину аутотрансфузией – переливанием ей её собственной крови.
Буравлю дырку в животе троакаром для надлобковой катетеризации мочевого пузыря… Сестра в панике:
– А вы не проткнёте кишку?
– Могу проткнуть… У вас есть какие-то мысли?
– Нет… Я просто боюсь…
– Если боишься и мыслей нет – иди домой…
Фокус с катетером не получился – его забивают кровяные тромбы (а, может, там, в животе, полно дерьма?).
Открываю живот и черпаю в таз кровь:
– Цедите и лейте в вену.
– А можно? – с недоверием спрашивает анестезиолог.
– У вас есть другое предложение??? Нет? Тогда молчите и лейте.
Более 3000 мл (3 литра!!!) крови в животе.
Повреждения кишки нет, печень и селезёнка не разбиты. Кровотечение из тазовых вен, к которым сейчас не добраться – больной помрёт много раньше. Тампонирую малый таз четырьмя огромными салфетками и туго зашиваю живот. Последние кожные скобки – на этом этапе больной умирает…
– Может сердце помассировать… – растерянно предлагает один из анестезиологов.
Реанимировать больного анестезиологи собрались интернациональной группой числом четыре – чёрный молодой парень Могашуа, набожный мусульманин пакистанец Шейх, плохо играющий в нарды любитель кофе с коньяком иранец Саид Резаи (иранская революция его миновала), поляк с русскими именем и фамилией Володя Жаров – донимающий меня стихами про «одинокий парус, белеющий в голубом тумане моря».
Такое содружество понятно, так как смерть больного на операционном столе считается здесь анестезиологической смертью.
– Коллеги, эта смерть не ваша – у парня кровяное русло пустое, там нет субстрата для работы сердца.
Поляк Жаров разводит руками и заключает по-русски:
– «Кто виноват?» и «Что делать?» – жиды и поляки угробили больного…
Следующим утром докладываю на утренней конференции:
– Больной поступил с большой кровопотерей… мы проволынились с обследованием почти 3 часа. Остановить кровотечение традиционным тугим простынным стягиванием раскрытого книгой переломанного таза не удалось. Крови было всего 4 пакета – 1200 мл. Парень весь «вытек».
– Его не надо было оперировать… – замечает Монсон.
Засылаю случай в Russian Surginet для обсуждения. Александр Челноков, очень опытный травматолог из России, пишет:
– Остановить кровотечение могло только наложение специальных клипс для стягивания таза и переливание крови – у вас этих клипс не было, а крови было мало. Эти больные умирают и в специализированных центрах.
Потом добавляет монсоновское:
– Не надо было оперировать…
Спрашиваю его:
– А как знать, что в животе при 3 литрах крови нет разрыва печени, селезёнки, кишки?
– Это уже забота абдоминального хирурга, – ехидно со знаком смайлика отвечает Александр.
– Ты прав, Саша… Но теперь я могу спокойно спать, зная, что больной умер не от пропущенного мной разрыва органа в животе.
На что Александр мне тут же вставляет анекдот:
– Отчего умер ваш приятель?
– От гриппа.
– Ну, это не страшно…
– Да, Саша, в этом цинизм нашей каждодневной жизни, а реальный образ российского доктора отличен от сладенького пуританского лика русского врача в произведениях русских классиков.
Из приведённого захватывающего сюжета очевидно, что рассказать о жизни хирурга вне контекста его ежеминутных проблем, профессиональных и других контактов просто невозможно. Тем более невозможно правильно понять и судить его поступки, результаты его работы.
Представители самой древней профессии любят словесной хлесткости ради в чём-то оплошавших хирургов окрестить (ещё до суда!!!) не иначе как «УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ».
Разбиванием морд или простыми объяснениями тут дела не решишь: на своей расквашенной физиономии иной писака такие себе бабки заработает – диву даёшься! – а по части словоблудия нам просто с ними никогда не сравниться… Мне представляется, что решение проблемы – только в просвещении тёмного российского народа и журналистов – не все же они негодяи при ближайшем рассмотрении, кто-то, возможно, и совесть имеет…
О чём просвещать-то? Ну, вот, например, нужно рассказать почтеннейшей российской публике про хирургию (современную и российскую), про цены на здоровье (реальные и на российском рынке), про мерки и меры, которыми великий российский народ оценивает труд и «преступления» своих врачей и отвешивает наказания проштрафимся докторам, судорожно пытающимся спасти сограждан – закурившихся-спившихся-занюхавшихся-«заторчавшихся» (что они там ещё над собой делают?), засравших донельзя земли, леса и воды своей прекрасной страны, разворовавших её достояние и прошляпивших щедро отпущенные им Богом природные ресурсы…
Нужно рассказать этой публике, что слова «здоровья не купишь» – истинная правда, что россияне могут поправить своё самоуничтожаемое здоровье только на ту сумму, которую они для этого выделяют. Заниматься расчётами этой суммы будет неэффективно – боюсь, что стоимость одного часа, потраченного мной на расчёты, превысит сумму средств, отпускаемых сегодня в России на лечение одного россиянина в месяц.
Интересно, что российские люди не только вполне толерантны к авторским рассказам врачей, где российские хирурги засасывают стаканами водку, блюют в унитазы, мучаются пьяными панкреатитами, а потом совершают какие-то мифические спасительные операции. Более того, россияне даже с какой-то патологической любовью относятся к таким хирургам – будто несчастные родители к своему неполноценному от рождения ребёнку.
И в тоже время россияне не могут перенести описание здорового сестринско-хирургического минета. А ведь ёжику должно быть понятно, что позеленевший от вчерашней пьянки хирург, страдающий «головной болью и мучительными подкатываниями двенадцатитиперстной кишки к глотке», просто опасен для больного, имевшего несчастье попасть в этот день на операционный стол. Никому не приходит в голову подумать, что хирург и операционная сестричка, успевшие тем или иным способом осчастливить друг друга перед операцией в каком-нибудь больничном закутке, вступают в высшую степень взаимопонимания, столь необходимую при хирургическом кудесничестве: хирург, всё внимание которого сосредоточено на прыгающем в его левой руке органе, просто молча протягивает сестре правую руку за… вы скажете – «инструментом», нет – «за помощью!» и сестра также молча – не «подаёт», а «вкладывает в руку» нужный хирургу в данный момент инструмент…
Ханжество публики? Несомненное… И более того – одна из порнографических сторон нашей жизни.
Где-то я слыхал, что певцов с голосами чистыми (для целей настоящего медицинского текста назову их «рафинированными») высоко ценят театральные профессионалы, но публика отдаёт предпочтением голосам с хорошей окраской обертонами… Возможно, что высказанная фраза – чистая неграмотная ересь, но мне сама идея такого подхода к оценке певцов понравилась. И не только певцов… Описание рафинированных событий из жизни любой профессии – хирургии, скажем – никогда не будет интересным даже для коллеги.

