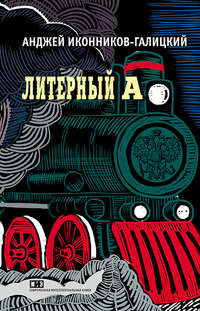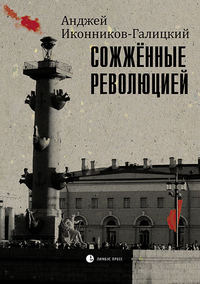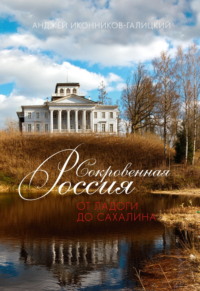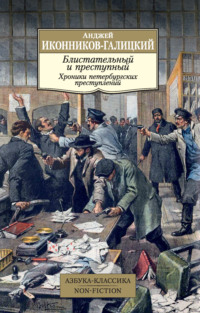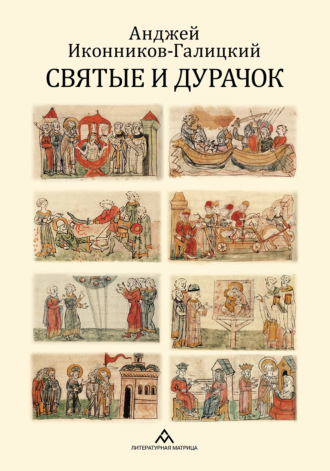
Полная версия
Святые и дурачок
Нина, равная апостолам.
Её гробница – каменная плита в полу южного придела храма. Я прикоснулся лбом к камню – он оказался тёплым. Сквозь этот камень святая Нина вышла ко мне, обняла мою голову, что-то сказала, неслышимое ушами… Это было так же реально, как свет апостолам на горе и как те яблоки на полу.
Нина, или, как произносят грузины, Нино́, или Нунэ, как написано у историка древней Армении Моисея Хоренского, жила так давно, что все сведения о ней успели отлиться в легенду и окаменеть. Но сквозь легенду, как сквозь полупрозрачный кварц, проступают исторически достоверные контуры.
Житийное предание начало формироваться уже при её жизни; первые же записи были, видимо, сделаны вскоре после смерти на основании впечатлений и воспоминаний очевидцев, а возможно и с её собственных слов. Хотя дошедшие до нас версии жития святой Нино относятся к X–XI векам, но сведения, в основном подтверждающие их, имеются в источниках первой половины V века: в «Церковной истории» Сократа Схоластика, у Созомена (повторяющего, впрочем, Сократа), а также у Моисея Хоренского, чей труд «История Армении» традиционно датируют концом того же столетия. Самый ранний из этих писателей, Сократ, собирал сведения о крещении Иберии (то есть Картли-Кахетии) лет через восемьдесят-девяносто после описываемых событий, когда ещё живы были дети тех, кого крестила Нина. Правда, в своём кратком рассказе он не называет её по имени:
«Среди сих варваров жена-пленница… совершала великие подвиги воздержания, проводила время в хранении глубокого поста и в непрестанных молитвах… Случилось, что сын царя, малолетний ребёнок, впал в болезнь… Жена царя посылала своё дитя лечиться у других женщин… но к кому ни водила его кормилица, ни от одной женщины не получил он исцеления. Наконец, привели его к пленнице. Она… взяв ребёнка, положила его на постель, сплетённую из волос, и только сказала: “Христос, исцеливший, говорят, многих, исцелит и этого младенца”. Когда, после сих слов, начала она молиться и призывать Бога, дитя вдруг выздоровело»[11].
Сопоставление рассказа Сократа с ранними редакциями «Жития» и другими источниками не оставляет сомнений в том, что жена-целительница – Нина.
Сократ называет её пленницей. «Житие» раскрывает эту тему более подробно. Согласно наиболее ранней житийной версии, вошедшей в состав свода «Обращение Картли», Нина происходила из Каппадокии, из города Коластра, и была единственной дочерью знатных родителей Завулона и Сосанны. В качестве отправной точки в житийной хронологии значится казнь Георгия Каппадокийского, римского военачальника, известного ныне всему миру как Георгий Победоносец. Поэтому Нину принято считать родственницей Георгия, хотя прямых указаний на это в источниках нет. Георгий был одним из первых высокопоставленных христиан, ставших жертвами Великого гонения: он был казнён по личному распоряжению императора Диоклетиана летом 303 года, через полгода после издания эдикта, положившего начало репрессиям. Из контекста ранней версии «Жития» следует, что Нина родилась около того времени, когда Георгий претерпел мученичество; однако другие хронологические данные этому противоречат. Все источники сходятся на том, что обращение «иберийцев» (картлийцев и кахетинцев) совершилось при единодержавии императора Константина Великого (323–337); начало апостольского служения Нины приурочивается ко времени вскоре после Никейского собора (325 год). Трудновато представить, чтобы картлийские мужи прислушались к проповеди двадцатилетней девицы. Поэтому дату рождения Нины обычно указывают предположительно: около 280 года, а к 303 году иногда относят её исход вместе с группой христианок из пределов Римской империи, где бушевало гонение, в Армению. Также условно выглядит и традиционная дата смерти: около 335 года.
Однако появление имени великомученика Георгия в Житии Нины неслучайно. Древнейшее описание её апостольского пути начинается с чуда исцеления больного дитяти; житийное повествование – с упоминания о мученичестве. То и другое имеет не хронологическое, а сущностное значение.
Начало пути – встреча со страданием.
Вот отчего случается необъяснимый переворот души.
Столкновение нос к носу с бедой неминучей, мучением необъяснимым, смертью неотвратимой. В близком ли и родном человеке, в случайном ли встречном, в себе ли самом. Все мы ударяемся лбом об это. Ахаем, закрываем глаза, отшатываемся, стараемся забыть. Успокаиваемся.
А если никак не успокоиться?
Тогда надо искать спасение. А кто может спасти от страданий и смерти? Только Тот, кто всё может. Бог.
Жажда спасения приводит к Спасителю. И узнав Его, преображённый человек спешит к людям, чтобы поскорее сообщить всем-всем-всем потрясающую новость: спасение есть!
Это и называется «Проповедать Евангелие». То есть дарить всем благую и радостную весть.
Молодость Нины пришлась на те времена, когда Римскую империю трясла и корёжила судорога Великого гонения.
Что это было такое?
Это вот что: одна часть человечества определила своей задачей уничтожить другую, меньшую часть. И приступила к осуществлению, используя всю мощь тоталитарного государства.
«Да исчезнет имя христианское!»
Кто не поклонится идолу государственной идеологии, лишается права на жизнь.
О подробностях распространяться не буду: за примерами бессмысленных злодейств и бескомпромиссного подвига отошлю любознательного читателя к трудам Евсевия Кесарийского, Лактанция и других свидетелей. Укажу только, что государственные репрессии против христиан продолжались около десяти лет; что жертвами их стали тысячи, а возможно десятки тысяч, человек. А если считать всех пострадавших – изувеченных, брошенных в тюрьмы, сосланных в рудники, лишённых имущества, просто избитых и униженных, – то счёт пойдёт на сотни тысяч. Замечу также, что к этому времени христиане составляли по разным оценкам от пяти до пятнадцати процентов населения империи. То есть в процентном отношении их было примерно столько же, сколько сознательно православных в России в 1917 году. Уничтожение и унижение такого количества людей не может совершиться легко и просто, как того ожидали организаторы гонений – драконы государственной бюрократии Диоклетиан, Галерий и прочие. Жуткие публичные казни, массовое принуждение к отступничеству, доносительство как способ разбогатеть… Фундамент общественной нравственности пошёл трещинами, и всё государственное здание зашаталось. Было, конечно, и прямое сопротивление государственному террору: волна восстаний прокатилась по провинциям. Подавлялись они, разумеется, с нарастающей свирепостью. И вот – судорога Римского мира, переросшая в гражданскую войну.
(Примечание в скобках. В науке не раз высказывалось мнение, что масштабы Великого гонения преувеличены древнехристианскими авторами. Кто знает – дело давнее. Но если на площади посреди города сожжён живьём близкий вам человек или хотя бы просто знакомый, и только за то, что не отступился от своих убеждений, – то для вас масштабы беды вряд ли окажутся преувеличенными.)
Георгий Каппадокийский был умерщвлён после восьми дней жесточайших пыток и мучений. От него требовалось только одно: отречение от Христа. Но он не отрёкся.
Возможно, он и в самом деле приходился родственником Нине. А если и нет, то они могли быть знакомы, или у них имелись общие знакомые: круг каппадокийской военной знати, к которому относились и Георгий, и семейство Завулона, был узок. Для Нины, девочки или девушки, это – начало пути. Страдания и подвиг близкого человека.
Теперь зададим вопрос: «Что, вообще говоря, для человека труднее всего?» Перебрав варианты ответов, приходим к следующему: труднее всего для человека сделать не то, чего от него ожидают. Если вы – пьющая личность и пришли в компанию собутыльников, труднее всего для вас будет не пить. Если вы крепко поссорились с другом и внезапно встретили его на улице, труднее всего вам будет обнять его и сказать: «Прости меня!» Поэтому и двоечнику трудно получить хорошую оценку: не оттого, что он глупее других (во многих случаях как раз умнее), а оттого, что все ждут от него двойки, и он сам уже не ждёт от себя ничего, кроме двойки.
Человек, сделавший не то, чего ждёт от него социум, на первый раз вызывает удивление; в случае рецидива – осуждение; если не уймётся – отторжение. Он становится для окружающих странным, чужим, опасным. При этом не важно, доброе он делает или злое. Серийный убийца, пришедший волонтёром в хоспис, вызовет больше страха и ненависти, чем если бы прикончил очередную жертву: во втором случае с ним всё понятно; в первом – непонятно, и оттого страшно.
Это на нынешнем языке и называется «социальные роли».
Теперь представим себе человека, который всегда и во всём поступает не так, как ожидается: совершает то, чего не может, овладевает тем, на что не имеет права. Социум либо убьёт его, либо взорвётся от напряжения. Возможно, то и другое сразу.
Апостол – как раз такой человек. Для него существует только воля Пославшего его и не существует воля общества, зафиксированная в социальных ролях. Павел сказал:
– Если я несу благую весть, то не себе в похвалу, а потому что таково неизбежное моё бремя, и горе мне, если не благовествую!
(Примечание. Тут мы позволили себе первую часть фразы самостоятельно перевести с греческого, сделав акцент на принудительности апостольского служения. В синодальном переводе: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя…»; 1-е Кф. 9:16.)
Апостол совершает не то, чего от него ждут люди, а нечто, порой максимально от этих ожиданий удалённое.
Рыбак из захолустной деревни открывает столичным профессорам истины Божьего мироустройства.
Варяжский конунг, с детства приученный убивать, чтобы не быть убитым, провозглашает государственным лозунгом: «Блаженны кроткие… Блаженны миротворцы… Блаженны плачущие…»
Женщина, знающая только функции домохозяйки, ведёт за собой народ воинов и пахарей.
Кроме всего прочего, отсюда следует, что апостол действует в чуждой ему и изначально враждебной среде. Чего ожидает социум от всякого чужака? Что он примет правила и ценности социума. Апостол переделывает социум на основании правил и ценностей, принятых от Пославшего его.
Снаряд, пробивающий стену.
Проповедь апостола поэтому не в словах (менее всего в словах) и даже не в отдельных поступках, а в самом его бытии. Проповедь апостола – как свет от огня: пока горит огонь, от него исходит свет.
Засим вернёмся к жизнеописанию Нины.
Тогда цвёл миндаль
Не будем более задаваться вопросами хронологии; ограничимся констатацией того, что она жила и действовала во времена Диоклетиана и Константина. Бурные и переломные времена.
Нина была в семье единственным и, следовательно, балованным ребёнком. Мы можем представить, как души в ней не чаял отец, как возилась с ней мать: вплетала ленточки в косички. Разумеется, воспитание ей дали образцовое и школу подыскали лучшую (по своему высокопоставленному положению могли себе позволить). Тут надо заметить: Каппадокия в то время – конечно, провинция, но провинция культурная. Отсюда принёс в Армению слово о Христе Григорий Просветитель, приблизительно ровесник Завулона. Гораздо позже, но ещё при жизни Нины, здесь, не так уж далеко от Коластры, в старинном городе Кесарии родится мальчик Василий, а в селении Арианзе близ другого городка, Назианза, – мальчик Григорий. Они вырастут, станут друзьями, соратниками и людьми такого масштаба, что получат прозвания Василий Великий, Григорий Богослов. Их трудами будут заложены основы христианского учения о Троице, да и, пожалуй, основы всей православной учёности. Судя по этим именам, со школами в Каппадокии дела обстояли неплохо.
В общем, детство Нины можно представить как чистую и светлую пору.
Внезапно – гонение.
Диоклетианово гонение было объявлено внезапно, после тридцати лет мира, как внезапно начинается хорошо подготовленное наступление на фронте.
В источниках нет указаний на то, что семья Нины напрямую пострадала от репрессий. Но это была семья христианская, и, следовательно, над нею был занесён государственный топор. Из Каппадокии Завулон с женой и дочерью перебрался в Иерусалим. Возможно, это было бегство. (Так и в советское время: уехать из родного угла, из-под колпака местного НКВД, в другой угол империи, где тебя ещё не накрыли, – возможное средство к спасению.)
По прошествии ряда лет Нина вместе со знатной дамой Рипсиме (в греческих текстах – Рипсимией) и группой женщин и девиц направилась из Иерусалима в Армению. Житийное объяснение: на поиски хитона Господня, того самого, который сняли с Него воины перед распятием и о котором кидали жребий. По некоторым сведениям, хитон этот попал в некую северную страну, в город Мцхет. Однако похоже, что исход иерусалимских жён был очередным бегством, ибо бедствия не утихали: после Диоклетианова гонения – репрессии Галерия, потом террор Максимина Дазы, потом – рецидив при Ликинии.
Но это оказалось бегство из огня да в полымя.
…На ясном кахетинском небе ни одной тучки. Жарко становится на открытой террасе над кипарисами. Мы уходим в тень платанов, туда, где темнеет крохотная хижина под соломенной крышей. Мы вступаем в душистый полумрак. И не сразу, а когда глаза попривыкли, видим низкую лежанку, на ней – худенькую женщину с лучистыми глазами. Рядом сидят две или три женщины помоложе, в светлых полотняных одеждах. Они слушают, а та говорит тихо и неторопливо, вспоминая давнее:
– Отправились мы… Я, со мною Рипсиме, её кормилица Гаяне и пятьдесят душ… Отправились пятнадцатого числа первого месяца. И вступили мы в пределы Армении, в сад царя Трдата[12].
Лежащая на постели замолкает. Видно, что и сейчас ей больно от воспоминаний. Но вот, как будто чуть вздохнув, она произносит:
– Они были замучены там тридцатого числа первого месяца, в день пятницы.
Ещё немного молчания.
– А я осталась в розовых кустах, ибо роза и миндаль цвели тогда.
Что произошло с подругой Нины Рипсимией и всеми её спутницами? Позднейшая легенда объясняет нагрянувшую на них беду тем, что царь Трдат (Тиридат в греческих текстах) захотел взять в жёны красавицу Рипсимию, а она отказала ему. Мы же склонны думать, что Рипсимия, Гаиания и с ними пятьдесят дев оказались заложницами религиозно-политических передряг. Рипсимия, согласно нашим источникам, была царского рода, то есть имела политический вес. С ней и с её спутницами расправились в пику или в угоду кому-то из тех, кто восседал в это время на престоле Римской империи: или гонителю христиан Максимину, или их защитнику Константину, или Ликинию, перебегавшему из лагеря гонителей в лагерь защитников и обратно.
Так или иначе, все были убиты. По преданию, побиты камнями; по другой версии – разрублены на куски.
Нина одна осталась в живых.
– Я воскликнула: «Господи, Господи, зачем Ты оставил меня среди аспидов и ехидн?» И услышала я голос как бы сверху: «Таково будет и твоё взятие. Как только это терние превратится в красные благоухающие розы, ты встань и отправляйся на восток, где жатвы много, а делателей нет».
Кровь ближайших подруг на кустах этих самых роз. Их тела, превращённые в бесформенное небытие, остывают в пыли. Нина, девочка из хорошей семьи, встаёт и идёт на северо-восток, одна, по каменистым тропам, дни и недели, через горы – туда, куда направил Пославший её.
Как-то ведь дошла. Значит, встречались на её пути добрые люди, давшие приют и пропитание. Вот интересно, кого встретишь за тем поворотом: человека, который поделится куском хлеба, или такого, который разрубит тебя на куски?
Тут остаётся только одно: любить, как родители любили в детстве, и с этой любовью, с широко распахнутыми глазами идти к каждому встречному. Только в этом спасение. Иначе – погибель.
С этой возрастающей любовью ко всем встречным Нина пришла в Мцхет. Смастерила себе из виноградной лозы крест, похожий на ангела с опущенными крыльями.
Вот и причина последующего чуда.
Исцелила ребёнка. Потом исцелила царицу Нани, жену царя Мириана. Потом сказала этому царю о Христе так, что тот поверил (царь и царица, как оказалось, были добрые люди). И вокруг поверили все. Или почти все.
Произошло то, чего не может быть: одна маленькая, никому не ведомая женщина передала свой образ бытия целому народу. Людей, для которых естественным движением было убить чужака (мужчину, женщину или ребёнка), заставила принять формулу: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Особо отметим: нет сведений о том, что христианство бытовало в Иберии до Нины. Даже если предположить, что тремя веками ранее сюда от черноморского берега поднимался апостол Андрей – ко времени царя Мириана в Картли-Кахетии не было ни одной христианской общины. Возможно, никто не слышал имени Христос.
Нина – перо, пишущее по нетронутому свитку.
Как резюмирует Сократ Схоластик:
«Представ пред лицом царя, она сделала и его проповедником Христа… Уверовав во Христа, он созвал всех подвластных себе иберийцев и, возвестив им об обстоятельствах исцеления своей жены и сына… убеждал их чествовать Бога пленницы. Таким образом оба они начали проповедовать Христа: царь мужьям, а женщина – женам»[13].
…А женщина, лежащая на низеньком ложе говорит последние слова:
– Мне несколько раз снилось: налетают птицы небесные, опускаются на реку, купаются, плещутся в прозрачной воде, а потом прилетают в сад, клюют листву и цветы и болтают со мной, как подружки… И как будто тот сад – мой; и птицы вокруг меня щебечут, на разные голоса называют меня по имени…
И одна из сидящих рядом женщин шепчет:
– Этот сад вырастет нам из тебя… Это сад величия Божия…
И мы поднимаемся от надгробия святой Нино и из тесноватого придела выходим в монастырский сад, цветущий и пряно пахнущий на полуденном кахетинском солнце.
Горящие и не сгорающие. Святители
Услыша пророк пришествие Твое,
Господи, и убояся,
яко хощеши от Девы родитися
и человеком явитися, и глаголаше:
услышах слух Твой и убояхся, слава
силе Твоей, Господи.
Хочу жить!
Оказывается, очень многие люди не хотят жить.
Это странно, но это так.
Не хотят вечной жизни.
Конечно, не хотят, потому что не знают. Или потому, что не верят, что такое возможно. И по неверию или незнанию говорят:
– Как это – жить вечно?
– Это скучно – жить вечно!
– Я не хочу жить вечно!
Или ничего не говорят и делают вид, что никогда не умрут.
Они думают, что вечная жизнь – нудное продолжение старости. Не понимают, что жизнь, которой они живут, жизнь во времени – это смерть. Каждый момент временной жизни приближает нас к смертному порогу; с каждым моментом временной жизни какая-нибудь мелочь в нас разрушается. Так что смерть – это вовсе не финал, а хорда, протянутая от рождения к финалу. И все наши муки и страдания, неудобства, неприятности, страхи, подлости, тоски, уныния, беснования, судороги и тому подобное – всё это отростки растущей внутри нас смерти.
Мы в тюрьме. Мы ничего не можем сделать по своей воле, потому что нами движет логика смерти. Мы ничему не можем до конца обрадоваться, потому что дышим дыханием смерти. Мы пытаемся не думать про смерть, отгородиться от неё, спрятать её в подпол, в чулан, но даже если мы не видим её и не думаем о ней, каждая клетка нашего тела помнит, знает, боится.
Что же такое вечная жизнь? Жизнь вне времени. Нет времени – нет и смерти.
Вечная жизнь – это жизнь в чистом и окончательном виде, такая, какой она должна быть по слову Творца. Нет смерти – нет горя, боли, тоски; нет злобы, предательства, обмана, подлости – всего того, чем пытается защититься человек от страха смертного. И скуки, конечно, никакой нет. Ни от чего не зависим. Свобода.
И вместо всего того ненужного – растущая, как волшебный куст, деятельная радость, которую в старинной речи называли блаженством.
Именно деятельная и всё возрастающая радость.
Это не то сомнительное блаженство, доступное на пару минут во временной жизни, которое представляется нам чем-то вроде покачивания на солнышке в гамаке или плавания в тёплом масле. В ситуации вечной жизни человек пребывает в покое и в движении одновременно. Это то блаженство, отсветом которого во времени является наслаждение творчеством: красиво слепленным кувшином, рождением ребёнка, гениально найденным стихом. Творческое напряжение вечной жизни – абсолютно. Богослужебные и молитвенные тексты говорят, что святые в Царстве Небесном непрестанно поют славу Богу.
«Идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную».
В этих словах, конечно, только тень настоящего, как ночь – тень земли: временному разуму обозначение того творческого всепоглощающего делания и счастья, которым напитана вечная жизнь.
Там растёт всё хорошее, дающее мне радость, и исчезло всё плохое.
Как можно этого не хотеть?
Однако можно: по причине лени.
Безразличие, апатия, лень – ещё одна форма отказа от жизни наряду с незнанием и неверием. Впрочем, незнание и неверие – следствие лени.
Из всех состояний человека лень более всех на руку диаволу. Если человек действует, даже творя зло, он в движении, а раз в движении, то и спотыкается, и падает, и ударяется больно, и от боли, может быть, придёт в чувство и рванётся в противоположную сторону. А лень – жизнь по инерции, течение к абсолютному нулю, в ту дыру, из которой нет выхода.
Есть абсолютный нуль температуры, физическая величина – как всё физическое, сотворённая Богом. И есть абсолютный нуль бытия – «бытия нет». Бог бытие творит, стало быть, «бытия нет» – то, что против Бога, диавол. О диаволе подробнее как-нибудь в другой раз. А вот человек, стремящийся к нулю бытия, творит волю дьявольскую. Все формы лени, неверия и незнания суть дьявольские поползновения.
Поэтому лень дьявольски же изобретательна и хитра.
Каких только причин и мотивов не придумает человек, чтобы валяться в ленивом неверии!
Казалось бы, я, впервые вдруг осознавший, что скоро умру, сгнию, распадусь на мерзкие части, от одного только страха должен вскочить и побежать. Куда? К тому, кто может в беде помочь, спасти от неминучей гибели. А кто может? Тот, Кто всё это так сотворил. И даже если я не знаю про Бога, никогда вовсе не слышал слова «Бог», я побегу куда-то, буду стучать во все двери, тыкаться во все углы, кричать неведомо кому: «Спасите! Помогите!» (первые и истинные слова молитвы). И куда бы не ткнулся – попаду к Богу, потому что Он везде, всё видит и слышит (не видит и не слышит только нуля бытия). Начнётся дело моего спасения – многотрудное и мучительное, но начнётся же!
Шагнувший к Богу ничего не теряет, но обретает надежду.
Но как мало людей вскакивают и бегут! И как часто мы, испытав первый страх и порыв, глушим его разными словами и действиями!
Один говорит:
– Это смешно.
Другой говорит:
– Наука…
Третий ничего не говорит, наливает и пьёт.
Только бы остаться лежать там, где лежат.
Есть и весьма изощрённые формы лжи. Когда лень переодевается в одёжу добродетели. Например: «Мои родители расстроятся, если я пойду в церковь. Они решат, что я заболел. Я не имею права их огорчить».
Или: «Я должен сначала окончательно уверовать в Бога. А я сомневаюсь. Обращаться к Богу будет с моей стороны… нечестно. И лицемерие».
Или: «Как можно быть на стороне Бога? Он сильный. Надо быть на стороне слабого».
За всеми этими фразами стоит одна мысль: «Я такой хороший! Я жертвую собой ради родителей. Я взыскую истины и не могу врать. Я великий защитник слабых и обездоленных».
И: «Раз я такой чудный, зачем мне куда-то бежать? Полежу-ка я там, где лежится. А Бог, если надо (и если Он есть) – Сам придёт».
Среди особенно тонких лжей есть и варианты для продвинутых в понимании того, что такое плохо и Кто такой Христос: «Я нехороший. И как я, такой нехороший, могу прийти к такому хорошему, как Христос? Я стесняюсь. Я не пойду».
Примерно в такую ловушку угодил я в разгар юности, уже после того, как меня позвала Скоропослушница и осенил свет Божией любви. Сомневаться в том, что Бог есть, я уже не мог: мне было явлено в ощущении. Правда, я не сразу решился эту данность принять. Непросто мальчику из интеллигентной семьи, хорошо учившемуся в школе, принять истину о Боге, даже если его сунули в неё физиономией. Покобенился примерно полтора года, пока не сказал в себе два кратких слова: «Бог есть!» Вот так вот просто: ехал себе на автобусе в институт, думал о чём-то и вдруг, глядя на деревья Летнего сада, мимо которого проезжал, сказал в себе: «Бог есть!»
И почувствовал, как что-то лишнее и тяжёлое отвалилось от меня. Возможно, ракета чувствует нечто подобное, когда от неё отваливается ненужная ступень.