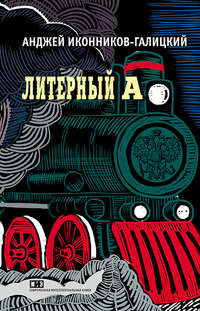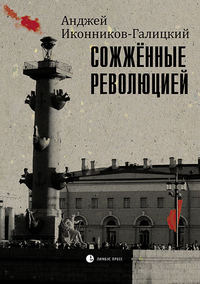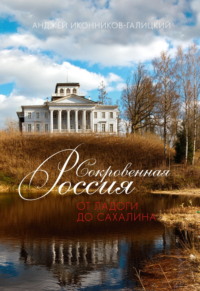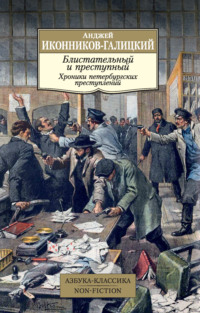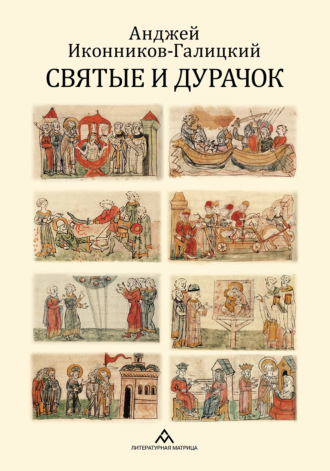
Полная версия
Святые и дурачок
Но за словами следуют дела. За невероятными словами – невероятные дела.
Сказать в себе «Бог есть!» – чудо. Своим умом не дойдёшь. Значит, за этим должно последовать действие, равное чуду. Сделать что-то, чего своей силой не сделаешь. Если словами сказал: «Бог есть!», – а в Нём спасение и жизнь, то, значит, ногами должен прийти к Богу, руками ухватиться за Него, ушами услышать, глазами увидеть, ртом съесть…
Невероятно.
Но мне-то заранее было известно, как это делается. Крёстная рассказывала мне, что священник в церкви даёт из чаши на ложечке хлеб в вине, которые – тело и кровь Иисуса Христа. Я читал Евангелие, где об этом написано (кто читал Евангелие, не может не полюбить Христа, хотя может потом отречься от Него). Я видел, как это делают в Троицком соборе, рядом со Скоропослушницей. Даже знал, что сначала надо пойти к священнику, рассказать о своих дрянных поступках и пообещать, что больше не будешь. Словом, я неплохо представлял себе, что должно последовать за словами «Бог есть!».
Но боялся.
И от боязливости мне было лень. Лень взять себя за шкирку и пойти туда, куда должен.
Это вообще беда современного человека: он всё время настроен делать то, что хочет, и не хочет делать того, что должен.
И это тоже одна из коварных форм лени: «хочу» неизмеримо легче, чем «должен».
Для обоснования своей лени я придумал формулу: «Христос такой хороший, а я напакостил перед ним (тут – правда: в эгоистических порывах юности я постоянно гадил своим ближним). И как я, напакостивший, приду и буду Его просить о чём-то? Нет, нет, не пойду, недостоин!»
Хитро, не правда ли? Прекрасная формула для оправдания как собственных пакостей, так и неделания. Можно дальше упиваться своей совестливостью и ничего не предпринимать.
Понятно, что сам себя вытащить из этой трясины я не мог. Тут необходима была внешняя сила и помощь. Но люди, меня окружавшие (за одним исключением, о котором речь далее), сами ко Христу не ходили и помочь не могли.
Вытащили меня два святителя: Григорий Палама и Николай Чудотворец. Каждый по-своему: один взял за голову, другой – за руку. И вытащили.
Палама: семейный портрет на фоне зарева
Сначала – о святителе Григории.
Его имя долго пребывало в странном полузабвении. Да и сейчас, когда о нём написаны книги и его творения переведены на разные языки, далеко не каждый (возможно, и не каждый десятый) православный сможет объяснить, в чём подвиг фессалоникского архиепископа со странноватой для русского уха фамилией. Это, видимо, оттого, что подвиг его облечён в интеллектуальные формулы богословских трактатов, а время его жизни наполнено исчезнувшими, не понятными нам реалиями. Между тем ещё в XV веке Православная церковь постановила совершать его память во второй воскресный день Великого поста, и поныне так совершает.
Переходящее празднование в воскресные дни Великого поста установлено только для трёх святых: Марии Египетской, Иоанна Лествичника и Григория Паламы. Преподобные Мария и Иоанн славны своим покаянно-аскетическим подвигом, и их присутствие в Постной триоди не вызывает удивления. А Григорий канонизирован как святитель, то есть как руководитель и устроитель церковной жизни, хотя и аскетическими трудами он потрудился много. Память его почитается дважды: в день преставления, 14 (27) ноября, и во время покаянного приготовления к таинству смерти и воскресения Христа, через неделю после Торжества православия и за неделю до поклонения Кресту. Почему установлено так?
Дело в том, что он – последний в ряду великих учителей Церкви. Первые вершины в этом горном массиве – апостолы Иоанн Богослов и Павел; осевой хребет составляют громады: Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст (IV – начало V века); за ними Максим Исповедник (VII век), Иоанн Дамаскин (VIII век). Потом пятьсот лет без новых вероучительных подъёмов. И вот – Григорий Палама. Последний (во всяком случае, до сего дня), кому дано было пополнить умную сокровищницу Дома Божия – догматическое богословие, учение о Боге Троице и Его действии в тварном мире.
Биография святителя Григория неплохо известна благодаря сочинениям его современников и отчасти его собственным писаниям. Наиболее полное житие – «Похвальное слово святителю Григорию» – было составлено «по горячим следам» его учеником и последователем Филофеем Коккином, патриархом Константинопольским. В основу «Слова», написанного лет через семь-восемь после смерти святителя, легли официальные документы, свидетельства современников и, конечно, впечатления от личного знакомства. О Григории писали и другие авторы, знавшие его лично: единомышленники (император Иоанн Кантакузин, патриарх Нил) и противники (Григорий Акиндин, Никифор Григора). Причём с Иоанном Паламу связывала совместная политическая борьба, а для Акиндина он был наставником в монашестве. Из этих источников можно собрать реалистично-достоверную мозаику его жизни.
От наших информаторов узнаём, что Григорий был старшим дитятей в большой семье синклитика, то есть члена Государственного совета, Константина Паламы. Патриарх Филофей Коккин называет их род «сущим от восток солнца»[14]: вероятно, род сей происходил от старинной малоазийской знати, вытесненной из родовых владений сельджуками. Предки нашего героя перебрались на запад и обосновались в Константинополе, по-видимому, ещё до его захвата и разгрома крестоносцами в 1204 году. Ничего не известно о том, как они пережили период латинского владычества, продолжавшийся с 1204 по 1261 год. По всей вероятности, в какой-то момент оказались на службе у беглых никейских императоров и с последним из них, Михаилом Палеологом, вернулись в отвоёванный Константинополь. Этим можно объяснить то доверие, с которым относился к Константину Паламе преемник Михаила Андроник Старший, поручивший ему воспитание своего внука, будущего императора Андроника Младшего. Пройдут годы, царственные дед и внук столкнутся в непримиримой борьбе за власть (она окончится низвержением Старшего), но оба сохранят благосклонность к семейству Паламы. Сие немало поможет святителю Григорию осуществить главное дело своей жизни.
Итак, Григорий родился… Однако годы жизни святителя известны лишь приблизительно: умер, по разным данным, либо в 1357, либо в 1359 году в возрасте (по словам Филофея) 63 лет. Так что рождение его можно датировать временем от 1294 до 1296 года. Как его нарекли при крещении, тоже неизвестно: все наши источники пользуются монашеским именем. Впрочем, возможно наречение при постриге того же имени, что и в крещении.
Тут сделаем маленькое отступление – о времени жизни Григория Паламы.
Для Империи ромеев (ибо так называлось государство, которое мы неточно именуем Византией) это было время великих надежд и окончательных, смертельных разочарований. С отвоеванием Константинополя держава вроде была восстановлена… Но что она собой представляла! Человек, перенёсший тяжёлый инсульт, может, конечно, поправиться, но прежнее здоровье вряд ли вернётся к нему, и оставшиеся годы он проведёт инвалидом. Так и палеологовская Византия – империя-инвалид. Это не сразу стало ясно: первые годы и даже десятилетия ждали чуда – возрождения имперского феникса. Но за успехами последовали неудачи. Территория империи сжималась, как шагреневая кожа. Соседи отгрызали от неё кусок за куском: сербы – Македонию, болгары – Фракию, франки[15] – острова, наконец, турки проглотили практически всю Малую Азию и принялись терзать пиратскими набегами европейское побережье. Императорам уже не из кого было собирать войска, и они вынуждены были поручить защиту усыхающих границ наёмникам со всех сторон света. Казна пребывала в постоянной скудости, денег не хватало для поддержания даже внешних атрибутов державного величия. Константинополь, в прежние времена бывший сердцем, а теперь оказавшийся уже почти всем туловищем империи, превращался в город руин.
То, что византийское государство было обречено, – ещё не такая беда: всякие ветхие мехи рано или поздно выбрасываются. Но мехи эти содержали в себе сокровище бесценное: православную церковную культуру и тысячелетнюю богословскую традицию. Византийские политики и императоры, всё яснее осознававшие невозможность выживания государства без внешней помощи, готовы были ради союза с латинским Западом идти на вероучительные уступки Риму. Это значило выплеснуть вино, чтобы сохранить мехи. Большинство духовенства (и особенно монашество) стояло насмерть против таких планов. Противостояние сторонников и противников греко-латинской унии превращалось в лейтмотив общественной жизни и создавало почву для междоусобной войны. Христианский народ ромеев раздирался напополам. По воле Михаила Палеолога была заключена церковная уния в Лионе: император признал церковное верховенство Римского папы. Патриарх Иосиф отлучил за это императора от церкви. Император низложил патриарха. Императорская семья разделилась, как и весь народ, на сторонников и противников унии. В итоге Михаил умер и не был удостоен церковного погребения, а его сын Андроник осудил и отверг унию. Через три десятилетия тот же Андроник затеял с Римом новые переговоры. Тогда против него восстал внук Андроник Младший. Война закончилась низложением деда. Ещё через пять лет по воле нового императора началось прощупывание почвы для унии…
Острота коллизии заключалась в том, что Рим не шёл в переговорах ни на какие уступки по двум принципиальным пунктам: о признании власти римского епископа над всеми церквами и о принятии римской версии учения о Троице. В сущности, это было условие капитуляции: «Сдайтесь нам, и мы вам поможем против других врагов». И ещё: «Отдайте нам ваши души и тела, а одежду (то есть обычаи и обряды) можете оставить себе». Многие из тех, кому жизнь дороже истины, готовы были капитулировать. В конце концов, из-за чего спорим? Первенство римского епископа как преемника апостола Петра не оспаривалось во вселенской Церкви; так почему бы не признать и его полновластие? Разница в латинском и греческом Символе веры – всего в одном слове; так отчего не согласиться, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, тем более что вопрос этот тёмный и не нашего ума дело. И в обмен на эти смешные уступки можно заполучить союзника в лице могучего Запада: его рыцарские воинства, его торговые города, его деньги и флоты придут на выручку захлёбывающейся монархии. Однако же как забыть погром 1204 года? Как не замечать унизительный тон, который усвоили «латиняне» и «франки» по отношению к ромеям с того самого времени? И многие из того же контингента спасающих жизнь ценой истины отвергали унию только потому, что боялись «западных» и не верили им.
Но в умирающей Византии были ещё люди иного рода: те, кому истина дороже жизни. Для них уния была неприемлема, потому что её условия вырабатывались не путём исследования истины, а путём диктата.
Какая разница, есть ли в Символе веры слово «filioque»[16]? Если не задумываться, то никакой. А если задуматься и додумать мысли до конца, до истины? Не окажется ли тогда, что латинская формула нарушает равновесие лиц Троицы? Вместо правильного треугольника, издревле любимого греческой мыслью, – Отец (вершина), от Него (стороны) рождается Сын, исходит Дух и почивает в Сыне – получается жёсткая римская прямая: Отец (не имеет начала, совершенство) – Сын (имеет начало в Отце, как бы совершенство Сына меньше) – Дух (имеет два начала, в Отце и в Сыне; совершенство ещё меньше?). Filioque наводит на мысль о неравнозначной соподчинённости лиц Троицы, то есть заставляет вспомнить латинское слово «субординация». Ещё в древности, за тысячу лет до рождения Григория Паламы, учение под названием «субординатизм» было осуждено как ересь. Ересь – враг истины. И вот нам этого врага навязывают? И посмотрите, эта римская соподчинённость заявляет о себе и в требовании признать римского первосвященника единоличным главой всех земных церквей. И это можно понять так, что между человеком и Богом нет прямого общения, а есть лестница посредников, через которых передаётся и молитвенный запрос, и благодатный ответ: священник, епископ, римский папа, апостол Пётр, Святой Дух, Иисус Христос… Но мы-то на Востоке привыкли обращаться к Отцу Небесному и ко Господу Христу напрямую. И знаем, что нас слышат.
В первую очередь это на своём опыте знают профессиональные молитвенники – монахи. Неудивительно, что твердыней идейных противников унии стал монашеский «Агион Орос»[17] – Афон. В тамошних монастырях издавна, ещё с IX века, известны были подвижники, стяжавшие особый дар «умной», то есть непрестанной внутренней молитвы; были и сподобившиеся видеть невещественный свет, в котором узнавали Бога. В разгар вышеперечисленных передряг, году приблизительно в 1310-м, на Афоне поселился монах с Синая по имени Григорий. Его так и стали называть: Григорий Синаит. Он не только преуспел в «умном делании» сам, но стал обучать других; из его наставлений составилась книга.
Что такое молитва? Общение с невидимым Богом. Если это общение станет непрерывным, человек соединяется с Богом окончательно – как после смерти. Тело – не помеха, если в нём укрощены греховные страсти: они искореняются путём многолетней аскезы. И, мобилизовав все душевные и телесные силы, надобно на молитве сосредоточиться абсолютно, не отвлекаясь ни на что, в полной внутренней тишине. И вот путём неустанного молитвенного творчества подвижник достигает такого соединения с божественной благодатью, которое не нуждается в словах, а превращается в созерцание Света – того самого, что созерцали апостолы на горе в момент Преображения Господня.
Какой тут может быть папа Римский и какой субординатизм?
Последователей Григория Синаита стали называть священно безмолвствующими, исихастами, от греческого слова «исихия» – безмолвие. Подвижничество и всеми видимая святость афонских «умных делателей» явились в отчаянные времена – как последнее сокровище умирающего восточно-христианского царства. И как главный аргумент против унии с латинянами.
Аподиктические речи
Поначалу маленький Палама не знал обо всём этом. Он рос. Детство его не было безоблачным. Вокруг Константинополя там и сям вспыхивали лютые огни войн, разорений, междоусобий. Война скрытая шла и в лабиринтах императорских дворцов, где почасту пребывал его отец. Может быть, столь беспокойное бытие послужило причиной ранней смерти Константина Паламы: он умер в 1301 году. Если верить Филофею, император Андроник Старший взял осиротевшее семейство под своё крыло; Григорий воспитывался вместе с императорским внуком Андроником, благодаря этому смог получить образование на самом высоком константинопольском уровне.
Классическая школа ещё жива в столице тысячелетней империи. Там изучают Отцов Церкви и Аристотеля. Юноша преуспевает в науках; он вхож в императорские покои; его будущее определяется словосочетанием «блистательная карьера».
Однако придворные перспективы и близкое знакомство с Андроником Младшим не приманили Григория на путь мирского преуспеяния. Не так уж это и удивительно: всё, что могла дать светская служба в империи, становилось эфемерно, как облако. Что-то вот-вот стрясётся – набег, война, восстание или дворцовый переворот, – и деньги будут разграблены, дворцы сожжены, земли захвачены врагами, а почёт и слава отняты вместе с жизнью. Куда надёжнее стяжать имение в вечности – последовать за Христом.
Времена бедствий созидают святых.
Григорий решает принять монашество и покидает столицу. Ему в это время около двадцати лет. С ним вместе уходят младшие братья Макарий и Феодосий (их возраст – от четырнадцати до восемнадцати).
Куда идти?
На Афон.
Григорий на Святой Горе. Поселяется послушником в келье старца Никодима при Ватопедском монастыре. Через два года, проведённых «в посте, бдении и в непрестанной молитве», принимает от своего наставника монашеский постриг. После смерти преподобного Никодима, последовавшей весьма скоро, переселяется в Лавру святого Афанасия. Прожив там три года, уходит в пустынь Глоссия. Но жизнь на Афоне становится неспокойна из-за турок. После двух лет пребывания в скиту Григорий вместе с десятком собратьев вынужден бежать. От турецкой угрозы спасение – за мощными стенами Фессалоники, второго по величине города империи.
Это произошло примерно в 1325 году. Ему около тридцати лет, и он уже семь лет в монахах – канонический возраст и срок для принятия сана, что и совершается. Но новорукоположенный иеромонах Григорий не намерен задерживаться в шумном и суетном портовом городе. Не проходит года – и он удаляется в горы. Поселившись в скиту близ Веррии, предаётся посту, молитве и строгому уединению, общаясь с другими пустынножителями только по воскресным дням. Но и тут покой недолог. Веррия страдает от нападений сербов, зато турецкое одержание на время оставило Афон. В 1331 году он возвращается на монашеский полуостров, на сей раз поселяется в скиту святого Саввы близ Лавры. Он мало-помалу приобретает известность среди иноков своими добродетелями, подвижничеством, а наипаче учёностью. К тому же – связи в Константинополе: как раз в это время Андроник Младший становится единоличным самодержцем и повелителем ромеев. Кому, как не другу императора, войти в руководство Афона? В 1335 году Григорий Палама возведён в сан игумена монастыря Эсфигмен.
До этого момента – прямой и простой путь хорошего, добросовестного монаха. И ничего особо примечательного, по крайней мере, на фоне эпохи.
И вот Бог берёт инока Григория и бросает его в самую гущу исторического замеса.
Определено ему стать указателем духовного пути всего восточнохристианского мира.
Но никто об этом ещё не знает. И он сам меньше всех.
Как раз в тот год, когда Григорий получил игуменский посох, в забытой им суетной столице при дворе непостоянного друга его детства ожила идея унии. Возобновились богословские переговоры. Латиняне, легаты папы, вели их довольно-таки лениво, как чинят старую-престарую, во всех местах драную сеть. Чтобы как-то настроить их на взаимопонимание, императорские советники выискали учёного монаха для диспутов, православного итальянца из Калабрии, хорошо знающего римские вкусы и богословскую латынь – некоего Варлаама, в миру Бернардо Массари. Собеседования начались, вскоре прервались, впрочем, не без надежды на возобновление. Чтобы труды не пропадали даром и чтобы при дворе не думали, что зря потратили время и деньги, Варлаам изложил свои аргументы в письменном виде и под названием «Речи о согласии» представил начальству. Красиво оформленный и составленный по правилам Аристотелевой кухни богословский трактат понравился придворным, и автор удостоился чести прочитать его вслух в императорском дворце в присутствии императрицы Анны. Чтение имело резонанс, но кое-кто из слушателей усомнился в том, что Варлаам защищает православное вероучение православными методами. Пошли споры и докатились до Афона. Кто-то из друзей сообщил содержание «Речей о согласии» Григорию Паламе.
Григорий обдумал услышанное – и написал ответ.
Стоп! Минуточку. От игумена Григория ничего такого не требовалось. Ему просто рассказали. Так провинциальному врачу его коллега, побывав в столице, сетует на тамошнее светило хирургии, которое неправильно оперирует пациентов. Что делают люди в такой ситуации? Возмущаются, качают головой и, повздыхав, уходят спать.
Григорий мог повозмущаться и, распрощавшись с другом, стать на вечернюю молитву, чтобы затем уснуть со спокойной совестью. И жить дальше, как жил.
Но он не успокоился: написал ответ и отправил его в Константинополь.
Это простое действие определило его судьбу и будущее православия.
Написанное озаглавлено: «Против латинян. Речи аподиктические». Не браня Варлаама, он, по сути, отвергал Варлаамово богословие в его методологической основе. Примечательно название: «Логи аподиктики». То есть дословно: «слова, явленные воочию». Знаток Аристотеля, Палама утверждает: нельзя прийти к истинам о Боге путём Аристотелевой логики. Бог не может быть объят человеческим разумом. (Там, где разум находит предел, начинается скука, синоним смерти. А Бог непознаваем, и потому бесконечно интересен; путь познания Бога – путь захватывающих открытий, которые не закончатся никогда.) Словесное знание о Боге основывается не на доказательствах, выстроенных по законам человеческого разума, а на духовном опыте, в котором истина явлена как свет. Поэтому авторитетны в богословских размышлениях не учёные мужи, не философы и софисты древности, а святые, видевшие свет истины от Бога. Острие аподиктического меча направлено против латинской богословской схоластики и против философствующих сухарей вроде Варлаама.
Сочинения Паламы быстро были доведены до сведения Калабрийца. Тот ответил колкостями, как и подобает столичной штучке отвечать на выпады какого-то там провинциала. Разгорелся спор, который стремительно перерос в богословскую дискуссию; дискуссия же, в свою очередь, ощетинилась политическими иглами.
Не будем утомлять читателя подробностями.
Споры на словах продолжались лет пять, пока жив был Андроник. После его смерти (1341 год) стороны перешли к действиям. Диполь «Варлаам – Григорий» собрал у своих полюсов противоположно заряженные частицы. Результатом стала семилетняя междоусобная война, в которой империя надорвала последние силёнки. Империя исчезнет скоро – через сто лет. Но Церковь выстоит и обретёт новые жизненные силы там, где никто не предполагал – на Руси. К этой теме мы ещё вернёмся.
Мехи истлели, но вино сохранилось.
Это благодаря тем богословским формулам, которые тщательно, как клинки, отточил Григорий Палама против Варлаама и в защиту «священно безмолвствующих».
В войне победили единомышленники Паламы. В 1347 году во главе империи (точнее, её осколков) оказался поклонник исихастов Иоанн Кантакузин. Паламу уговорили стать архиепископом Фессалоники. Но сан не принёс Григорию покоя и радости. Фессалоника долго не признавала нового императора и его ставленников; лишь в 1351 году архиепископ смог войти под своды кафедрального храма Святой Софии… А через несколько месяцев был изгнан. Потом попал в плен к туркам. И лишь последние годы жизни, выкупленный из плена не политическими союзниками, а прежними врагами сербами, провёл в своей беспокойной епархии, где и умер, как уже говорилось, то ли в 1357, то ли в 1359 году.
Учение святителя Григория, сформулированное в десятках речей, посланий, проповедей, обсуждалось и взвешивалось на весах церковных соборов 1340-х – 1350-х годов и было признано истинно православным.
Учение это – сложное терминологически и вообще. Но суть понять можно. И сделать практические выводы.
Свет, который открывается в духовном подвиге и молитве, тот же, который видели апостолы на Фаворе, – не физический свет, то есть не явление сотворённого Богом мира, а это сам Бог, его нетварная природа сообщается человеку, как бы наполняет его собой. Это не свет в привычном смысле слова, как свет от лампы или от солнца, который может погаснуть или скрыться за тучей. Это – Бог в действии, действующие силы Бога, по-гречески – энергии.
Бог делает – и Отец Небесный, и Сын Иисус Христос, и Святой Дух, три ипостаси, единое существо – и в делании соединяется с человеком.
Человек, открывший себя Свету божественных энергий, становится сопричастен Творцу, вместе с Ним вступает в дело творения мира из ничего. Он сотрудник божий, он пребывает в деятельном соединении с Богом – в синергии. И это есть обожение человека.
Всё это невероятно, но это так, и явлено в опыте. Закон логики и физики побеждён благодатью.
Можно соединиться с Богом, не переставая быть собой. Лететь в Боге бесконечным свободным полётом-творением, не теряя себя, своей души, своего тела, но наоборот, обретая себя настоящего.
Можно видеть Бога!
Можно говорить с ним!
Можно стать совершенным, как совершен Отец Небесный!
И всё это можно, и так не умрёшь, но перейдёшь от смерти в жизнь вечную.
Мне это дано и доступно.
Надо только суметь.
К свету
Так вот, я маялся у входа в Церковь.
Тут надо пояснить кое-что.
Кто я был в это время?
Мне двадцать лет. Я считаю себя поэтом; я непременный участник литобъединения (ЛИТО) Виктора Сосноры, поэта весьма известного в кругах продвинутой интеллигенции. Я ценю Хлебникова и не признаю Есенина. И на тех, кто любит Есенина, взираю с презрением. Я учусь в Химико-фармацевтическом институте, но учусь плохо, только чтобы не попасть в армию. Химия и аптекарское образование кажутся мне нудными и низкими; лекции я прогуливаю, на лабораторных занятиях читаю по-славянски Псалтирь или изучаю аккадскую клинопись. Мои домашние смотрят на меня со страхом, сожалением и неугасающей надеждой. Я же, кажется, вообще не смотрю в их сторону. Мои собеседники – поэты, поэтессы, философствующие юноши и «проливные девушки»[18]. И бесконечные книги.
В общем, понятно, что я за гусь.
Во всех жизнетворческих лабиринтах моим спутником и проводником был некто Димочка, Вадим Лурье, обладатель острого ума, ёмкой памяти и внутреннего двигателя, заряженного неостановимой таранной энергией. (Эта энергия катапультировала его с химфака ЛГУ в Церковь, даже в монашество, а потом вытолкнула в раскол. Сейчас он в расколе со всеми, кроме малого числа почитателей, а паче почитательниц. Но об этом – молчание. «Не судите, да не судимы будете». В нужный момент моей жизни он дал мне нужного пинка, и я навсегда благодарен ему за это.)