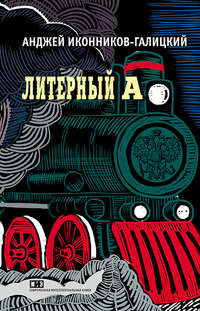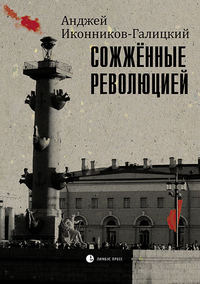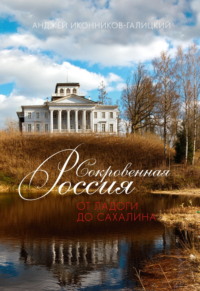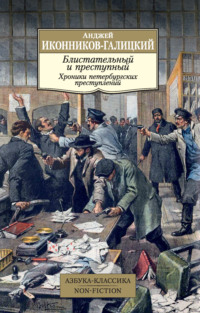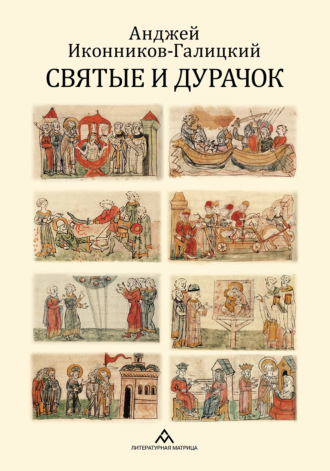
Полная версия
Святые и дурачок
Главное же деяние Ольги – принятие крещения и установление тесных контактов с православной Византийской империей.
Ольга – первая персонально и достоверно известная носительница веры Христовой на Руси. (Сведения о более ранних князьях, возможно христианах, Аскольде и Дире – отрывочны и невнятны.)
Как это произошло?
Уверенного ответа на это вопрос мы в источниках не находим.
Из «Повести временных лет» в «Житие», а из него в общественное сознание перекочевала беллетризованная версия. Якобы княгиня, прибыв в Константинополь ко двору императора Константина Багрянородного, настолько пленила его своей красотой и разумностью, что автократор тут же посватался к ней. Не отказав прямо, Ольга ответила, что сначала должна принять веру Христову, и попросила императора быть её восприемником. После же крещения на повторное сватовство ответила, что по канонам Церкви крёстный отец не может вступать в брак с крестницей. Император должен был отступиться. Русская княгиня перехитрила греческого царя.
Это, конечно, занимательная новелла с оттенком бытовой сказки или рыцарского романа. Хотя, как мы знаем, Несторовы предания заслуживают внимательного к себе отношения, и не исключено, что велись переговоры о династическом браке «архонтиссы росов» с кем-нибудь из императорской семьи. Визит Ольги в Константинополь действительно имел место: два её официальных приёма в императорском дворце описаны в сочинении Константина Порфирогенита (Багрянородного) «О церемониях». Год в источнике не указан, но по названным дням недели и числам – среда 9 сентября и воскресенье 18 октября, – а также по упоминанию о сыне Константина Романе как о соправителе, можно предположить, что это произошло в 946 или 957 году. Ряд обстоятельств, в которых мы детально разбираться не будем, указывает на вторую дату как на более вероятную. При этом разные исследователи в разное время предлагали другие годы: 954, 955, 950, 961. Существует и версия двух визитов княгини в Константинополь.
О крещении княгини и о восприемничестве императора в современных событиям византийских источниках ничего не говорится, а ведь такой выгодный для престижа империи факт должен был бы найти в них отражение. Однако при описании приёмов император Константин упоминает о том, что правительницу Руси сопровождал православный пресвитер Григорий. Отсюда следует, что, скорее всего, Ольга приняла крещение раньше, до встречи с императором Константином, а возможно, и до визита в Константинополь. В Киеве в это время существовала по меньшей мере одна православная церковь – Илии Пророка, упомянутая в договоре Игоря с Империей 944 года. Не исключено также крещение княгини в Херсонесе (Корсуни) – ближайшем к Руси центре архиепископии. Впрочем, латинский источник, известный как Продолжатель Регино (возможно, это лично знавший Ольгу епископ Адальберт) утверждает, что «Елена, королева ругов» при Романе, константинопольском императоре, была крещена именно в Константинополе. Ему вторит византийский хронист Иоанн Скилица, писавший, правда, полутора столетиями позже.
Сводя разнобой версий воедино, получаем наиболее вероятный, хотя всё же гипотетический вариант: княгиню крестил в Константинополе в сентябре 957 года патриарх Полиевкт, восприемником был Роман, сын и соправитель Константина. Имя Елена при крещении выбрано неслучайно. Святой покровительницей и образцом для Ольги стала равноапостольная царица Елена, мать императора равноапостольного Константина Великого (IV век), много потрудившаяся ради распространения и утверждения веры Христовой в полуязыческой ещё империи.
После крещения Ольга-Елена постаралась укрепить влияние православия в Киевском государстве. Согласно «Повести временных лет» она уговаривала сына Святослава креститься – правда, безуспешно. Её старший внук Ярополк был, по-видимому, воспитан в православии, а возможно и крещён. Бесспорно, ею были заложены основы того Крещения Руси, которое осуществил другой её внук, Владимир.
О прочих событиях её правления известно очень мало. Примечателен основной факт: Ольга оставалась реальной правительницей огромной, сложной и пока ещё необустроенной державы на протяжении долгих лет, даже и при взрослом сыне Святославе, до самой своей смерти.
Почитание Ольги-Елены как святой в Русской церкви имело место уже в конце X – начале XI века, о чём свидетельствуют упоминания о перенесении её мощей в церковь. К концу того же столетия восходят древнейшие житийные повествования о ней, в частности рассказы об исцелениях у её гроба. Общецерковная канонизация состоялась, по-видимому, в первой половине XIII века; впрочем, документов об этом нет. Ко времени поместных соборов Русской церкви середины XVI века (так называемых Макарьевских) почитание княгини Ольги-Елены в лике равноапостольных уже предстаёт давно сложившимся.
Прозрение слепых
А теперь попробуем осмыслить суховатые факты.
Княгиня, равная апостолам.
А почему равная?
Что, собственно, произошло такого всеобщецерковно значимого вследствие крещения и дальнейшего правления Ольги? Она сама уверовала во Христа – несомненно. Но за сим не последовало торжество истинной веры не только по всей Руси, но даже в ближайшем окружении княгини. Её сын Святослав и почти вся его дружина – военно-административная элита общества – остались в язычестве, да ещё каком, вплоть до человеческих жертвоприношений. О рядовом населении нечего и говорить: в ростовских или смоленских дебрях из каждой тысячи «людин» и «смердов» 999 даже не слыхали имени Христова. Крещение Руси как народа начнётся (именно начнётся, а не совершится) только при внуке Владимире, через двадцать лет после княгининой смерти. Со всем тем она вот уже тысячу лет как равноапостольная, притом вполне народная святая.
Можно, конечно, предположить, что тут не обошлось без патриотической параллели: там, в Новом Риме, в Царьграде – равноапостольные царь Константин и его мать царица Елена; у нас, на Руси – свои равноапостольные: князь Владимир и его бабка княгиня Ольга. Но источники указывают на то, что почитание Ольги как святой сложилось раньше, чем почитание её внука. Оно, это почитание, уходит корнями в те времена, когда письменность на Руси ещё не имела распространения. Значит, Ольга произвела такое впечатление на своих современников, что те передали его в рассказах детям, внукам, правнукам… И до праправнуков оно дошло уже в виде предания о великой и удивительной жене, «мудрейшей всех человек» – как характеризует Ольгу летописец Нестор, годящийся ей именно в праправнуки.
Что же поразило современников?
Думаю, вот что.
Освобождение от предопределённости «социальных ролей» – то есть от власти мира сего.
Невозможное становится возможным, и небывалое совершается.
Человеческая среда, в которой Ольга родилась, росла, жила всю жизнь, разделялась на две части. Одна часть – те, которые тяжким повседневным трудом добывали у немилостивой и скудной природы всё, необходимое для жизни. Другая часть – те, которые в постоянных войнах и путём всяческого насилия обусловливали непрерывную работу первых. Первые – обитатели лесов и болот, пахари подсек и поозёрий, труженики деревянных сох и мотыг, рыбаки, охотники, бортники, кузнецы и берестянщики, жители курных безоконных землянок. Они – масса. Вторые – путешественники и воины, от пелёнок наученные убивать в бою себе подобных, свирепые, смелые, предприимчивые, безжалостные – элита общества. Для тех и для других основа бытия – физическая мужская сила. Общество полного доминирования мужских ролей. Что здесь полагается женщине? Обслуживать домашнее хозяйство, производить и выращивать потомство. При полной противоположности функций мужчин женские роли в обеих частях общества одинаковы.
Откуда бы ни происходила Ольга, из княжеской ли семьи или из простонародья, её жизненный путь был предначертан со стопроцентной вероятностью. Вот этой маленькой девочке с голубыми удивлёнными глазёнками и чудными золотистыми волосиками предстоит подрасти, быть выданной замуж, провести жизнь в закопчённых бревенчатых стенах (княжеских ли хором, смердьей ли землянки), родить столько детей, сколько сможет, вынянчить, выпестовать тех, кого не отнимет ранняя смерть… Для чего? Для того чтобы сыновья надорвались на тяжкой работе или чтобы им проломили головы в битве. И чтобы дочери вышли замуж и родили столько детей, сколько смогут, рано состарились и ушли путём земли… И так далее, до бесконечности.
И вот – та Ольга, какую мы знаем.
Вот она вступает под пестроцветные своды царьградского чертога. За ней – сонм прекраснейших жён, родственниц и прислужниц, они в строгом порядке следуют одна за другою. Ещё далее идут представители подвластных ей князей, могучие мужи; за ними – киевские торговые люди. Вот шествие замирает: Ольга останавливается на пороге Магнавры; ей задаёт церемониальные вопросы логофет дрома, и она отвечает на них точно и с достоинством. И снова всё в движении: она в сопровождении свиты проходит через Анадендрарий, триклин кандидатов и тот триклин, в котором стоит балдахин и производятся магистры, через Онопод и Золотую руку, или портик Августея, и отдыхает в Скилах. Вновь поднявшись, ступает через апсиду, крытый ипподром, триклин Юстиниана, Лавсаик, Трипетон в Кенургий и садится там на уготованное ей место. И является царь Нового Рима, автократор и василевс ромеев[4], и беседует с ней…
Это описание, взятое из книги императора Константина Порфирогенита «О церемониях», и сейчас читается как сказка. А что могли чувствовать современники?
Здесь невероятны не символы власти и признаки роскоши. Невероятно то, что это всё – о женщине. И то, что через неё чернозёмы, глины, водно-кровавые потоки Руси озаряются тысячелетним сиянием Христианского царства.
Ведь вот в чём смысл империи: соединённым усилием племён и поколений вырваться из обыденного круговорота смерти, воздвигнуть на земле образ Царства Небесного.
В истории Империи ромеев (Византии) были жёны, облечённые высшей властью: императрицы Пульхерия, Феодора, Ирина. Однако ж первые две не правили, а лишь оказывали влияние на государственные дела в качестве помощниц и заместительниц (Пульхерия при брате Аркадии, Феодора при муже Юстиниане); третья же хоть и властвовала, но недолго, урывками, не слишком удачно, и в итоге была свергнута. Примерно то же можно сказать обо всех женщинах в европейской, ближневосточной и русской истории, достигавших вершин социальной иерархии, по крайней мере до XVI века, до Нового времени. Если они и властвовали, то либо от имени своих мужей или сыновей, либо же их правление оказывалось неуспешным, смутным и недолгим. И это не потому, что жёны хуже мужей приспособлены к делам управления, а потому, что властвовать обществом, скреплённым физической мужской силой, силой пахарей и воинов, женщине невозможно.
Правление Ольги продолжалось около четверти столетия. Причём оказалось очень успешным. Именно за эти 25 лет Русь из конгломерата земель, связанных только оковами вооружённого сбора дани, превратилась в государство с некоторой (хотя ещё, конечно, примитивной) внутренней структурой. Правление это вызывало уважение не только у подвластного люда, но и у внешнеполитических партнёров. Об Ольге почтительно отзываются и Константин, и Адальберт, и никто не именует её эпоху бабьим царством, как обозвал самодержавство императрицы Ирины безымянный франк, автор Лоршских анналов.
Более того: правление Ольги – последовательность чудес. Хромые ходят, умершие воскресают, и сила в немощи совершается.
Начало – при самых скверных обстоятельствах, какие только можно себе представить. Гибель Игоря и части его дружины означала исчезновение той единственной скрепы, на коей держалось утлое единство Руси. Рассказ о сватовстве Мала и о расправе с древлянами воспринимается нынешним читателем как занимательная повесть в стилистике триллера. Но в реальности это был для Руси танец на лезвии между бытием и небытием.
Замужество (в системе того времени) – подвластность.
«Се князя рускаго убихомъ, поимемъ жену его Олгу за князь свой Малъ, и Святослава, и створимъ ему, якоже хощемъ»[5].
Власть князя Мала (то есть стоящих за ним беловолосых древлянских старцев) – власть племенных обычаев, родовых законов и духов предков. Это неминуемый распад на родоплеменные единицы и возвращение жизненных сил в леса, болота, к русалкам и лешим. Осуществится сей брак – и не будет Руси со всей её историей и культурой, не будет России, а будут древляне и кривичи, радимичи и волыняне, либо постепенно уходящие в небытие, либо обращаемые в рабство усилившимися соседями. И Ольге нечего противопоставить этой перспективе: у неё нет войск, потому что она сама – не воин.
Ольга побеждает древлян. Совершается чудо.
Коли она победила, то кто-то ей в этом помог. Этим кем-то мог быть только собирательный «муж силы»: сообщество воинов, то, что осталось от Игоревой дружины. Два имени этого обобщённого образа названы в Несторовой летописи: Асмуд и Свенельд. Да и третье: сын Ольги и Игоря Святослав; он скоро повзрослеет и продолжит традиции предков-варягов. Ольга неминуемо теперь должна оказаться под их и (или) его властью. Принять дружинные законы и правила. Вместо русалок и леших принести кровавые жертвы Перуну, Тору и прочим жестоким богам-убийцам. Ну а когда воинственные мужи сложат головы в дальних и ближних походах и кровь всех жертв вытечет на землю – Русь исчезнет, и останется всё та же унылая бесконечность лесов, болот, курных землянок и деревянных мотыг.
Ольга побеждает своё собственное окружение и вопреки логике эпохи подчиняет себе сильных и воинственных мужей. Совершается второе чудо.
Третье чудо – самое главное. Осуществление веры.
Откуда и как могла родиться в Ольге вера во Христа? Это совершенно непонятно. Всё, что мы знаем или можем предполагать об условиях её воспитания, о её социальном окружении, – исключает или, по крайней мере, минимизирует такую возможность. Кругом царство смерти – и вдруг уверенность в вечной жизни. Точно так же невозможно понять, как Андрей, рыбак из Вифсаиды, стал учителем и источником света для многих тысяч людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках. И вот чудо происходит – и «Андрей учит в Синопии», и Ольга в сопровождении почтительной свиты шествует по залам и переходам Царьградского дворца от крещальной купели в блистательный Хрисотриклин.
Конечно, эти чудеса совершились не без поддержки внешних обстоятельств, на которые укажет любой историк. Разумеется, в Киеве существовала христианская община и имелась некоторая группировка сторонников сближения с Византией. Замечены христиане и в составе дружин Игоря и Святослава; впрочем, их было так немного, что в 971 году, после поражения, понесённого от императорских войск на Дунае, Святославовы дружинники-язычники взяли и принесли своих соратников-христиан в жертву воинским богам. Что же касается Киева… Что он представлял собой к началу правления Ольги? Перевалочная пристань и верфь на варяжских торгово-военных путях, небольшая деревянная крепость площадью в несколько гектаров, и при ней посад, который в принятой ныне терминологии можно назвать населённым пунктом сельского типа. Ни одной постройки из камня или кирпича – или, может быть, одна: смутно упоминаемый в летописи каменный княжий терем «над горой», из коего Ольга наблюдала за шествием древлянских послов. Население исчисляется вряд ли более чем четырёхзначным числом. Количество христиан – от силы несколько сотен. Даже если за Ольгу стояла половина населения «матери городов русских», то этого было совершенно недостаточно, чтобы противоборствовать с профессиональной княжеской дружиной, не говоря уж обо всех языческих племенах тогдашней Руси. Киевские христиане и им сочувствующие могли быть для Ольги опорой моральной, но не военно-политической.
Ольга осуществила своё главное историческое деяние не с позиции силы, а против силы. Если не в одиночку, то при содействии лишь ничтожно малой группы соратников. В противоборстве с огромной массой пассивных или агрессивных противников.
Как малое может одолеть огромное?
«Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего…
Руце мои сотвористе орган, персты мои составиша псалтирь…» (Псал. 151:1–2)
Чудо в текущем времени кажется случайностью, в прошлом – закономерностью. На самом деле, Бог просто берёт за руку и ведёт. Правда, это очень страшно, когда тебя берёт за руку такой большой. Главное – не побояться.
Ольга не побоялась.
Вот это и изумило всех.
Ольгино крещение было для Руси первым шагом Симона по водам: поверить трудно, но не верить уже невозможно.
Это как слепой, исцелённый Христом, на вопрос, видит ли что, «взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья» (Мк. 8:24). И лишь после повторного целительного возложения рук стал видеть ясно.
Повторное возложение рук совершилось при Владимире.
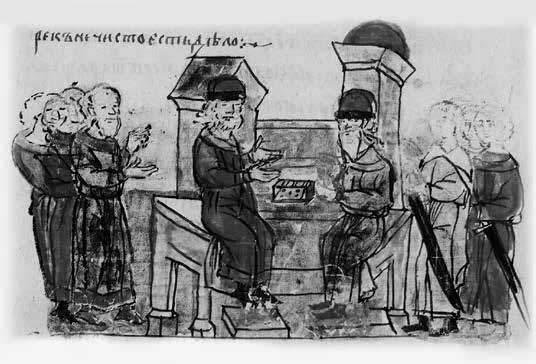
Владимир беседует с философом. Миниатюра Радзивилловской летописи. XIII век (?)
Князь Владимир, в крещении Василий
Всякий школьник, даже двоечник, знает, что при Владимире было Крещение Руси. В былинном предании он – князь Красно Солнышко, древнерусский аналог короля Артура и Карла Великого, коему служат богатыри. Между тем достоверных сведений о великом равноапостольном князе сохранилось немного, и биография его воссоздаётся отрывочно и с трудом. Основные источники, из которых мы черпаем информацию о его жизни, – это «Повесть временных лет» и несколько житийных повествований, составленных в XII веке, но, по всей вероятности, восходящих к общему прототипу, сложившемуся столетием раньше. Владимир, «киевский каган», «хакан русов», обрёл известность в тогдашнем «цивилизованном мире», поэтому отрывочные сведения о нём содержатся в латинских текстах (послание архиепископа Бруно королю Германии Генриху II, хроника Титмара Мерзебургского), в греко-византийской хронике Иоанна Скилицы, в арабоязычных памятниках (хроника Яхьи Антиохийского, сочинения Абу Шоджи ар-Рудравери), в армянской хронике Степаноса Таронеци. Все эти иностранные источники относятся к XI веку; самый ранний из них – послание Бруно, датируемое 1008 годом. Притом, однако, наши информаторы иногда противоречат друг другу, иногда недостаточно ясно изъясняются, иногда их рассказы допускают различные интерпретации.

Крещение князя Владимира. Миниатюра Радзивилловской летописи XIII век (?)
Если из сложного переплетения сведений о Владимире выделить то, что не вызывает сомнений, то получится нижеследующая краткая биография.
Владимир был сыном (не старшим, а, скорее всего, вторым) князя Святослава, внуком Игоря и Ольги. После гибели Святослава (972 год) некоторое время княжил в Новгороде. Затем оказался втянут в борьбу со своим старшим братом Ярополком, князем Киевским, вначале бежал из Новгорода в Норвегию, но, вернувшись с варяжской дружиной, одержал победу и занял Киевский престол, причём Ярополк погиб. Правление Владимира в объединённом Русском государстве было длительным и успешным (об успешности свидетельствует, в частности, то, что в некоторых источниках он именуется каганом – этот титул носили правители великих тюркских государственных объединений, своего рода оседло-кочевнических империй).
Утвердившись у власти, Владимир вмешался в византийские распри: поддержал императоров-братьев Василия и Константина в борьбе против мятежного военачальника Варды Фоки. Примерно в это же время он завоевал греческий город Херсонес (Корсунь), женился на сестре императоров царевне Анне, и, главное – совершил великую религиозную реформу: крестился сам, крестил дружину, крестил жителей Киева и некоторых других городов. Как произошли эти события, какова их последовательность и взаимосвязь – однозначно установить не удаётся. Можно только утверждать, что они укладываются в трёхлетний промежуток времени от 987 до 989 года. После Крещения начинается строительство церквей в Киеве и в других городах Руси, распространение (иногда принудительное) христианской веры среди населения. Во все последующие годы Владимир предстаёт надёжным защитником православной веры и организатором русской церкви.
До Крещения (а возможно, и после) у Владимира было множество наложниц и несколько жён. В источниках упоминаются пять жён (или наложниц), от которых у князя были сыновья; правда, по имени названы только две из них – полоцкая княжна Рогнеда и византийская царевна Анна. Остальные обозначены по происхождению: «чехиня», «грекиня», «болгарыня». В различных источниках также упомянуты (по именам) двенадцать сыновей Владимира и четыре дочери.
Умер Владимир 15 июля 1015 года.
Это – несомненно. Все остальные историко-биографические факты неясно вырисовываются в историческом тумане.
Неясность первая: время рождения крестителя Руси.
Все источники сходятся на том, что ко времени смерти он был в преклонных летах. «Летописец Переяславля Суздальского», источник XIII века, единственный из всех называет его точный возраст – 73 года, но это сообщение не вяжется со всей древнерусской хронологией X – начала XI века. Ведь тогда получается, что он родился в 941 или 942 году, а этим временем обычно датируют рождение его отца Святослава! Если исходить из хронологии «Повести временных лет», то вероятная дата рождения Владимира определяется следующим образом. Известно, что к началу борьбы за единовластие над Русью (977 год) у Владимира уже был сын Вышеслав; с другой стороны, отцу Владимира Святославу во время переговоров с Византийским императором Иоанном Цимисхием в 971 году, по словам Льва Диакона, было около тридцати лет. Отсюда можно сделать вывод, что Владимир родился, скорее всего, между 958 и 961 годами. Значит, ко времени смерти ему было 54–57 лет. Можно ли этот возраст назвать преклонным? Глядя на себя в зеркало (мне 57 лет), хочу ответить: «Едва ли!» Впрочем, если сравнить с длительностью жизни большинства древнерусских князей, то пожалуй…
Матерью нашего героя Несторова летопись называет Малушу, ключницу княгини Ольги, родом из Любеча. Брат Малуши Добрыня в дальнейшем станет одним из ближайших помощников и сподвижников Владимира.
Борьба с Ярополком и вокняжение Владимира в Киеве тоже датируются по-разному. В «Повести временных лет» указан 980 год, в некоторых других источниках это событие упоминается под 978 годом. Походу на Киев, по-видимому, предшествовал захват Полоцка, центра самостоятельного восточнославянского княжества. Согласно письменным источникам Полоцк подвергся разорению, князь Рогволод и его сыновья убиты, а дочь Рогнеду Владимир взял себе в жёны. Данные археологических раскопок показали следы большого пожара на территории древнего Полоцка в слое, датируемом второй половиной X века, что подтверждает летописный рассказ. За этим последовали поход на Киев, поражение и бегство Ярополка, приглашение его на переговоры и изменническое убийство, описанное в «Повести временных лет».
Если летописная хронология верна, то сыновья Святослава были в это время ещё очень юны: им исполнилось лишь по семнадцать-двадцать лет. Жестокость и коварство несвойственны юности. Так что снимем с мальчишек долю ответственности и постановим, что их действиями, скорее всего, руководили старшие советники. При Владимире таковыми могли быть его уй, то есть дядя по матери, Добрыня, упомянутый в летописном рассказе воевода Блуд (говорящее имя!) и начальники варяжской дружины (убийство Ярополка, согласно тому же источнику, было совершено варягами).
Едва утвердившись на киевском княжении, не оставляя традиционных для князя военно-грабительских походов, Владимир приступает к делу вовсе не княжескому. Говоря нынешним языком, осуществляет религиозную реформу. Что его заставило войти во святая святых общественной жизни, в тот чулан, куда предпочитала не заглядывать даже бесстрашная Ольга? Тут сплелись два мотива: очевидно, назревшая необходимость централизации власти обострила личные переживания. Совсем недавно на его глазах и при его вольном или невольном участии был зарезан его брат. Другой брат, мальчишка, погиб ещё раньше в междоусобной борьбе. Каковы бы ни были отношения между Владимиром и его братьями, пролитие родной крови не могло не привести в движение маятник страха и совести.
Нужен был прыжок, навсегда избавляющий от страха смерти. Нужно было очищение от проклятия братоубийства.
Поначалу надежда была возложена на разноликих и разноплеменных языческих богов – как будто бы Владимир стремился заручиться поддержкой сразу всех сил, управляющих миром. Нестор сообщает, что князь «постави кумиры на холъму внѣ двора теремнаго: Перуна деревяна, а голова его серебряна, а усъ золот, и Хоръса, и Дажьбога, и Стрибога и Сѣмарьгла, и Мокошь. И жряхут имъ, наричуще богы»[6] (то есть приносят им жертвы, называя богами). Современные исследователи усматривают в этом попытку создать обязательный для всеобщего поклонения пантеон богов, в котором главенство принадлежит божествам царского и военно-дружинного типа: Перун, Даждьбог, Стрибог наделяются в источниках признаками военной власти. Но характерно присутствие в этом круге женообразной Мокоши, ираноязычного Хорса и вовсе загадочного Семаргла.