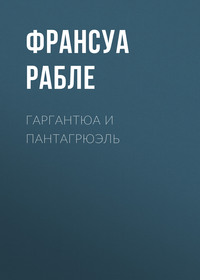полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
Пантагрюэль схватил его за горло, и лимузинец заорал во всю глотку на обыкновеннейшем местном языке. Он умер через несколько лет «смертью Роланда», то есть от жажды (по народному преданию, Роланд погиб от жажды в Ронсевальском ущелье): юноше постоянно казалось, что Пантагрюэль держит его за горло; и ему хочется пить.
«Божественное возмездие за стремление к вычурной речи, – поучает Раблэ, – доказывает нам, что непонятных и выдуманных слов следует избегать, как моряку – подводных скал».
ГЛАВА VIII. Как Пантагрюэль, будучи в Париже, получил от своего отца Гаргантюа письмо. Копия этого письма
Вы уже заметили, что Пантагрюэль учился усердно и с большой пользой для себя. Ум его напоминал вместилище с двойным дном, объем его памяти равнялся двенадцати бочкам оливкового масла.
Однажды он получил следующее письмо от отца:
«Дорогой мой сын! Из числа даров, милостей и преимуществ, которыми всемогущий господь-создатель одарил и разукрасил природу человека от начала веков, представляется особенно замечательным мне то, благодаря чему смертная природа человека приобретает нечто от бессмертия и в преходящей жизни земной увековечивает имя и семя свое. Это достигается через потомство, рождаемое нами в законном браке. Правда, что оно никоим образом не восстанавливает в нас того, что отнято у человека за грех наших прародителей, коим было сказано, что за то, что они не повиновались заповедям бога-создателя, они должны умереть, – каковою смертию будет уничтожено великолепие первозданного человека.
«Но, благодаря распространению семени, в детях живет то, что теряется в родителях, а во внуках – то, что погибает в детях, и так последовательно продолжится вплоть до часа страшного суда, когда Иисус Христос возвратит богу-отцу царство свое мирным, не подверженным никакой опасности и незапятнанным грехом, ибо тогда кончатся и поколения и искушения; элементы стихий прекратят свое вечное превращение, и настанет вожделенный и совершенный мир, и все дойдет до своих границ.
«Посему не без основательной причины воздаю я хвалу богу, моему хранителю, за то, что дал он мне возможность видеть дряхлость и старость мою расцветающей в твоей юности, ибо когда, по желанию его, который размеряет все и управляет всем, душа моя покинет свое человеческое обиталище, – я не вовсе умру, но лишь перейду из одного места s Другое, поскольку в тебе и через тебя я пребуду в видимом моем образе в этом мире живых, вращаясь в обществе честных и хороших друзей, Как я к тому привык. Жизнь моя, благостью и милостью божьею, протекла хотя и не без греха, в чем я сознаюсь (ибо все мы грешим и неустанно молим бога оставить нам прегрешения наши), но, могу сказать без упрека.
«И вот почему, хотя в тебе и пребывает телесный образ мой, но если равным образом не будет сиять твое душевное благонравие, то тебя не будут считать стражем и хранителем бессмертия нашего имени, и то удовольствие, которое я получил бы, созерцая это, приуменьшится. Ибо я видел бы, что осталась меньшая моя часть, то есть плоть, а лучшая, душа, из-за коей имя наше пребывает на устах людей и в их благословении, – что часть эта выродилась и стала как бы незаконнорожденной.
«И говорю я это не от недоверия к твоей добродетели, которую не раз я имел случай испытать, но ради того, чтобы сильнее побудить тебя к постоянному самосовершенствованию. И то, что я сейчас тебе пишу, имеет целью не столько даже заставить тебя идти стезею добродетели, сколько внушить тебе радость от мысли, что ты живешь и жил, как надо, – и ободрить тебя, внушить тебе мужество на будущее.
«В заключение и завершение всего сказанного достаточно напомнить тебе, как никогда я ничего не жалел для тебя, как отдавал себя всего делу твоего воспитания, |точно и не было у меня другого сокровища в мире, чем видеть тебя при жизни достигнувшим совершенства «как в доблести, чести и благоразумии, так и в области свободного и честного знания, – и таким именно оставить тебя после моей смерти, чтобы ты, как зеркало, отражал во всем личность твоего отца, – и если и не столь совершенным, как я желаю, то, по крайней мере, стремящимся к этому.
«Но несмотря на то, что доброй памяти мой покойный отец, король Грангузье, все старания и все свое умение приложил к тому, чтобы я вполне усовершенствовался в государственных науках, и чтобы труды и старания мои не только соответствовали, но даже и превосходили его желания, – несмотря на это, как ты прекрасно понимаешь, то время, когда я воспитывался, было благоприятно для наук менее нынешнего, и у меня не было стольких наставников, как у тебя. То время было еще темное, еще сильно было злосчастное влияние варваров, готов, кои разрушили всю хорошую письменность. Но, по доброте божьей, на моем веку свет и достоинство были возвращены наукам, и произошла такая перемена, что сейчас я едва ли принят был бы. даже в первый класс низшей школы, – я, который в моем зрелом возрасте считался (и не без основания) ученейшим человеком своего века.
«Говорю это не из пустого хвастовства, хотя в письме к тебе я мог бы и хвалиться вполне безнаказанно, ибо сие позволяется и одобряется такими авторитетами, как Марк Туллий (в его книге «О старости») и Плутарх (в его произведении, озаглавленном: «О похвальбе, не вызывающей зависти»), но исключительно для того, чтобы выразить тебе всю мою нежность. Теперь все науки восстановлены, а также языки: греческий, без знания которого стыдно называть себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Теперь в употреблении печатание, столь изящное и правильное, изобретенное в мое время благодаря божественному вдохновению, как, наоборот, благодаря внушению дьявольскому изобретены пушки. – Мир ныне полон учеными людьми, образованнейшими преподавателями, обширнейшими книгохранилищами, так что, по моему мнению, никогда – ни во времена Платона, ни Цицерона, ни Папиньяна – не было таких удобств для учения, как видим теперь. Отныне не найдет себе места в обществе человек, который не очистится предварительно у жертвенника богини Минервы. Я вижу, что нынешние разбойники, палачи, авантюристы и конюхи более образованы, чем доктора и проповедники моего времени.
«Да что говорить! Женщины и девушки ныне стремятся к науке, этой манне небесной. Даже я, в моем возрасте, вынужден учиться греческому языку, который я не презирал, как Катон, но не имел досуга усвоить себе в юном возрасте. И вот я охотно услаждаюсь чтением «Нравов» Плутарха, прекрасных диалогов Платона, описаний Павзания и древностей Атэнэя, в ожидании часа, когда богу-создателю будет угодно призвать меня к себе и приказать покинуть землю. Поэтому, сын мой, увещеваю тебя использовать юные годы свои для упражнения в науках и добродетели.
«Ты живешь в Париже, с тобою наставник твой Эпистемон: один изустными и живыми наставлениями, а другой похвальными примерами – могут научить тебя. Я стремлюсь и хочу, чтобы ты в совершенстве изучил языки: во-первых – греческий, что указывается Квинтилианом; во-вторых – латинский, и потом – еврейский, ради священного писания, а равно халдейский и арабский. В греческом подражай стилю Платона; в латинском – Цицерону. Ты должен сохранять в своей памяти все исторические события, в чем тебе поможет космография различных авторов. К свободным искусствам, как-то геометрии, арифметике и музыке, я вложил в тебя некоторую склонность, когда ты еще был совсем маленьким – лет пяти-шести, – продолжай их изучение; знай все законы астрономии, астрологию же и искусство Люллия[138] оставь, как науки пустые и лживые. Выучи наизусть прекрасные тексты гражданского права, ты мне их изложишь с разъяснениями.
«Что касается познания явлений природы, я хотел бы, чтобы ты отдался ему с любознательностью, чтобы не было ни моря, ни реки, ни родника, коих рыб ты бы не знал; и всех птиц в воздухе, все деревья, кусты и кустики лесов, все травы на земле, все металлы в недрах ее, все драгоценности Востока и Юга, – все это изучи; пусть ничто не будет тебе неизвестно. Тщательно перечитай книги греческих, арабских и латинских врачей, не презирая ни талмудистов, ни каббалистов; при помощи анатомии приобрети совершенное познание другого мира, каков есть человек.
«Несколько часов в день отдавай на чтение священного писания. Сначала на греческом прочти «Новый завет» и «Послания апостолов», а потом на еврейском – «Ветхий завет».
«Словом, как видишь – бездна премудрости! Ибо, когда ты станешь взрослым мужчиной, тебе надобно будет выйти из спокойного течения занятий, и учиться ездить верхом, владеть оружием для защиты моего дома и для помощи нашим друзьям, в случае нападения на них со стороны каких-либо злодеев.
«И я желаю, чтобы ты вскоре испытал себя, насколько ты пре. о успел, для чего лучший способ – публичные диспуты со всеми, а также – посещения литераторов и ученых, которых в Париже больше, чем где бы то ни было.
«Соблазны мира сего пусть не имеют над тобою власти, да бежит сердце твое суеты: ибо жизнь наша преходит, слово же божие пребывает вечно. Будь услужлив по отношению ко всем ближним твоим и люби их, как самого себя. Уважай наставников, избегай общества тех, на которых походить тебе бы не хотелось, дабы оставаться достойным великих и богатых божьих милостей.
«Когда же ты увидишь, что приобрел все знания, какие могли теба дать в той стране, возвращайся ко мне, чтобы перед смертью я мог увидеть и благословить тебя. Аминь.
«Утопия, семнадцатый день месяца марта.
Твой отец Гаргантюа».Получив и прочитав это письмо, Пантагрюэль преисполнился мужества и загорелся желанием преуспеяния во всех науках. Так что при виде того, как он занимается и преуспевает, вы бы сказали, что дух его среди книг напоминает огонь среди сухого вереска: до того был он горяч и неутомим.
ГЛАВА IX. Как Пантагрюэль нашел Панурга, которого полюбил на всю жизнь
Однажды Пантагрюэль, прогуливаясь за городом по пути к аббатству св. Антония, рассуждая и философствуя с друзьями и кое с кем из студентов, встретил человека прекрасного роста и прекрасно сложенного, но раненного в разные места и такого изодранного, точно он вырвался от собак.
Пантагрюэль, как только его заметил, еще издали сказал товарищам:
– Посмотрите на этого человека, переходящего Шарантонов мост. Честное слово, он беден только по капризу фортуны, потому я вас уверяю, по его физиономии, он – богатого и знатного происхождения, но страсть к приключениям, свойственная любознательным людям, довела его до такого упадка и нищеты.
И как только он подошел поближе к ним, Пантагрюэль обратился к нему с вопросом:
– Друг мой, прошу вас, соблаговолите на минутку остановиться и ответить на мой вопрос! Вы не раскаетесь в этом, о нет, – у меня большое желание посильно помочь вам, поскольку я вижу вас в несчастье, потому что вы внушаете мне большую жалость. Друг мой, скажите мне, – кто вы? Откуда и куда идете? Что ищете, и как ваше имя?
Прохожий ответил на немецком языке:
– Юнкер, Готт геб эйх глюк унд хейль цуфор. Аибер Юнкер, ихь ласс эйх внесен, дасс да ир мих фон фрагт, ист айн арм унд эрбармлих динг, унд вэр филь дарфон цу заген, вельхес эйх фердруслихь цу хёрэн, унд мир цу эрцелен вер; вифоль ди поэтен унд ораторн форцэйтен хабен гезагт ин ирен шпрюхен унд зентенцен, дасс ди гедэхтнис дес элендс унд армутс форлангст эрлиттен ист айн гроссер люст[139].
Пантагрюэль возразил незнакомцу:
– Друг мой, я совсем не понимаю этой тарабарщины; если вы хотите, чтобы вас поняли, говорите на другом языке.
На это товарищ отвечал ему:
– Альбарильдим готфано дешмин брин алабо дордио фальброт рингвам альбарас. Нин рортзадикин альмукатин милько прин альэльмин эн тот дальхебен энзуим: кутим аль дум алькатим ним брот дешот порт мин микай им эндот, пруш дальмайзулюм голь мот данфрильрим лупальдас им вольдемот…[140]
– Понимаете что-нибудь? – обратился Пантагрюэль к присутствующим.
На это Эпистемон отвечал:
– Думаю, что это язык антиподов, сам черт в нем ногу сломит.
Пантагрюэль сказал:
– Милый кум, эти стены, может быть, вас и поймут, но из нас никто ничего не понял.
На это незнакомец сказал:
Синьор, вой видэтэ пэр экземпло ке ла корнамуза нон суона Май сэлла нон а иль вентрэ пьено. Кози ио паримэнтэ нон ви сапрэи кон Тарэ ле миэ фортунэ, сэ прима иль трибулато вентрэ нон а ла солита Рефекционэ. Аль куале э адвизо, кэ ле мани э ли денти аббуи персо иль ординэ натуралэ э дэль тутто анничилятй[141].
Эпистемон ответил:
– Ну, одно другого стоит.
На что Панург сказал:
– Лард, гефт толб бэ суа виртус бе интэлидженс: ас ий бодч шальмис би нечурал рэльют толб сулд оф мэ пэти гау фор нечур хас улс эгвали майд: бот фортюн сем екзалтит нон йе лес виойс ноу вирчу дэпреэвит: энт вирчуз мэн дэскривис фор анэн е лад энд ис нон гуд[142].
– Еще меньше, – отвечал Пантагрюэль.
В дальнейших разговорах Панург, прерываемый все более нетерпеливыми возгласами путников, хвастнул перед ними знанием, после баскского, еще рядом языков: сикимунским (такого никогда не существовало), голландским, испанским, старо-датским, еврейским, греческим, утопийским (тоже несуществующим), латинским. Наконец, на вопрос Пантагрюэля:
– Не умеете ли вы говорить по-французски? – незнакомец отвечал:
– Слава богу, это мой родной и материнский язык, я родился и вырос в зеленом саду Франции, в Турени.
Его собеседники нисколько не удивились последнему обстоятельству, так как они не понимали ни одной из его предыдущих речей, из которых некоторые, как, например, баскская или старо-датская, встречались остроумными замечаниями, иногда не совсем приличного свойства. Смысл Панурговых речей сводится к жалобам на пренебрежение мира к добродетельным людям, просьбам пищи и питья и, наконец, к просьбам не утомлять его расспросами.
– Ну, так, – сказал Пантагрюэль, – расскажите, как вас зовут, откуда вы направляетесь. Честное слово, вы мне так полюбились, что если вы только согласны, я не пущу вас от себя ни на шаг, и вы и я – мы составим отныне такую же неразрывную пару друзей, как когда-то Эней с Ахатом.
– Сударь, – говорит ему на это незнакомец, – мое истинное имя, данное мне при крещении, – Панург. Сейчас я из Турции, где был в плену со времени несчастного похода на Митилены[143]. Я с охотой вам рассказал бы о моих злоключениях, более удивительных, чем «Одиссея»[144]. Но раз вы хотите меня взять с собой, – это предложение я принимаю охотно и утверждаю, что никогда вас не покину, хотя бы вы пошли ко всем чертям, – так у нас будет еще время на досуге рассказать обо всем… А сейчас мне крайне необходимо подкрепиться пищей: зубы щелкают, брюхо пустое, аппетит пронзительный, в гортани сухо, – все готово. Хотите меня сделать пригодным для дела, так, ради бога, прикажите меня накормить. Сами порадуетесь, глядя, как я буду уписывать за обе щеки.
Пантагрюэль приказал своего нового друга отвести к себе в дом и принести ему побольше еды.
Приказание было исполнено, Панург славно поужинал в этот вечер и улегся спать вместе с курами, а проснулся на следующий день только к самому обеду и в три прыжка, прямо с кровати, очутился за столом.
Как Пантагрюэль правильно разрешил один удивительно темный и трудный вопрос, и так справедливо, что его решение было признано прямо замечательным.
Отлично помня письма и наставления своего отца, Пантагрюэль в один прекрасный день вздумал проверить свои знания. И вот он велел вывесить на всех городских перекрестках свои тезисы, числом до 9764, по всем научным вопросам, касаясь в них наиболее сомнительных во всех областях знания.
Прежде всего на улице дю-Ферр он выступил против всех деканов, магистров и ораторов и посадил их всех.
Второй диспут, в Сорбонне, против богословов, длился шесть недель, ежедневно с четырех утра до шести вечера (только два часа полагалось среди дня на обед). На этом диспуте присутствовали: много придворных, начальники канцелярий для приема прошений, президенты, советники, счетоводы, секретари, адвокаты и другие, а также старшины города, врачи и каноники.
Заметьте, что большая часть из них в споре с ним закусили удила, но, несмотря на все их ухищрения и выдумки, он всех их посрамил и доказал с очевидностью, что они перед ним просто телята.
Поэтому все зашумели и заговорили о его изумительных познаниях, – Все, включая прачек, сводней, кухарок, судомоек, которые, когда он проходил по улицам, говорили: «Это он!» Это доставляло ему удовольствие, как Демосфену, князю греческих ораторов, когда одна сгорбленная старуха, указывая на него пальцем, сказала: «Это он самый!»
И вот в это-то самое время как раз шел в суде процесс – тяжба двух крупных вельмож: одного звали де-Безкюль – истец; другого – Гюмвен – ответчик. Тяжба их была такая запутанная и трудная с точки зрения права, что парламентский суд разбирался в ней не легче, чем верхне-немецком языке. По этой причине король приказал собрать комиссию из четырех самых ученых и самых жирных членов из всех французских судов, и сверх того – большой совет, в который вошли все важнейшие профессора университетов, и не только французских, но и английских и итальянских, как, например, Язон, Филипп Дэче, Пэтрус де-Петронибус и масса других старых раббанистов. И комиссия и большой совет заседали сорок шесть недель, и все-таки не могли разгрызть орешка, ни понять предмета их спора, чтобы подвести его под существующее узаконение. Это в конце концов так их раздосадовало, что они от стыда обмарались.
Однако один из них, по имени Дю-Дуэ, более знающий, умный и опытный, чем все остальные, однажды – когда у всех уже ум зашел за разум – сказал:
– Господа, уж очень долго мы заседаем, никак не оправдывая расходов на нас, и не можем найти ни дна, ни берега в этом деле. Чем больше мы занимаемся им, тем меньше его понимаем, к нашему стыду и отягчению нашей совести; по моему мнению, не выйти нам из этого дела с честью, потому что мы только бредим в наших консультациях. Но вот что я придумал: вы, наверно, слышали об этой великой личности, о магистре Пантагрюэле? Его ведь признают ученейшим из людей нашего времени, по тем диспутам, которые он так блистательно провел перед всеми. Мое мнение, что нам следует вызвать его и побеседовать с ним по данному вопросу. Ибо нет человека, который бы мог придти к правильному выводу, если Пантагрюэль к нему не придет.
Все доктора и советники охотно согласились на это предложение и тотчас же послали за Пантагрюэлем, с просьбой соблаговолить принять участие в рассмотрении дела, обсудить вопрос со всех сторон и сделать вывод, который ему покажется правильным с точки зрения истинной науки о праве. Они передали ему в руки все бумаги и документы, что составляло в общем воз, свезти который было по силам не менее как четверке здоровых ослов.
– Господа, – спросил Пантагрюэль, – двое вельмож, тяжущихся между собой, еще живы?
Ему было отвечено, что да.
– Так на кой же черт, – сказал он, – столько изводить бумаги и плодить такое количество копий? Не лучше ли выслушать от них самих их спор, вместо того чтобы читать всю эту ерунду, которая есть не что иное, как натяжки, дьявольские ухищрения и всякие извращения права? Я уверен, что и вы, и все, через чьи руки прошло дело, запутывали его, как только могли, всякими там про и контра, затемняя нелепыми и преглупыми доводами, со ссылками на всех этих Бартолей, де-Кастро, де-Имола, Ипполитов, Панормов, Александров, Курциев и прочих древних приказных, которые никогда и не слыхали ни о каких наших уложениях и, в сущности, были молочными телятами, круглыми невеждами в законах и, наверно, не знали ни латинского, ни греческого, а только готский и варварский языки. Во всяком случае, законы первоначально были заимствованы у греков, как вы знаете из свидетельства Ульпиана (кн. «О происхождении права»), и все законы полны греческих слов и выражений. А затем они были написаны по-латыни, на самом изящном и изысканном латинском языке, с которым не может сравниться даже язык Варрона, Саллюстия, Цицерона, Сенеки, Тита Ливия и Квинтиллиана. И как же могли понять тексты закона эти старые пустомели, не видевшие никогда хорошей книги на латинском языке, как это очевидно из их собственного стиля, – стиля печников, поваров и поварят, а не юрисконсультов? Больше того, так как все законы выросли на почве нравственной и натуральной философии, – как могли бы понять их эти глупцы, которые, ей-богу же, менее обучены в философии, чем мой мул? Что же касается гуманитарных наук, изучения древностей и истории, то они снабжены всем этим столько же, как жаба перьями. А между тем всякое право зиждется на основе указанных знаний, и без них не может быть понято, как я когда-нибудь докажу в особом сочинении. Поэтому, если вы хотите познакомить меня с данным процессом, то, во-первых, сожгите все эти бумаги, а во-вторых – велите явиться сюда этим двум дворянам; и когда я их выслушаю, я сообщу вам свое мнение без утайки.
Некоторые на это возражали, – вы знаете лучшую часть, как сказал, говоря о Карфаген упомянутый Дю-Дуэ мужественно держался противного мнения, доказывая, что Пантагрюэль говорит правильно, и что все их реестры, вопросы, больше глупых, чем умных, и что вся эта чертовщина не что иное, как извращение законов и затягивание процесса, и черт их всех побери, если они сейчас не пойдут по другому пути, согласно евангельской и философской справедливости.
Словом, все бумаги были сожжены, и оба дворянина приглашены лично. И тут Пантагрюэль им сказал:
– Вы – те, между которыми идет эта великая тяжба?
– Да, сударь, – сказали они.
– Кто из вас истец?
– Я, – сказал господин де-Безкюль.
– В таком случае, друг мой, расскажите мне по пунктам все ваше дело по всей правде. Ей-богу, если вы солжете хоть в одном слове, я сниму вам голову с плеч и докажу вам, что на суде должно говорить только правду. Поэтому берегитесь прибавлять что-нибудь или чего-нибудь не договаривать. Говорите!
ГЛАВА XI. Как господа де-Безкюль и Гюмвен тягались перед Пантагрюэлем без адвокатов
И вот Безкюль начал нижеследующую речь:
– Господин мой, правда в следующем: одна из женщин, принадлежащих к моему дому, пошла на рынок продавать яйца.
– Наденьте шляпу Безкюль, – сказал Пантагрюэль.
– Благодарю вас сударь, – сказал де-Безкюль. – В дальнейшем ей пришлось пройти между двумя тропиками, по на правлению к зениту, шесть серебряных бланков[145], поскольку Рифэйские скалы в этом году оказались бесплодными на фальшивые камни по причине возмущения, имевшего место между баррагуэльцами[146] и аккурсийцами из-за бунта швейцарцев, которые восстали и собрались в числе немалом, желая Новый год встретить под омелой и провести этот первый день года в раздаче супа быка а ключей от кладовых девкам, – чтобы те кормили овсом собак. Всю ночь, руку держа на горшке, только и делали, что рассылали депеши, пешие да конные эстафеты, дабы задержать корабли. Ибо портные собирались из краденых отрезков сделать трубу, чтобы покрыть ею море-океан, которое в этот момент, по мнению уборщиков сена, было брюхато, собираясь разродиться горшком щей. Однако физики говорили, что можно в урине его распознать признаки того, что оно наелось топоров с горчицей, – с тою же уверенностью, с какой можно выследить дрофу по ее повадке. Разве что господа судьи бемольным декретом запретят дурной болезни преследовать медников, – так как бездельники уже потрудились, протанцовав в такт песенки доброго Раго:
В огонь ногою лезьИ голову повесь.«Ах, господа, божья воля неисповедима, и против дурного глаза возница пускает в ход хлыст. Когда Андроны приехали, как раз происходило очень пышное чествование магистра Антитюс де-Крессоньер. Но пост был перед этим, – ведь каноники говорят: «Beati lourdes, quoniam ipsi trebuchaverunt»[147], – пост был, клянусь святым Фиакром Брийским, такой строгий, только оттого, что
Не бывает троицыБез того, чтобы хозяйству не расстроиться…Но – «небольшой ветер прогоняет большой дождь».«Принимая во внимание, чтобы сержант не так высоко ставил цель, стряпчий и подъячий не грызли ногтей на пальцах и своих гусиных перьев… Мы ясно видим, что каждый берется за нос, чтобы вглядеться и в перспективе рассмотреть место у камина, куда вешают питейный флаг с сорока змеями, необходимыми для двадцати поводов к отсрочке. Во всяком случае, кому не хотелось бы выпускать птицу «на поваров, так как, когда штаны наденешь навыворот, становишься беспамятным? Храни бог от зла Тибо Митэна».
Тогда Пантагрюэль сказал:
– Прекрасно, друг мой, прекрасно! Продолжайте не торопясь и без раздражения. Все ясно, говорите дальше.
– Так вот, милостивый государь, справедливо говорят: ум хорошо, а два лучше. Женщина, о которой я говорю, читая свои акафисты и паремии, никак не может укрыться под сенью университетских привилегий, – разве что по-евангельски погружаясь в воду, покрываясь семеркой бубен, извлекая метательное копье близ места продажи старых хоругвей, которыми пользуются живописцы фламандской школы, когда они хотят ловко подковать кузнечика. Очень удивляюсь, как это мир не кладет яиц, раз он так хорошо высиживает их.