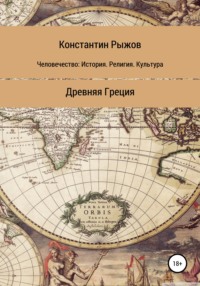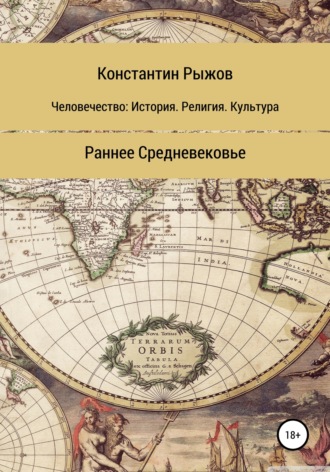
Полная версия
Человечество: история, религия, культура. Раннее Средневековье
«Монографические» трактаты Боэция по логике писались, по-видимому, на основе того же греческого материала и в связи с освоением того или иного раздела аристотелевского логического корпуса. Таковы сочинения «О категорическом силлогизме» и «Antepraedicamenta», первое из которых может служить пояснительным введением к «Первой аналитике» Аристотеля, а другое является сокращенным, схематическим вариантом начальной части первого.
В трактате «О гипотетических силлогизмах», помимо исследования модусов гипотетического умозаключения, рассматриваются логические особенности гипотетических и разделительных предложений, дается классификация консеквенций, затрагивается и тема модальных суждений. Трактат интересен тем, что является единственным специальным сочинением по теории гипотетического рассуждения, дошедшим до нас от античности. При этом Боэций воспроизводит в нем не только аристотелевские, но и стоические концепции.
Уникальным в том же роде можно считать и трактат «О логическом делении», где специальному анализу подвергается характерная для метода всех боэциевских сочинений процедура деления, которая лежит в основе всякой классификации.
Последний из вышеназванных трактатов – «О топических различиях» в трех книгах – представляет собой своеобразный классификационный компендиум «общих мест» (по-гречески «топосов», по-латыни «локусов»), сводящий воедино классификации диалектических и риторических топосов, предложенные в соответствующих работах Аристотеля, Цицерона, Фемисия и, может быть, некоторых других авторов.
Итак, вклад Боэция в «диалектику» велик и разнообразен. Собственных оригинальных идей здесь немного; величие его вклада в другом – в том, что он подвел своеобразный итог развитию античной логики и фактически заново создал эту науку для латинского мира. Ведь до Боэция из наук тривиума латиняне уже вполне освоили на своем языке и «грамматику» и «риторику». Это произошло еще во времена Цицерона и Доната. А вот с «диалектикой» у них долго не получалось; здесь они оставались (даже в технической части) только «бессловесными» учениками греков. Боэций изменил это положение: самая космополитическая из всех наук – логика стала и наукой римлян. К слову сказать, латиняне очень быстро перестали вспоминать, откуда пришла к ним эта наука и вполне оправданно связывали ее открытие более всего с именем Боэция. С его именем в средневековом латинском мире связывали и судьбу диалектики как общей теории знания, включающей вопрос о реальности того, что постигается в общих понятиях. Указанный вопрос получил в Средние века очень широкий резонанс и вошел в историю как философская проблема универсалий.
4) Проблема универсалий
Поскольку западноевропейская история проблемы универсалий начинается именно с Боэция, остановимся более подробно на том его произведении, где она получила наибольшее освещение – втором комментарии на «Isagoge» Порфирия.
Большой комментарий на «Isagoge» состоит из пяти книг. В первой книге речь идет о значении трактата Порфирия для изучения науки логики, о задачах, решаемых в этом трактате, и об особенностях избранного Порфирием подхода, в связи с чем поднимается и довольно подробно обсуждается так называемая проблема универсалий. Во второй книге Боэций комментирует изложенное в «Isagoge» понимание «рода», в третьей – «вида», в четвертой – «отличительного», «собственного» и «привходящего» признаков, в пятой книге поясняет произведенное Порфирием сопоставление понятий рода, вида и трех остальных признаков, устанавливающее сходства и различия между всеми ними.
Начинает Боэций с разъяснения того, что такое категории. Здесь вводятся латинские обозначения всех десяти категорий и, в связи с этим, устанавливается столь важная для всей средневековой философии метафизическая пара: субстанция – акциденция, так как согласно Боэцию из десяти аристотелевских категорий одна, категория сущности («усия»), означает субстанцию, а девять остальных – ее акциденции, в том смысле, что существование остальных предполагает в качестве предпосылки субстанцию, но не наоборот. Вообще же понятие акциденции толкуется здесь расширительно, без различения свойств атрибутивных, то есть необходимых, неотъемлемых, и привходящих, то есть случайных, отделимых. В последующем тексте термин акциденция употребляется Боэцием в более узком смысле для обозначения именно привходящего.
Вторая часть первой книги «Комментария» посвящена проблеме онтологического статуса общего. Как известно, в латинском языке абстрактные термины, образованные от прилагательных, выражаются множественным числом среднего рода. Боэций и называет обсуждаемое здесь «общее», «универсальное», термином «universalia», что в переводе на русский приобрело неадекватную форму существительного женского рода – «универсалия», имеющего и соответствующее множественное число: «универсалии». Но как бы там ни было, именно через Боэция и в философскую мысль, и в философский лексикон средневековья вошла та проблема, которую с тех пор называют проблемой «универсалий». Правда, поставлена она была задолго до него и сформулирована как проблема Порфирием. Тот поставил вопрос о способе бытия общего, т. е. существует ли оно субстанциально или же только мысленно, и если субстанциально, то – телесно или бестелесно, а если бестелесно, то – в отрыве или неотрывно от тел. Эта тема станет на многие столетия краеугольным камнем, а в определенном смысле и камнем преткновения, всей схоластической философии.
В ходе разъяснения проблемы Боэций вводит ряд классификационных делений и соответствующих им латинских терминов. Любой мыслительный акт духа – это либо постижение разумом существующего с последующим осмыслением его посредством рассудка, либо измышление несуществующего силой свободного воображения.
Если роды, виды принадлежат к существующему, то они либо телесны, либо бестелесны. Но если они бестелесны, то они могут существовать одним из двух способов: либо вполне независимо от тел подобно богу, уму, душе, либо в необходимой зависимости и связи с телом, подобно линии, поверхности, числу или индивидуальным качествам. В последнем случае Боэций имеет в виду то, что и линия, и поверхность, и – можно было бы добавить – точка существуют не иначе, как геометрические границы, ограничивающие в том или ином отношении трехмерное тело, без которого они существовать, конечно, не могут.
Так же и числа не могут существовать сами по себе, без счетного множества, хотя таковым не обязательно должно быть множество тел, – ведь считать можно и множество музыкальных модуляций или множество оттенков мысли.
Боэций вводит два разных термина для обозначения «бытия», или даже два разных понятия: esse – для обозначения бытия вообще и subsistere – для бытия в отвлечении от его субъекта (бытие вместе с его субъектом есть субстанция). Использует он и обобщенное причастие от глагола subsistere, то есть форму «subsistentia», от которой произошла знаменитая «субсистенция» Гильберта Порретанского, Фомы Аквинского, Дунса Скота и других схоластиков, означающая априорную бытийственную характеристику любого сущего. Обостренная формулировка проблемы универсалий у Боэция выглядит так: «Роды и виды или существуют и имеют самостоятельное бытие, или же образуются разумом и одним лишь мышлением».
Далее Боэций приступает к рассмотрению тех аргументов, которые могут быть выдвинуты против, если можно так сказать по-русски, субсистентного существования родов и видов, а затем – против их только мысленного существования.
Доказательство того, что роды и виды – не субсистенции, исходит из предпосылки, что субсистентное бытио чего бы то ни было обеспечивается его единством. Боэций почти буквально цитирует Плотина, когда заявляет: «все, что есть, именно потому есть, что едино».
Однако, если род одновременно и целиком, т. е. всеми своими родовыми признаками принадлежит всем своим видам (а это неотъемлемая черта рода), то он не может быть субсистентно единым, а поэтому не может и существовать как субсистенция. В самом деле, «человек» и «животное» – виды «живого существа», а это значит, что и в том и в другом должны присутствовать все без исключения родовые признаки живого существа, т. е. если представить род как субсистенцию, в них обоих должно как бы содержаться одновременно и целиком то же самое живое существо, что, конечно, абсурдно. Аналогичным будет и рассуждение о видах, если их рассматривать по отношению к индивидам.
Если же все-таки допустить, что роды и виды существуют как множества, т. е. что «живое существо» в «человеке» и в «животном» не одно и то же, возникнет необходимость найти род для этих «живых существ», иначе их общее наименование окажется неоправданным. Но если такой род и был бы найден, для него как рода снова возникла бы та же необходимость и это продолжалось бы без конца, так что никогда нельзя было бы установить «последнего рода» (genus ultimum), и не существовало бы никаких категорий. Изображенная здесь Боэцием ситуация напоминает известный аргумент против теории идей, содержащийся в платоновском «Пармениде» и в «Метафизике» Аристотеля, аргумент, который был назван там «третий человек». Сходство очень большое, поскольку идеи представлялись Платону как раз родами и видами («эйдосами»).
Итак, если один и тот же род множествен, то он либо вообще не может существовать, либо не может существовать как род. Значит, необходимо допустить, что род един. Но если род численно един, он не может быть общим для многих видов. Ведь нечто субсистентно единое может быть названо общим для чего-то другого, многого, только в трех случаях: 1) когда оно участвует во многом своими частями; 2) когда оно участвует во многом поочередно; 3) когда в нем участвует многое, но внешним образом, вроде того, как один спектакль является одновременно общим зрелищем для многих людей. Однако ни один из этих случаев не подходит для рода, поскольку род участвует в своих видах не разными частями в каждом, а во всех целиком; и не сначала в одном, потом в другом, а сразу во всех; и не внешним образом, а так, что вместе с видовым отличием составляет сущность каждого своего вида.
Следовательно, субсистентно род не может существовать не только как множество, ибо тогда он был бы не един, но и как единство, ибо тогда он был бы лишен своего основного признака – общности. Вывод: род вообще не может существовать как субсистенция. Аналогичное рассуждение может быть построено в отношении вида. Таким образом, Боэций отклоняет ту концепцию универсалий, которая получила впоследствии название «реализм» (от слова «res» – вещь, реальный, конкретный предмет).
Но Боэций отвергает и другую крайность: воззрение на роды, виды и т. п. как на чистые конструкции пашей мысли, не имеющие никакого аналога в объективной реальности, т. е. воззрение, которое можно было бы условно назвать крайним концептуализмом, так как универсалиям приписывается особое, только мысленное, существование. Ведь если роды, виды и т. п. суть только чистые понятия ума, не имеющего под собой никакого реального подлежащего, то такие понятия следовало бы признать ложными или пустыми, т. е. понятиями ни о чем. А если они – истинные понятия, то они должны выражать то, что существует в действительности, и, следовательно, должны существовать соответствующие им и независимые от них объекты, но это уже означало бы, что универсалии существуют реально (субсистентно). Поэтому только мысленное существование универсалий в обоих случаях исключается.
Итак, Боэций приводит нас к заключению, что универсалии не могут существовать ни субсистентно (а, значит, тем более, субстанциально, ибо чтобы быть субстанцией чего-то, надо уже быть самостоятельно, т. е. субсистентно), ни только мысленно, поскольку в последнем случае понятие общего оказывалось бы не соответствующим действительности. Какой же выход?
Боэций обращается за помощью к знаменитому комментатору Аристотеля, философу II в. Александру Афродисийскому. Тот опирался на аристотелевскую теорию обобщения путем абстрагирования. Он, в частности, заметил, что понятие, если оно даже не выражает своего предмета в точности так, как он есть на самом деле, не всегда является пустым или ложным. Например, если мы изучаем какой-либо целостный объект, то, подвергая его анализу, мы волей-неволей вынуждены поочередно рассматривать его отдельные стороны и свойства, отвлекаясь от других, хотя в действительности они существуют неотделимо от других. Значит ли это, что такого рода отвлеченное («оторванное», идеализированное) рассмотрение мыслью своего предмета, дает о нем ложное понятие? Александр отвечает: нет, ибо хотя части или стороны целого существуют сами по себе только модально (в возможности, а не в действительности), они тем не менее являются действительными (а не ложными, фантастическими) возможностями, а поэтому правильно образованное понятие о части, стороне, свойстве, качестве, границе целого не будет ложным, хотя существовать все это будет иначе, чем мыслиться. Линия не существует без тела, которому или частям которого она служит границей («кто и когда,—восклицает Боэций,—воспринимал отделенную от тела линию?! И каким чувством?»), но если мы рассмотрим ее в отвлечении от тела, саму по себе, и выведем из ее понятия соответствующую геометрию, то эта идеализированная геометрия будет истинна и для линии, существующей в теле только модально. Шарообразность (сферичность) – это свойство тел и без тел не существует, однако геометрические признаки шара, как такового, т. е. абстрактного, будут теми же, что и признаки шарообразности конкретного тела. Точнее говоря, чем больше конкретное тело отвечало бы требованиям шарообразности, тем больше оно удовлетворяло бы геометрии абстрактного, идеального шара.
Учитывая эти соображения Александра Афродисийского, Боэций предлагает далее следующее решение проблемы универсалий. Подобно тому, как точки, линии и поверхности существуют только в конкретных телах, а мыслятся отдельно от них, так и все роды, виды и т. п. существуют только в единичных субъектах (индивидах) – неважно, телесных или бестелесных, но мыслятся в отрыве от них, и при этом не мыслится ничего ложного, ибо мысля универсалии, мы только мыслим те черты разных конкретных индивидов, которые делают их при всех различиях похожими друг на друга. Черты эти не существуют, правда, в отрыве от других, делающих данные индивиды неповторимыми, но все-таки они существуют, поэтому понятия рода, вида и т. п. не являются ложными.
Итогом рассмотрения универсалий в духе той интерпретации Аристотеля, которую дал Александр Афродисийский, служат такие слова Боэция: «Итак, роды и виды существуют одним способом, а мыслятся другим; они бестелесны, но, будучи связаны с чувственными вещами, существуют в области чувственного. Мыслятся же они помимо тел, как существующие самостоятельно, а не как имеющие свое бытие в других».
5) Теологические трактаты
Боэцию приписываются пять теологических трактатов, четыре из которых большинством исследователей признаются аутентичными, авторство пятого, излагающего основы католического вероисповедания («De fide catholica»), многими оспаривается. Но как бы там ни было, этот последний трактат имеет чисто богословский характер и этим отличается от четырех других, сочетающих в себе богословское содержание с ясно выраженным философским методом.
Именно благодаря такому сочетанию эти трактаты оказали столь сильное воздействие на формирование схоластической методологии . Вот их названия: 1) «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества», сокращенно – «Книга о Троице»; 2) «Могут ли и „Отец", и „Сын" и „Святой Дух" сказываться о божестве субстанциально»; 3) «Каким образом субстанции могут быть благими в силу того, что они существуют, не будучи благами субстанциальными», в другом наименовании – «О Гебдомадах»; 4) «Книга против Евтихия и Нестория», называемая также «О лице и двух природах».
Поводом для написания всех этих трактатов послужили церковные споры, имевшие не только религиозные, но и серьезные политические основания. Непосредственным предметом спора был способ понимания богочеловеческой природы Христа («христологическая» проблема). Однако предпочтение того или иного способа понимания этой природы немедленно отражалось на трактовке божественного триединства, вопрос о котором был, казалось бы, решен вселенской церковью еще двести лет назад на Никейском соборе (325 г.), а теперь, в свете христологических дискуссий, снова встал во всей своей сложности («тринитариая» проблема).
В 519 г. в Рим явилась группа монахов из задунайской окраины Византии (их называли скифскими монахами) , чтобы найти у папы поддержку предложенной ими теологической формулы: «Unus de Trinitate passus est сагпе» – «Один из Троицы пострадал телесно», в которой, по их мнению, с наибольшей ясностью фиксировались и божественная сущность Христа и факт его крестной смерти, что открывало возможность совместить Никейскую тринитариую ортодоксию с христологией Эфеса и Халкидона без отталкивания монофизитов. Проблема совмещения в личности Христа человеческой смертности и божественного бессмертия получила название проблемы «теопасхизма».
Своими теологическими трактатами Боэций принял участие в обсуждении всех трех указанных проблем: тринитариой, христологической и теоиасхической. Не считая себя, по-видимому, богословом в собственном смысле, Боэций ограничивается рассмотрением указанных проблем в одном только аспекте – в аспекте философского, логико-рационального обоснования того, что уже ранее через религиозную веру усвоено как не подлежащая сомнению, абсолютная истина.
6) О Троице
В первой главе боэциевского трактата «О Троице» содержится логическое описание догмата о божественном триединстве, принимаемого философом без доказательства, на основании фактической (исторической) оправданности католической веры. «Троица» описывается как конъюнкция трех терминов, эквивалентных по признаку «божественности». Поскольку же этот признак для Троицы субстанциален, то и сама Троица и все три ее ипостаси представляются субстанциально тождественными и суть, следовательно, один и тот же Бог.
Рассуждая о логических признаках единства и множества, Боэций устанавливает в качестве критерия множественности «инаковость», а в качестве критерия единства (тождества) – неразличимость. Смысл его в том, что если у двух (или большего числа) предполагаемых вещей нет никаких взаимных отличий, то речь идет не о многих, а об одной и той же вещи, по-разному называемой. Применяя сознательно этот принцип, Боэций показывает, что, поскольку в католической трактовке Троицы понятие Бога в приложении к каждой из трех ипостасей ничем не отличается, постольку речь должна идти не о трех богах, а о том же самом едином Боге.
В духе платоновско-аристотелевской традиции Боэций трактует материю как источник множественности и сложности, а форму как источник единства и простоты, чтобы, соединив это с учением о форме как чистом бытии и источнике бытия, сформулировать понятие о Боге как субстанции: «Божественная субстанция есть форма без материи, а тем самым она едина и есть то, что она есть». Совпадение в простоте божественной субстанции самого бытия и того, что обладает этим бытием, является важнейшим тезисом не только этого, но и двух последующих теологических трактатов Боэция. Этот тезис станет основополагающим и для будущей схоластики. Он, как и учение о совпадении в Боге всех его атрибутов, проистекает из требований последовательного монотеизма. Ведь если Бог мыслится как абсолютное единое начало всего, то он не может «состоять из чего-то», не может быть множественным, а, следовательно, не может быть сложным, материальным (ибо все материальное множественно), материально-формальным, вообще таким, в котором бы одно отличалось от другого, например, бытие от качества, качество от другого качества и т. п. Все же остальные вещи, происходящие от Бога, этого свойства лишены, ибо лишены абсолютного единства, так что они по необходимости состоят из материи и формы и в них бытие не совпадает с тем, что им обладает, т. е. одно в них обладает большим бытием, другое – меньшим, но ничто не обладает бытием полным.
В четвертой главе Боэций предпринимает исследование применимости к Богу вообще всех возможных «имен», или категорий. Оказывается, что категория субстанции не применима к Богу в том смысле, в каком она употребляется для обозначения носителя свойств и акциденций, ибо привходящих свойств (акциденций) Бог не имеет, а атрибутивные – совпадают друг с другом и самой сущностью (субстанцией) Бога. Поэтому слово «субстанция» может быть высказано о Боге только в переносном значении самодостаточного, единого и безотносительного бытия, в значении «сверхсубстанции».
К Богу не приложимы в обычном смысле ни категория качества, ни категория количества, ибо, в силу Его абсолютной простоты, для Него «быть» и «быть справедливым» или «быть великим»– одно и то же: можно сказать, что «справедливость» это не одно из качеств Бога, а сам Бог в Его субстанции, и то же самое правомерно сказать о Его «количестве», имея в виду, конечно, не пространственную величину и не какое-либо составляющее Его субстанцию множество (это для Бога невозможно), а масштаб Его могущества, знания и благости: «величие» – это не отдельное свойство Бога, как это было бы в случае с человеком; «величие» – это весь Бог.
Что же касается остальных семи категорий, входящих в классификацию Аристотеля, все они, согласно Боэцию, вообще не высказываются о самой по себе субстанции, но только о ее соотнесенности с другими. Однако, когда речь идет о Боге, то такие категории как «место», «время» и т. п., даже будучи только относительными, а не субстанциальными, все-таки не могут быть применимы к Богу в обычном смысле. «Бог повсюду» не значит, как это было бы у других вещей, что Бог помещается в каких-то пространственных местах, но значит только то, что все без исключения сущее зависит от него. Аналогично с категорией «время». То, что Бог существует «всегда», не означает ничего другого, кроме того, что Бог контролирует весь мир в любой момент мирового времени; но сам Он времени не причастен, ибо пребывает в вечном «настоящем», которое в отличие от временного настоящего никогда не переходит в прошлое и будущее. Эта божественная вечность, совпадающая с неизменностью, не выразима в категориях времени, так как даже бесконечное время, или, как называет его Боэций, «непрестанность», несоизмеримо с вечностью по причине текучести, изменяемости его моментов.
Две заключительные главы трактата посвящены вопросу о выразимости в относительных предикатах рационального языка триединой сущности Бога. Главная идея Боэция в этой части состоит в том, что, поскольку выявление отношений между терминами ничего не меняет в собственной природе или сущности соответствующих субъектов, то единству божественной субстанции не может противоречить тройственное множество ипостасей, лиц, если они рассматриваются как относительно различные выражения того же самого Бога. Отношение, говорит Боэций, не создает «инаковости» в вещах, оно создает только различие «лиц», т. е. как бы «обликов», ракурсов предмета. Поэтому, хотя «лица» Троицы различны, отношение между ними есть отношение того же самого к тому же самому, так как они неразличимы в своей субстанции, в своих действиях и т. п., а следовательно, суть одно и то же. Вопрос о том, каким образом в едином Боге, где все субстанциально и ничто не акцидентально, совмещаются нетождественные «лица», для одного из которых быть Отцом, а для другого быть Сыном – субстанциальные свойства, вопрос этот Боэций не берется решать, осознавая, по-видимому, его неподъемность для рассудка. Ведь он признает, что взялся толковать то, «что едва поддается пониманию», и предупреждает, чтобы никто не пытался представить себе все сказанное с помощью воображения, а продвигался исключительно с помощью разума, покуда это возможно. На самом же деле Боэций, задавая тон будущей схоластике, использует в своем трактате не столько философский разум, сколько формально-логический рассудок. И в этом его трактат сильно отличается от одноименного трактата Августина, где та же проблема толкуется не в рассудочной, а скорее в разумно-диалектической форме, когда божественное триединство понимается именно как непостижимое для рассудка диалектическое тождество одного и трех.
Опыт формальной интерпретации тринитариой проблемы, проведенный Боэцием, вряд ли можно признать теологически удачным. Но в трактате затрагивалось немало и философских, метафизических и логических проблем, а самое главное – в нем был четко сформулирован имевший большое будущее метод: метод философствования на теологической теме, т. е. метод схоластики в средневековом смысле слова.
Трактат «Могут ли и „Отец", и „Сын" и „Святой Дух" сказываться о божестве субстанциально» решает задачу, обратную той, которая решалась в книге о Троице: в нем доказывается, что наименования «Отца», «Сына» и «Святого Духа» не относятся к субстанции Бога и не могут поэтому сказываться о Боге субстанциально. Иными словами, Боэций старается здесь доказать, что выражения «Бог есть Отец», «Бог есть Сын», и «Бог есть Святой Дух», взятые в отдельности, некорректны, если в подлежащем «Бог» подразумевается божественная субстанция, так как каждое из этих трех сказуемых (предикатов) таково, что оно не тождественно с двумя другими, в то время как субстанция Отца, Сына и Святого Духа одна и та же. В противном случае пришлось бы допустить, что «Отец» есть «Сын», а это невозможно.