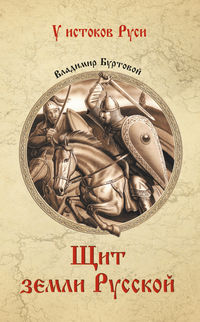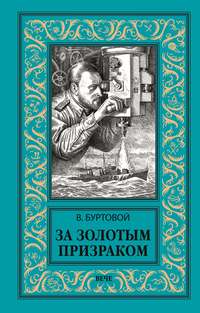Полная версия
Когда куковала кукушка
«Ну конечно, – думал я, стараясь осилить подступающую к голове дремоту, – начало это про Щукиных и других бедных в селе. У Щукиных в землянке только самодельный стол и две скамьи у стенок, даже занавесок нет на окнах, как у нас. А Игнатка всегда голодный. Когда Анфиса Кузьминична начинает нас, работных, кормить, так он глотает в три горла, боится, что не успеет. Да за хозяйской миской долго не засидишься, Спиридон Митрофанович тут же кричит на нас: „Хватит жрать, дармоеды! Живо навоз чистить! Скотина с утра не прибрана“! А уж про одежду и говорить нечего. Ну вот, теперь Анатолий Степанович читает про то, как мужики старую княгиню пограбили, – удивился я. – Ну прямо слово в слово! И скот угнали и зерно развезли и попрятали, а вещи расхватали. Конечно, дом и амбары спалили. А вот тебе и казаки с саблями да с нагайками. Нет, в нас они ещё не стреляли, их в имении не было. А может, вскоре и налетят на село, посекут кого-то».
Уже засыпая, услышал голос отца:
– Ну, мужики, давайте расходиться. Вторые петухи скоро запоют.
Утром Николай проводил меня до подворья Епифанова и в десяти саженях от ворот тихо сказал:
– Дай мне ассигнацию, я схороню её надёжно, чтобы отец не сыскал. Отдавать Епифанову никак нельзя, поймёт, что ты всё рассказал ему о грабеже и убийстве управляющего, тогда всем нам долго по селу не бегать, порежут или ночью подопрут двери и пожгут дом вместе с нами. Я приберегу деньги для Самары, когда отец отправит меня учиться на агронома. А ты делай вид, что деньги отдал, и сам о том не заикайся первым.
Николай взял ассигнацию и поспешно пошёл прочь от чужого подворья. Навстречу ему по улице бежал Фёдор, раскрасневшийся, со слезящимися глазами, отпихнул меня от калитки и, задыхаясь, прокричал отцу:
– Едут, батя! Казаки… с полсотни, не меньше. Уже у поворота дороги. У крайних осокорей мы их приметили.
Епифанов перекрестился несколько раз, потом сунул Фёдору какой-то свёрток, который держал в руке и приказал:
– Спрячь в нужник, под доски. Найдут – каторга нам! Кто знает, может, у княгини все номера ассигнаций были записаны в казённой палате. Живо, чёрт тебя возьми, что столбом встал! Сейчас по дворам разъедутся с обысками!
Фёдор метнулся в нужник за амбаром, захлопнул за собой дверь из серых досок и не появлялся несколько минут. Казаки, отставая по двое около домов, проехали по улице затаившегося села. Во двор Епифановых въехали двое, сердитые, будто не выспавшиеся после разгульной ночи, очень похожие друг на друга, пожилые. Может, и не так уж старые, но с широкими бородами и вислыми усами. Слезли с коней разом, уверенно пошли к крыльцу.
– Всем в дом! – распорядился тот, что повыше ростом. – Сидеть смирно, пока мы будем проводить обыск.
– Дозвольте мне сопровождать вас, господин хорунжий, – поспешил навстречу казакам Спиридон Митрофанович, улыбаясь и разводя руками, словно собирался обнять разом нежданных и опасных гостей, но в ответ услышал неожиданно:
– Я тебе дозволю! Я тебе дозволю, мужицкая морда, грабители и убийцы! Сидеть всем по лавкам и ни с места!
Епифанов будто в бороду уронил приветливую улыбку, тут же повернул голову в мою сторону, словно его испугала мысль, не по моему ли доносу обозвали его убийцей, но я спокойно пожал плечами. Хозяин взял меня крепко за руку и вместе с сыновьями мы торопливо вошли в просторную горницу, сели на лавку около окна на подворье. Один из казаков прошёл по двору, распугивая снующих кур в разные стороны, открыл просторные двери в конюшню, внимательно осмотрел клеймо на каждой из десяти лошадей, заглядывал в бочку с овсом, даже шашкой потыкал зерно до самого дна, затем шашкой проверил, нет ли чего твёрдого в куче сена в углу, раскидал солому в телегах, которые стояли, закинув оглобли вверх, и перешёл в овчарню. Старший, который кричал на хозяина, долго топтался в сенцах, гремел пустыми вёдрами в тёмном чулане, скоро под его ногами заскрипела лестница на чердак, послышались приглушённые потолком шаги.
– Анфиса, – прошептал Спиридон Митрофанович, – накрой стол и поставь четверть водки. – Указал рукой на стол, только что убранный после завтрака домочадцев.
– Мигом сделаю, батюшка. – Анфиса Кузьминична легко подхватилась с лавки, ступая совсем неслышно, будто кошка на сносях, прошуршала юбками до буфета под стеклом. Вынула непочатый ещё графин с водкой, на блюде нарезанные колечки колбасы, толстое домашнее сало и каравай хлеба, разрезанный на четыре части. Всё это поставила на белую скатерть, рядом с графином звякнули осторожно два стакана, хозяйка наполнила их до краёв. И только успела сесть рядом с мужем, как вошли казаки, злые. С насупленными бровями: сейчас начнут обыск в горнице, перевернут сундуки и постель на кроватях, а то и подушки вспорют шашками. Перекрестились на иконы в переднем углу. Спиридон Митрофанович опять поспешил навстречу казакам.
– Извольте, ваше высокоблагородие, откушать, с дороги оно весьма полезно. Не гнушайтесь нашим столом. И насчёт чистоты не извольте беспокоиться, чистота особенная в нашем доме, не голытьба мы, в достатке живём, сами изволите видеть, без чужого скарба обходимся, своим счастливы ради души спокойствия. Прошу пригубить по глоточку, пыль дорожную, так сказать, ополоснуть.
Казаки простучали навозом испачканными сапогами по половым доскам, старший поднял стакан против окна, поднёс к носу, понюхал, шевеля усами.
– Как детская слеза, ваше высокоблагородие, смирновская, покупал в Самаре. Употребите во здравие, – приговаривал Епифанов. – И сыр с колбаской свежие, вот извольте.
– Ну ежели так, то с Богом, во здравие хозяйки и хозяина, – ответил старший, выпил, потрогал пальцами чёрные усы, положил на ломтик белого хлеба кусочки колбасы и сыра, откусил. Второй казак проделал то же самое, причмокнул и принялся закусывать.
Спиридон Митрофанович повторно наполнил стаканы. Приветливым жестом пригласил гостей к угощению.
– Крепкое у тебя хозяйство, мужик, – похвалил старший, когда, так и не осмотрев комнаты, казаки нетвёрдыми шагами направились к своим коням у ворот. – Приятно в такой дом гостем заехать.
– Заезжайте, непременно заезжайте, когда служба занесёт вас в наши края! – вышагивал рядом, уже не горбясь и не суетясь, Епифанов. – Будьте ласковы, встречу как лучших гостей, хлебом-солью. А в убийствах мы непричастны, нам ли от достатка рваться на каторгу? То голыдьба безштанная, она на всё способна. Пошарьте у них, непременно что-нибудь из барской усадьбы отыщется.
Хлопнули ворота, простучали копыта коней в сторону соседнего двора, и тут же Спиридон Митрофанович, будто только проснулся, закричал:
– Игнатка, Никодим, живо за работу! Хватит рассиживаться! Игнатка, очисти после ночи свинарник и свиней выгони в поле пастись. Никодим, запряги Орлика в тарантас, со мной поедешь.
Игнатка тоскливыми глазами глянул в мою сторону, молча взял из кучи инструмента в углу двора четырёхзубые вилы и потопал на заднюю часть двора, где в загоне обитали четыре свиноматки. Раньше мы вместе чистили свинарник, а теперь Игнатку послали одного, вот ему и обидно стало.
В полдень, карауля коня возле деревянной лавки Жугли, я услышал чей-то протяжный женский вопль, как по покойнику, обернулся и увидел – от волостной избы в окружении казаков отошла толпа наших односельчан. За казаками бежали женщины, ребятишки, поднялся крик, но лица казаков словно из твёрдого воска. Только глаза смотрели зло и в руках длинные ремённые плети. Знакомый уже хорунжий изредка кричал в сторону толпы:
– Не суетись, не суетись под копытами, стопчу! – Или другое: – Не велено подходить к арестантам. Сказано вам – не подходить! Прочь с дороги! – И тогда несколько казаков начинали поднимать плети, грозя стегануть по головам. Женщины шарахались назад, ребятишки с визгом отскакивали на обочину дороги, спасаясь от ударов. Я торопливо стал разглядывать лица знакомых мне сельчан в этой толпе и скоро почти успокоился – отца среди них не было. Да и за что его арестовывать, он не был в имении, когда там шёл погром. И тут толпа ахнула – мой дружок Игнатка, будто пуганый воробей из-под горящей стрехи дома, выскочил из плотной толпы, нырнул перед конской мордой и вцепился в руку отца. Надрываясь в крике, он пытался остановить его и воротить домой. Щукин шёл крайним, избитый уже плетью и с кровоточащей раной на лбу. Рослый казак перегнулся в седле, ухватил худенького Игнатку за плечо и отбросил в придорожную пыль. Конь под казаком шарахнулся и, чтобы не наступить на упавшего, отпрянул к арестантам. Другой казак плетью ударил лежащего Игнатку по спине, и тот с рёвом пополз прочь от дороги, к истоптанной и пыльной лебеде.
– Кровопийцы! – закричала чья-то женщина из толпы. – Душегубы, будьте вы прокляты!
Вслед за словами в казаков полетели комья сухой земли, кизяки. И я зашарил в траве руками, отыскивая, чем бы запустить в обидчиков моего товарища, когда те окажутся поближе, но казаки стали конями наезжать на арестантов, заставляя их идти быстрее, а задние молча сняли с плеч карабины и пригрозили открыть стрельбу, если кто и дальше будет преследовать конвой.
Вскоре арестованные скрылись за поворотом дороги, а я так и не знал, радоваться мне, что отца не арестовали, или вместе с Игнаткой реветь и проклинать казаков. Епифанов давно уже вышел из лавки вместе с Жуглей. Оба изрядно выпившие, смотрели вслед конвою и ухмылялись.
– Вот какова она, жизнь, Никодим, – сказал мне Спиридон Митрофанович, заваливаясь в тарантас грузным телом. – Кто умно живёт, тому слава и почёт, а кто с худым умишком берётся за делишки, тому казённый сухарь да пыльный этап. Вот так-то, хлопчик, познавай жизнь со всех сторон, да свою дорожку намечай, не то сгинешь на каторге.
Когда въехали на подворье, Епифанов распорядился:
– Распряги коня, задай лошадям овса да ступай домой. Какой уж тут сегодня к вечеру табун гонять, все перетряслись от страхов!
Я напоил коней, засыпал по малой доле овса и забежал к Игнатке на сеновал за амбарами, но его там не оказалось. Я решил малость подождать товарища и поделиться с ним мятными леденцами, которым и меня угостил в лавке хозяин.
В сенцах громыхнуло опрокинувшееся ведро, послышался ворчливый голос Спиридона Митрофановича:
– Анфиса! Опять твоя Степанида не прибрала на место подойник! Высеку когда-нибудь ленивую бабу, будет знать место каждой вещи в доме!
Анфиса Кузьминична что-то ответила, я не расслышал, потом снова раздался голос хозяина:
– Ты, хозяюшка, Никодима привечай да подкармливай, великое дело он сегодня сотворил для нас своим молчанием, не крикнул «государева слова», не миновать бы мне виселицы или в лучшем случае… – Он не закончил мысли, перескочил на другое: – Заметила, в какую силу парнишка входит? Из него добрый работник будет, если учитель мозги не испортит. И ты, Клим, подружись с Никодимом, не дразни его больше «каланчой», постарайся сделать его своим напарником. Ты, мать, не скупись, когда будешь его кормить, мужик растёт, ему питание надо справное.
– Хорошо, батюшка, сделаю по твоему совету.
– Да не сегодня же! Потом, когда придёт пора брать ежа голыми руками, – недовольным голосом прервал Спиридон Митрофанович жену, протопал тяжёлыми сапогами по крыльцу, и всё стихло.
Я осторожно слез с сеновала, размышляя, как это хозяин хочет поймать голыми руками какого-то ежа?
Кончилось первое лето моей работы у Епифановых, а накануне Рождества Христова, после сильной пурги, я повёз в санях хозяина в Исаклы по каким-то его делам с закупкой овса для лошадей. По дороге, верстах в двадцати от деревни Подлески, навстречу нам попался Анатолий Степанович в санях, в тёплом тулупе, на заиндевелой лошади. И у самого воротник тулупа вокруг лица в белой опушке. Приостановили сани, перекинулись парой слов о дороге впереди, можно ли проехать?
– Удивляюсь я твоему отцу, Никодим, – лёжа в ворохе сена и кутаясь в длинный тулуп, заговорил за спиной Епифанов. – Умный ведь мужик, а связался со всякими смутьянами, будто можно обух плетью перешибить. Нет, брат, шалишь. Силён тот, у кого власть и у кого деньги. К тем поближе и надо искать дорогу. Не зря люди говорят: с сильным не борись, с богатым не судись.
Я молчал, не смея возразить хозяину. В последние дни он всё чаще стал заговаривать со мной об отце, расспрашивал про учителя, часто ли он навещает нас вместе с кузнецом.
– Хоть бы раз послушать, как учитель читает умные книжки, – вздохнул Спиридон Митрофанович. – Может, и вправду от тех книжек просветление в голове начинается, как ты думаешь? – вздохнул Спиридон Митрофанович. Он завозился в сене, должно быть, поворачивался на другой бок.
Я хотел было сказать ему: «А вы сами попросите учителя дать вам те умные книжки», но вовремя сдержался, прикусил язык, вспомнил строгий наказ отца – никому ни полслова о том, что делается в нашем доме и кто у нас бывает. Сдержал дрожь в голосе, ответил, не оборачиваясь, посматривая вперёд на дорогу:
– Кабы они и вправду умные книжки читали, а то соберутся за столом, бутылку водки поставят возле чугуна с картошкой, пьют и песни горланят, спать нам с Николкой не дают. Да отец ещё грозит побить, когда мы на печке завозимся.
– О чём песни-то? – снова оживился Епифанов. – Всё про царя, наверно?
– Про царя песен нет, не знаю я таких. Они про ямщика поют, который застыл в степи, про то, как казак скакал через долину домой, ещё про золотые горы где-то далеко отсюда, – сочинял я, вспоминая слова из песен, которые и в самом деле любил петь отец под гармошку. Обнимутся с Мигачёвым – кузнец головой отцу до плеча только – раскачиваются и тоскливо поют, особенно про бродягу, который бежал с какого-то Сахалина.
Епифанов надолго замолчал. Молчал и я, изредка понукая коня, когда тот, вытянув сани на подъём горки, норовил и под уклон идти ленивым шагом, подбрасывая копытами спрессованные лепёшки белого снега. Из Исаклов – благо что погода установилась тихая, с морозцем и солнышком – мы вернулись на второй день. Не доезжая своего подворья, Епифанов велел мне свернуть за церковь ко двору попа Афанасия.
– Надо гостинец батюшке передать, – пояснил Епифанов. – А ты посиди тут, я скоро ворочусь.
Но едва он ушел, как мне страсть захотелось пить.
– Испрошу у матушки попадьи кружку воды, – решил я, обстучал о крыльцо снег с валенок, вошёл в коридор большого поповского дома. И замер. Через приоткрытую дверь из передней комнаты доносился взволнованный, срывающийся на крик голос Епифанова:
– Гнать надо этого антихриста из села! Гнать туда, откуда его к нам выселили! Пусть там сидит и не мутит наш народ! Святому слову быстрее власти поверят, надобно сказать про тот спор, что случился в день читки манифеста, так сразу ясно станет, что за нечистая сила этот смутьян! И всё семя антихристово гнать надобно, под корень выкорчёвывать смуту, чтобы не портили нам мужиков!
Наверно, Епифанов услышал, как скрипнула за мной наружная дверь, голос его пресёкся, показалась всклокоченная седая борода попа Афанасия.
– Чего тебе, чадо? – спросил он приветливым басовитым голосом, а глаза, глубоко вдавленные по обе стороны носа, глянули на меня настороженно, словно я воровать к нему забрался.
– Попить бы, батюшка Афанасий. Весь день в дороге, нутро пересохло, – попросил я и в пояс поклонился.
Поп Афанасий, высокий и уже заметно сутулый, поспешно прошёл на кухню, деревянным ковшом зачерпнул воду из ведра, и я с наслаждение напился.
– Спаси вас Бог, батюшка Афанасий, – снова поклонился я попу, потом чмокнул протянутую морщинистую руку, которую поп высунул из длинного просторного рукава чёрной рясы. Рука у него была худая, в рыжих густых волосах.
– О чём ты сейчас слышал разговор, чадо? – ласково спросил он, подняв мою голову пальцами за подбородок.
– Об антихристе, батюшка Афанасий, – бодро ответил я, про себя подумав, что это он выпытывает, как будто сам не знает, о чём сейчас говорил с моим хозяином.
– А кто он, антихрист этот, ведаешь ли?
– Конечно, батюшка Афанасий. Антихрист – стало быть, нечистая сила, – ответил я и плечами пожал: охота ему всякую чушь выспрашивать.
– Вот-вот. – Глаза у попа потеплели. – Намедни стали бабы поговаривать, что нечистая сила в скот вселяется, молоко у коров портит, ночью коням гривы заплетает, а хвосты гребешком чешет, – зачем-то растолковывал мне всё это поп, не выпуская моего подбородка и заглядывая в глаза. – Вот и надобно просить разрешения властей на крестный ход по селу, выгнать эту нечистую силу прочь, откуда она пришла к нам, сиречь в преисподнюю. Уразумел ли, чадо?
Конечно, уразумел. Разговоров о нечистой силе среди женщин было хоть отбавляй. И где мне в десять лет было разобраться, что речь у попа с Епифановым шла совсем не о том «антихристе», который по ночам чешет кобылам гривы…
Жандармы ввалились к нам той же ночью, ближе к рассвету, заполнили комнату, принесли с собой ночной страх перед неизвестностью и белый снег на промёрзших сапогах. Я спал в углу на печке и сначала со сна не понял, что происходит в доме, скоро различил голос отца, Николая, тихий плач мамы, соскочил на пол босиком. Понял – это пришли «чёрные гости», о которых недавно говорил Спиридон Митрофанович. Пришли-таки, и я смутно догадывался, с чем это могло быть как-то связано: с учителем и кузнецом.
– Дверь хоть в сенцы закройте, – попросила мама, укутывая сестрёнку в кроватке. – Детей перестудите!
На голом, выскобленном до желтизны столе лежала чужая с кокардой папаха, за столом сидел становой пристав Глушков, широколицый, обрусевший калмык. При свете лампы я узнал его сразу. Мне и прежде приходилось видеть пристава, когда тот наезжал по праздникам к Епифановым, любил чужое застолье, когда напивался, пьяно щурил продолговатые глаза и лез к Анфисе Кузьминичне целоваться, выпячивая из-под широких усов мокрые губы. Сам я этого не видел, Клим рассказывал.
Мы с Николаем стояли у теплой побелённой перед праздником печи, поднимая от холода то одну, то другую ногу для согрева: дверь в сенцы жандармы так и не закрыли. Они сновали по дому туда-сюда то с пустыми руками, то что-то приносили приставу для показа. Тот мельком смотрел и отмахивался рукой – не то, дескать.
– Нашёл! – раздался с чердака через лаз громкий крик, оттуда в белой пыли и паутине спустился молодой сияющий жандарм со связкой тонких книг, журналов и листовок.
– Рад? – вдруг выкрикнул Николай и шагнул навстречу жандарму, словно хотел вырвать находку из вражеских рук и убежать в лес. Но отец вскинул руку, Николай остановился. – Зря не подпилил лестницу загодя, чтоб башку себе сломал, служака!
– Ужо и тебе башку скоро сломаем, бунтовское отродие, твой час не за горами, вывернем тебя наизнанку, не прыгай! – огрызнулся жандарм и положил перед приставом находку.
– Бойкая лиса перед зайцем, пока не видит охотника за деревом с ружьём! – огрызнулся Николай, махнул рукой и умолк.
– Так-так, – порадовался пристав. – Вот и находка так вовремя подоспела! – Пристав ласково похлопал рукой по книгам, посмотрел на отца, который уже одетый в пиджак и валенки стоял у двери, прислонившись плечом к косяку. Когда жандарм внёс книги и листовки, отец слегка побледнел и посмотрел на маму, которая глядела на него с немым ужасом, понимая, что суда теперь не миновать.
– Вот они, запрещённые книжечки, – радуясь находке, сказал пристав, взял из стопки листовок одну из них. – Вот они, запрещённые издания, – повторил пристав, а Николай в тон ему нараспев добавил:
– Вот они, дарованные народу свобода собраний и митингов, свобода читать молитвы по убиенным рабочим в столице.
– Николай, – тихо с укоризной попросил отец сына не дразнить излишне жандармов. Брат умолк. Глушков зло посмотрел на Николая, небрежно бросил листовку на стол со словами:
– Дай вам настоящую свободу, вы наворотите таких дел, что хоть святых выноси с Руси. – Повернулся к жандармам, надевая перчатки. – Выводите арестанта на улицу, хватит сидеть.
Тогда мне впервые стало страшно за отца. Я слышал в церкви, как поп Афанасий, сотрясаясь от злости и вскидывая длинные руки над головой, проклинал «арестантов», кричал на прихожан, которые стояли внизу, что ад и страшные муки ждут тех, кто против царя и властей бунтует, а летом следующего года, когда вновь вокруг начались мужицкие бунты, самовольные покосы, поджоги имений, у попа Афанасия сгорел хлебный амбар. В тот же день Николай торопливо засобирался в Самару. Когда прощались у крыльца дома, он сказал мне:
– Поклон попу Афанасию я передал от бати, будет помнить отца нашего и Анатолия Степановича и дядю Кузьму. Гришка Наумов видел, как поп своего работника посылал верхом на лошади к становому, а потом тот работный воротился в село с жандармами, которые и нагрянули к нам с обыском. Братишка, держи ухо востро, народные бунты только начинаются по всей стране. Мне скоро в армию служить, с оружием там много мужиков соберётся, и мы ещё покажем всяким приставам, где раки зимуют.
Мы обнялись, и я смотрел вслед брату, который уходил с котомкой за плечами по дороге вниз к реке Сок, которая спокойно несла свои воды в недалёкую от нас Волгу.
Каторжанская пара
Прошло два с половиной года. В одно из воскресений, загнав табун на подворье Епифановых, я прибежал домой, мама только что испекла хлеб. Я это учуял ещё в тёмных пропахший мятой сенцах. Она вынимала горячие караваи, раскладывала на столе и тут же быстро смачивала корочки водой и укрывала полотенцами.
– Мама, это чей хлеб? Анфисы Кузьминичны? – спросил я с порога: иногда хозяйка просила маму испечь хлеб для работников, летом их набиралось до десяти человек, особенно в сенокос. Мама повернулась ко мне, и я увидел её счастливые глаза, что у неё нечасто бывали в эти годы разлуки с нашим отцом и Николаем.
– Нет, сыночек, это твой хлеб, твой, кормилец ты наш! – сказала и обняла меня влажными, хлебом пахнущими руками.
– Почему это – мой? – не понял я, отстранил её от себя и посмотрел в зелёные, влажные от набегающих слёз глаза.
– Сегодня поутру Анфиса Кузьминична прислала хромого Прохора, который у неё на кухне в поварах служит. Он-то и привёз куль очень хорошей муки-белотурки. Сказал, что это от хозяина, за выхоженного тобой жеребёнка. А когда я пошла к хозяйке поклониться, да заодно вернуть готовую пряжу, что давала мне на неделе, Анфиса Кузьминична и говорит, что Клима постоянно обижают сельские мальчишки, так пусть, дескать, мой Никодим вступается за него.
Я с удивлением выслушал маму, засмеялся и пояснил:
– Да Клим сам любит атаманиться и забиячить, силёнок мало, а других первым задирает на драку, а потом папашей стращает. Он да Мишка Шестипалый первые задиры на селе. Но ежели ты просишь, буду за Климку вступаться в драках, но угодничать ему я не стану, как Игнатка Щукин, тот ему даже сапоги солидолом натирает.
– Ладно, сынок, поступай как знаешь, – согласилась мама и добавила почти шёпотом: – Приходится поклоняться чужому порогу, нужда понукает. Николая в армию забрали, где он, что с ним. Как в воду канул. Был бы сейчас отец с нами, тогда… – Она не договорила, опустила голову, и я приметил на висках у неё первую седину. Из правого глаза выкатилась слеза, сбежала к губе и упёрлась в родинку.
– Не плачьте, мама, – успокаивал я её как мог. – Папа непременно скоро вернётся. Он к лесу привычен, охотник знатный, не заблудится в тайге. Да и не один он там.
– Уж больно срок немалый присудили, пять лет работ в ссылке. Ладно, что хоть учитель рядом с ним, всё свой человек, в беде подмогнёт. А Кузьма Мигачёв сегодня мне всю посуду дырявую запаял, – оживилась немного мама. – Чинит, а сам убивается, Вот, говорит, их в Сибирь отослали, а меня через два месяца освободили, дома староста за мной доглядывает. Один я остался, без друзей. Тимофей Барышев совсем слёг, не встаёт уже, должно, помрёт скоро.
Мама помолчала немного, погладила меня по голове, как маленького, и снова попросила:
– А ты уж вступайся за Клима, бог с ним. Отец вернётся, своей силой жить станем. А пока пусть уж так будет, как хозяйка просит, она не обижает нас и денежками за пряжу платит, и вот, муки прислала, надолго хватит.
Так и повелось той поры, что мы с Климом стали бывать везде вместе, словно невидимой нитью связанные. И не один раз, как подрастать стали, слышал, на вечерних посиделках ворчали за спиной парни:
– Эх… Вздуть бы Климку, чтоб не заедался, да чтоб чужих девок походя не лапал!
– Попробуй вздуй, когда Никодим вечно рядом торчит, будто часовой у сторожевой будки! У этой каланчи кулаки будто свинцом налиты, одним махом в кизяки придорожные угодишь!
На вечеринках Клим всячески оказывал мне внимание, как равному, сажал рядом, угощал конфетами, которые я незаметно прятал в карманы для маленькой сестрёнки. Не отставал от нас и Игнат Щукин. Как угнали его отца в ссылку за погром в имении, так с той поры ни одной весточки не пришло, а некоторые шептали, будто бумага пришла начальству, в которой писано, что помер Лука Щукин на этапе, не дошёл до места ссылки. После таких разговоров Игнат вовсе сник, угождал Климу во всём, бегал с его денежками за водкой, носил тайком из погреба квас и мочёные яблоки или смородиновую наливку. Клим явно помыкал над Игнатом, с его злого языка стали парня «Суетой» называть, а у него сил было мало за себя постоять: ростом он ну никак не прибавлял, и проку от него Климу в уличных драках не было никакого. Его даже и бить никто не решался: ударь такого, а он возьми да испусти дух, а тебя загонят на каторгу! Женился Игнат рано, в семнадцать лет. Помню, в первый раз, когда мимо наших посиделок прошёл Игнат с тихой, но красивой бедной Клавой, Мишка Шестипалый вдруг дико заржал и закричал вслед: