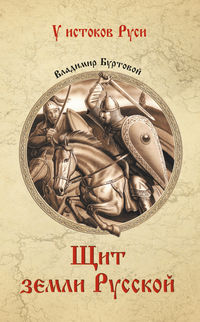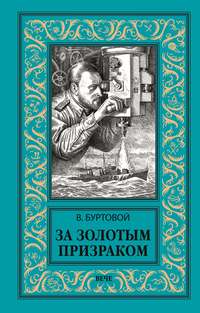Полная версия
Когда куковала кукушка
– И тебе, Никодим, доброго вечера. Марийка, вижу, приохочивает тебя к книжкам. Надо, соколик, надо с книжками дружить, от них у людей светлеет в голове, поверь моему слову. – А потом бесшумно, боясь помешать нам рассматривать другие книги, занялась процеживанием молока по кувшинам, время от времени украдкой поглядывая в нашу сторону.
«Наверно, Марийка сказала ей, что мы дружим, потому и привечает так приветливо», – подумал я, внезапно кровь прилила к голове, и я заторопился домой. Когда прощались на крыльце, Марийка снова пригласила меня:
– С сегодняшнего дня, Никодим, давай договоримся, как будет свободное время по вечерам, приходи к нам, будем учиться грамоте, читать и писать. Без этого по жизни трудно будет и далее идти. Отец твой порадуется этому, когда воротится домой.
– Ладно, обязательно приду, – с радостью согласился я с необъяснимым волнением в груди, словно мне удалось узнать что-то большое, хорошее, очень нужное не только мне. И только спустя много лет я осознал, что это было проснувшееся чувство страсти к печатному слову, к книгам. Это чувство завладело мною полностью, до фанатизма, который я и ощущаю вот в эту счастливую пору. Только беды по-прежнему не оставляли нашу семью в покое. Примерно через месяц, так же ночью, как и при аресте отца, к нам нагрянул постаревший, всё такой же толстый пристав Глушков. Стражники перевернули нехитрый скарб в комнате, а пристав всё добивался от меня, топал ногами:
– Скажешь или нет, куда спрятал запрещённую литературу? Её тебе привозил брат. Найду – упеку на каторгу!
«Значит, Николай ещё куда-то ездил, а они думают, что домой заезжал и снова оставил здесь книжки», – догадался я, даже обрадовался, что пусть ищут здесь, а в другом месте всё будет в сохранности. А когда мне надоело повторять, что брат ничего запрещённого не привозил, пристав разъярился, глаза даже выпучил от злости:
– Люди верные видели, как он в дом тяжёлую котомку принёс!
– Ту городскую колбасу и буханки белого хлеба с баранками, что привозил брат, я уже перетаскал в отхожее место, – неожиданно вырвалось у меня. – Пошарьте лопатой, может, что и опознаете! – Шустрый рыжеволосый стражник, среднего роста, он постоянно что-то бормотал себе под нос, должно, проклиная бунтовщиков, из-за которых по ночам приходится не спать, надумал было на ком-то сорвать свою злость и полез на меня грудью. Но я кулак выставил ему навстречу со словами:
– Во! Видел? Только тронь при понятых, размозжу башку о печку! Найдёте что, тогда ваша власть забирать, а руками трогать не смей! Знаю я вас, таких удалых молодцев!
– Искать везде, скотный двор переройте, а книжки должны быть! – Пристав даже ногами затопал так, что старенькие соседи-понятые в страхе отступили подальше к двери в сенцы.
Собрали шинелями всю паутину на чердаке, переворошили солому в овчарне, где у нас находились две овечки, переворошили всю рухлядь в тёмном чулане, а ответ один:
– Ни листка бумаги нет, ваше благородие!
– Ну смотри у меня, доухмыляешься, каторжанский выродок, – для острастки ругнулся пристав, покидая комнату, а я принялся успокаивать плачущую маму:
– Мама, ушли уже несолоно хлебавши. Чего же ты плачешь?
– Насодомили-то как, управы на них нет, – ответила она, а потом добавила: – Николая, чует моё сердце, возьмут следом за отцом.
И как в воду глядела, оказалась пророчицей. Николая через месяц арестовали за участие в забастовке и сослали в Туруханский край, куда-то в непроглядную глушь таёжную, только после Февральской революции и пришёл домой, но меня к тому времени уже дома не было, судьба мотала меня по фронтам Первой империалистической войны где-то в предгории Карпат.
И ещё один день из той, довоенной четырнадцатого года, жизни навечно остался в моей памяти. Была жатва и над хлебными делянками стояла жара. Ко Дню святого Ильи Пророка мы уже скосили хлеба нашего хозяина, и я пришёл на арендное поле дяди Демьяна, отцовского брата помочь ему. Своего арендного поля у нас не было, а единственный сын дяди Петро постоянно грудью надрывался в кашле – это после японского плена у него такая хворь приключилась. Наступил полдень, расположились обедать в тенёчке леса, недалеко от проезжей дороги на Бугульму, возле этого самого колодца, где потом бывшие «дружки» подкараулили меня. Тётка Алёна высокая и худая, принесла узелок с едой, поблизости другие семьи устроились, всяк себе выбрал тенистое дерево.
Я первым делом налил себе кружку холодной ряженки, начал осторожными глоточками пить, слышу – ругается дядя Демьян, сначала тихо, сквозь прокуренные усы, а потом его словно взорвало:
– А-а, так-перетак! Ведьмино отродие! Черти бы тебя чистили. – И раз! – бац недочищенное яйцо о колесо телеги! – Черти бы тебя чистили! – Два! И три! И четыре! И так весь десяток! Бабы от других телег сбежались, мужики животы надрывают в хохоте, а тётка Алёна ладонями глаза закрыла и посеменила прочь по скошенной делянке. Перебил дядя Демьян яйца и тут же успокоился, как ни в чём не бывало, взял кувшин, через край напился и ко мне с просьбой:
– Махорочку подбрось, Никодим.
– Вы же, дядя Демьян, и меня оставили без обеда. Давайте хоть травой колёса вытрем.
– Собаки оближут, пока косить будем. Ешь сало с хлебом и луком. Тётка нам сварила свежие яйца, их чистить – одна морока, скорлупки с мясом отдираются.
И тут справа от меня послышался стук колёс, потом донеслось поскрипывание, и на дороге показалась старенькая телега. Спереди, на поперечной доске, сидел бородатый незнакомый мужик в широкой домотканой рубахе навыпуск и в лаптях с белыми обмотками. Спиной к нам, свесив ноги на ту сторону телеги, чуть сгорбив спину, сидел ещё кто-то в чёрном городском пиджаке и в помятой фетровой шляпе серого цвета. Телегу подкинуло на кочке и человек повернул голову на людские голоса. Блеснуло на солнце знакомое пенсне. А меня будто и не было рядом с дядей Демьяном.
– Анатолий Степанович! – закричал я что было сил, а потом ещё раз на всё поле: – Анатолий Степанович!..
– Ну-ну, сынок, что же теперь поделаешь, – спустя несколько минут, после торопливых приветствий, пытался утешить меня Анатолий Степанович, а я растянулся на придорожной лебеде, плакал и никак не мог успокоиться. – Отец твой сделал всё, что мог для других, погиб как настоящий русский мужик, собой пожертвовал, чтобы спасти незнакомых ему женщину и подростка. – Анатолий Степанович пытался поднять меня с земли за плечи, тут же вскоре прибежали дядя Демьян и другие односельчане, уложили меня на телегу.
И только поздно вечером я смог уже спокойнее выслушать то, о чём тогда у родника, сбивчиво и волнуясь, говорил мне Анатолий Степанович. Рядом со мной, в обнимку с Анной Леонтьевной, всё еще не выплакав всех слёз – она их долго ещё будет потом выплакивать – тихо рыдала мама. Ей вторила сестрёнка Нина. Она даже не помнила отца. Ей и двух лет ещё не было, когда его увели среди ночи жандармы.
– Мы жили на поселении, – рассказывал Анатолий Степанович, изредка поправляя указательным пальцем пенсне, – в интересном по природе месте Зелёная Падь. Большей частью там проживали староверы с их суровым укладом, уже подсчитывали последние дни, которые оставалось прожить нам в ссылке, сговаривались про связи в будущем. А в последнее воскресенье будто злой рок толкнул нас напоследок сходить в лес, проверить охотничьи снасти. Мы в тайге зверя промышляли, шкуры меняли на хлеб и тем поддерживали слабых. В селение возвращались к вечеру. Иван первым заметил у крайнего дома дым под крышей, локтем разбил стекло, вырвал раму, полушубком укутал голову и в одну секунду был уже там, в густом дыму. Через пару минут он появился у окна с женщиной на руках, она была без сознания, угорела. – «Там ещё кто-то стонет», – только и успел я разобрать его слова сквозь удушливый кашель, наглотался там дыма. Я потащил женщину подальше от пожара на свежий воздух – тяжёлая староверка оказалась, едва я её за плечи приподнимал, волочил ногами по снегу. – «Держите, Анатолий Степанович!» – позвал меня Иван снова и перевесил через подоконник головой вниз мальчишку лет шести, в одной рубашке и в штанишках. Я подумал, что Иван тоже вылезет следом, понёс мальчишку к женщине, как сзади вдруг что-то как затрещит! – Анатолий Степанович поперхнулся, ему сдавило горло спазмом, он принял от Марийки стакан с водой, сделал маленький глоток, глубоко вздохнул и продолжил свой страшный рассказ: – Я тут же бросил на снег мальчишку, его приняла какая-то местная прибежавшая женщина, метнулся к окну. А в лицо огнём полыхнуло: рухнула крыша. Прибежали к тому времени соседские мужики, схватили меня за руки, а я голову полушубком укрывал, чтобы лезть в огонь. Должно быть, в состоянии нервного срыва был в ту минуту. «Пустите меня, там Иван гибнет!» – кричал я, а они мне в ответ: «Ивана уже не спасти, всё обрушилось!» Не знаю, как случилось, но тут я потерял сознание. Очнулся от холода – мужики снегом натирали мне виски. Вот так это было, родные вы мои. А через неделю, не больше, пришла казённая бумага с предписанием куда кому ехать. Мне велено поселиться под надзор полиции в Вологодской губернии. Разрешили только за семьёй заехать.
Не сразу до меня дошёл смысл последних слов Анатолия Степановича, а когда дошёл, то я испугался ещё одной в жизни страшной потери – Марийки.
– Как? Разве вы уедете отсюда? Я думал, что вы снова будете учителем у нас в селе. – Я говорил Анатолию Степановичу, а смотрел на Марийку, в её заплаканные глаза.
– Меня теперь и близко к школе не допустят. За версту повелят обходить, чтобы учеников не учил тому, что властям не угодно, – ответил Анатолий Степановичи и вскинул брови. – Не знаю, каким ремеслом теперь кормить буду семью, взяли бы хоть писарем в волостное правление.
– Папа, вы с мамой вдвоём поедете, а я остаюсь с Никодимом, – тихо проговорила Марийка, но так решительно, что Анатолий Степанович от неожиданности резко повернул к ней голову. Чуть пенсне не уронил. Моя мама при этих словах взяла Марийку за руку, погладила по гладко причёсанным волосам и снова расплакалась. Анна Леонтьевна с другого боку притулилась к Марийке, тихо всхлипнула, запричитала, приговаривая:
– Когда же ты решилась на это, доченька? Ох, господи, так сразу. – Посмотрела на меня с тревогой, словно в душу хотела заглянуть. – Ты уж не обижай её, Никодимушка, одна она у нас, одна на всём белом свете.
А я молчал, не находил слов, чтобы утешить её. Утешить горем убитую свою маму. Она так надеялась на скорое возвращение отца, что он со дня на день скрипнет калиткой и с улыбкой войдёт в дом…
Анатолий Степанович снял пенсне, прищурил светлые влажные глаза, возле которых в пучки собрались морщинки, посмотрел на дочь, словно хотел убедиться, что не ослышался, потом на меня, так и не проронившего ни слова. Вздохнул осторожно, будто опасался надорвать сердце.
– Надо же! Как быстро пролетело время. Мы с Иваном оставляли детей, а приехал я к взрослым, которые решили сами пожениться. Ну что же, я рад за вас. Коль решили быть вместе, так и держитесь неразлучно до конца века вашего. Мне твёрдо верится, что у вас всё будет ладно и в согласии, а потому и говорю: дай бог вам любви и мира в доме, а мы с матерью благословляем вас. – Анатолий Степанович не сдержал выступивших слёз, смахнул их ладонью. – Жалко, что Иван не дожил до этих счастливых дней, не порадуется вашему счастью. А мы отбудем надзор на чужбине и снова приедем домой, внуков на руках баюкать и песенки колыбельные петь.
В скором времени была наша свадьба, скромная, по нашему достатку, и гости на ней были только соседи и родственники с обеих сторон, пришли поздравить молодых со своими подарками к столу, а когда я меньше всего ожидал этого, через открытую настежь дверь вошёл улыбающийся и в то же время явно смущённый Клим в новенькой белой рубахе навыпуск. На концах широкого небесного цвета пояса малиновые кисти. В левой руке Клим держал бутыль с водкой, а правой поклонился свадьбе до земли.
– Мир и счастье этому дому, а молодым вечной любви и согласия. Разрешите и мне, добрые люди, поздравить молодых с законным бракосочетанием, гостям поставить на стол угощение, жениху с невестой поднести скромные подарки. – Клим подошёл ко мне, протянул серебряный портсигар нарочито грубым голосом сказал: – Кури табак, Никодим, чтобы от тебя пахло настоящим мужиком. – Потом повернулся к Марийке – порозовели у него уши от волнения. Но вида не подаёт, крепится. – А невесте я дарю памятный перстенёк. – И Клим протянул Марийке – я видел, как заметно подрагивала его протянутая рука – дорогой перстень с двумя маленькими, словно капельки крови, красными камешками. Если бы я знал тогда, где придётся мне с этим перстнем встретиться через годы!
Но в ту минуту после спокойных слов Марийки: «Спасибо, очень красивый подарок» – я приветливо, от всей души пригласил Клима:
– Садись, Клим, будь гостем желанным за нашим столом. Живём не пышно, но про нас далеко слышно!
Клим взял два пустых стакана, налил водку до половины и подошёл к попу Афанасию, который перед свадьбой венчал нас в церкви.
– Никодим, подойди сюда, – волнуясь всё больше и больше, попросил Клим и, когда я подошёл к ним, обратился к попу: – Духовный отец, давно друзья мы с Никодимом, а теперь я хочу, чтобы святая церковь на веки вечные скрепила нашу братскую дружбу так, чтобы и дети наши тоже считались кровными братьями.
Клим вынул из кармана складной нож, открыл его и, чуть вздрогнув, резко чиркнул им по среднему пальцу левой руки.
– Пусть моя кровь очистится этой водкой от зависти и злой мысли, если бы таковая подступила к моему сердцу, – и он выдавил из пальца кровь сначала в один стакан, потом в другой. Так же поступил и я, проделав это, скорее всего, машинально, под влиянием искренних взволнованных слов Клима, как мне казалось тогда, а не из такой уж любви к нему или желания побрататься с богатыми Епифановыми.
Поп Афанасий, уже изрядно подвыпивший, с квашеной капустой в бороде, раскачиваясь тощим телом над столом, прослезился и засопел растаявшим в тепле носом.
– Дети мои Христовы, сколь живу я на этом грешном свете, а такой братский союз скрепляю во первый раз, сиречь до сего благословенного дня у нас такого не творилось. Да быть вам отныне и во веки веков, аки родными братьями Христовыми, неразлучно стоять вам заедино супротив врагов ваших, каменной стене подобно. Аминь. – Поп икнул и потянулся за стаканом со смородиновой наливкой, а мы с Климом под крики гостей троекратно поцеловались, выпили водку, красную от нашей крови.
Марийка тут же подошла к нами, как-то буднично, словно и вправду родного брата, поцеловала Клима в щёку, а у него снова кровью налились уши и толстая шея.
– Садись, побратим, рядом, – пригласил я, почти искренне веря, что и Клим теперь будет относиться к Марийке по-братски. Хотя в душе и сознавал, что от этого моя батрацкая доля у Епифанова вряд ли станет легче. Разве только старый хозяин не будет обсчитывать в День святого Кузьмы, когда он обычно производил расчёты с сезонными батраками. Расходясь по домам, те чуть ли не кляли жадного хозяина за то, что он снова их «подкузьмил» при расчёте.
Мы с Климом сели рядом за праздничным столом, гости дружно прокричали «Ура!» за здоровье молодых. До вечера пели песни, и уже затемно стали расходиться по домам.
А менее чем через два года грянула проклятущая империалистическая война и кинула меня в ужасный водоворот военных событий, выбраться из которого удалось только через шесть нелёгких лет. И с такими потерями!
Призывники
Обоз с призывниками притащился на призывной пункт в Бугульму, помнится, девятнадцатого июля. Расположились табором недалеко от управления Бугульминского уездного воинского начальства в одном из переулков, а площадь перед управлением была уже забита приезжими из ближних сёл. Волостной староста сдал списки, стали проходить медицинскую комиссию, всё шло спокойно и пока мирно. Были слёзы приехавших с нами родных, и моя мама и Марийка не отходили от меня ни на шаг. Были и слёзы радости – врачи забраковали Игната Щукина, велели ему возвращаться домой.
– Почему же так, ваше благородие? – не поверил было своему счастью Игнат, а главный доктор, толстенький и с отвислыми мешками под глазами, небрежно ответил:
– Малым вырос, рахит. В армию его императорского величества ниже двух аршин да двух с половиной вершков не берут. Вот его возьмём в гвардию. – И уставился толстыми очками в мою сторону. – Смотрите, каков великанище, да сила в нём видна изрядная!
Я же эти дни ходил, будто в полусне. Всё ещё не верилось, что вот наступит час, минута, когда за поворотом просёлочной дороги останется телега с мамой и Марийкой, а у неё на руках годовалый сынок Стёпа, а я уйду, быть может, навсегда, уйду от них по чьей-то злой воле, как ушёл от нас по воле жандармов мой отец!
– Непременно в гвардию! Такое чистое тело! – всё ворковал около меня доктор и языком причмокивал, будто сторговался с дешёвым батраком, как тот жадный поп с Балдой, про которого читала мне Марийка.
– Ну как? – спросили меня разом Клим и Наумов, когда я вышел на крыльцо врачебного пункта.
– Вроде берут в гвардию, в столице служить буду, – безразлично ответил я. Не успел оценить всей выгоды попасть в императорскую гвардию.
– Повезло тебе, Никодим, – с завистью сказал Сашка Барышев. – Повезло, на передовую в окопы не попадёшь. А мне куда в гвардию, среднего роста да ещё и тощему, словно вобла сушёная. – Он двумя пальцами провёл по впалым щекам. – Загонят в окопы, там мне и крышка! Под немецким снарядом. А то какой-нибудь верзила рыжий наподобие Григория, – он ткнул пальцем в живот Наумова, – прикладом в землю вколотит, как гвоздь в гнилую доску, одним ударом.
К вечеру, когда закончили осматривать наших односельчан и зачитали списки предполагаемого распределения, оказалось, что в гвардию я не попал.
– А я и не сомневался, что не попадёшь, только заранее не стал волновать, – спокойно сказал Клим, когда вернулись к телегам. – Отец ссыльный, брат ссыльный тоже. Ты у жандармов давно в списках неблагонадёжных. А гвардия при царском дворе, это понимать надо. Там верные люди нужны.
– А ему не доверь-яют, получается? – заикаясь, переспросил Григорий Наумов и с прищуром уставился на Клима. Когда он говорил, то спотыкался на словах с буквой «р». Это у него случилось после того, как тонул в реке ещё маленьким, сильно испугался. Клим промолчал, только плечами пожал и ушёл к своим.
– Да чёрт с ними, – махнул я рукой. – Ещё лучше, может, рядом воевать будем. Свой всегда своему поможет. – А в душе, где-то в самой глубине, всё же притаилась обида: как за Родину воевать, так доверяют, а у царского дворца в караул поставить опасаются. Как бы чего царю не сделал!
– Жаль, братца Николая рядом нет, он растолковал бы, что за политика здесь происходит, – сказал я товарищам, прощаясь. Пора было к своим подойти и поговорить по душам.
С приближением вечерних сумерек после ужина на своей телеге мы с Григорием, прохаживаясь по забитым людьми улицам, заметили какое-то волнение среди призывников и их семей. Люди собирались большими группами, что-то тайком от посторонних глаз читали, о чём-то ещё негромко спорили, а мы с Григорием уловили несколько довольно громких выкриков:
– И вправду, мужики, другого времени не сыскали эти цари да императоры подраться, что ли? Тут страда в самом разгаре. Каждый день дорог. Кто же хлеб убирать с поля да молотить останется? Бабы да старики?
– Ну, загнул ты, Тимошка! Как это – бабы да старики? Посмотри, вокруг нас, защитников Отечества, сколько ещё откормленных «защитников» красуется на конях?
– Ты про стражников, что ли?
– А ты думал, что про псов бугульминских? Эти «защитники» наших баб от блуда охранять останутся, чтоб не разучились рожать.
Зло смеялись призывники над этими словами. Но обилие конных и пеших стражников удивило и меня.
– И вправду, чего их сюда столько нагнали? – спросил я сам себя, не видя ни пьянства поголовного, ни драк между разными группами из разных сёл, как это случается на Масленицу. Григорий ответил, оглядываясь по сторонам:
– Думается мне, Никодим, власти боятся бунта срь-еди нас, прь-изывников. Вон какая масса здорь-овых парь-ней собрь-алась, воинскую упрь-аву вмиг по брь-ёвнышкам могут рь-аскатать!
– Чего же нас бояться, не звери же мы дикие. Бояться надо немцев. Вот и послали бы стражников вместе с нами на фронт.
Григорий улыбнулся, хлопнул сухощавой ладонью меня по спине и, заикаясь, пояснил, что я веду бунтарские речи. Что стражники должны органы власти охранять не от наружного врага, как немцы и австрийцы или вечные наши враги турки, а от врага, который хитро спрятался внутри, от всяких там агитаторов, – как в церкви прояснял селянам поп Афанасий.
В конце длинной речи Григорий сделал в мою сторону неопределённый жест правой рукой, будто вместо этого пояснения горячее блюдо перед собой на пальцах протянул.
– Чудно, – пожал я плечами. – Нас здесь боятся, а посылают против врага наружного. Что-то чепуха получается.
Григорий наклонился в мою сторону и тихим голосом заговорил. Когда он вот так говорит негромко, перестаёт заикаться и только на каждом таком месте, делая над собой внутреннее усилие, часто вскидывает брови:
– Запретные листки стали появляться среди нас, призывников. Я часа два днём ходил по местному базару. Так там какой-то мастеровой, немолодой уже, с чёрными усищами пристал ко мне с разговорами: то да сё, как дома дела. Кто на хозяйстве остался, закурить попросил, я ему и говорю, что табак есть, бумажки нет. Он тут же мне и сунул в руки листок, а сам оглядывается по сторонам и говорит: «Возьми и прочитай, да другим дай послушать. Верные слова тут прописаны». Я листок в карман, а черноусый будто сквозь землю провалился, как ни шарил я глазами, но и малой ямки рядом не сыскал, только и запомнил усищи да карие глаза.
«Что-то знакомое в этом мастеровом», – подумал я, но мало ли на земле усатых и с карими глазами.
– Что в том листке прописано? – полюбопытствовал я, а сам опять вспомнил о Николае: «Вот так, наверно, и его кто-то приметил. Он листовки во время забастовки раздавал, а кто-то схватил за руку и крикнул жандарма!»
– Послушай, я с тем листком спрятался за чужим амбаром, несколько раз прочитал и запомнил стишок. Вот:
Трудно, братцы, нам живётсяНа Руси святой.Каждый шаг нам достаётсяРоковой борьбой.Все народы до свободыДобрались давно.А у нас одни невзгодыИ темным-темно.Мимо нас пробежало несколько крепко выпивших призывников, о чём-то громко спорили и размахивали руками. Григорий вовсе замолчал, а когда парни удалились за поворот улицы, в сторону церкви, снова зашептал почти на ухо:
Живо, братцы, принимайтесьЗа дела скорей!От оков освобождайтесьИ долой царей!– А в конце там ещё было две строчки:
Ой, пора, пора народуДобывать себе свободу.Григорий умолк и внимательно посмотрел на меня, словно хотел узнать, какое впечатление произвело на меня это стихотворение.
– Смело писано, – согласился я. – Да как ты его «долой», когда за него армия, казаки, стражники и жандармы – вот какая силища! Ты нашим не показывал?
– Сашке Барышеву читал, ему понравилось, он оставил листок у себя. А Климу не показывал, хотя он и твой побратим названый. Да и ты ему не говори, от греха подальше. Постится щука, да зубы целы! Так и Клим этот, всё-таки он не нашего поля ягодка.
– Ладно, не скажу, – согласился я. Вдруг вспомнил, с какой неприязнью говорил Клим о моём отце и брате. Вроде бы даже порадовался, что я не попал в гвардию.
Возвращаясь на свою улицу, мы с Григорием попридержали шаг у чужих телег: в круге лихо под гармонь отплясывал рыжий и худой до страха мужичок. Загребая босыми ногами пыль, он вприсядку шёл по кругу, выбрасывая ноги по очереди, и подпевал себе озорные частушки:
Шла я лесом, шла дубравой,Повстречался парень бравый.Всё мигал мне глазками,Улещал всё ласками…С последними словами, под общий смех толпы, мужичок плюхнулся задом в пыль, крутнулся на месте и в изнеможении откинулся на спину, разбросав руки:
– Унесите меня, детушки, а то ещё плясать пойду!
Двое рослых парней подхватили его под руки и потащили к телеге, прочертив по земле пыльный след босых ног. В круг тут же вскочил другой танцор, мы не разглядели, кто, только донеслась новая припевка:
Шли мы лесом, шли дремучим,А побирашки лежат кучей.В тот вечер кабаки не закрывались долго, призывники гуляли последний день вольной жизни.
Утром, в День Ильи Пророка, когда мы сидели у своей телеги и завтракали, что было с собой взято в дорогу, Марийка вдруг привстала с рядна и с тревогой посмотрела в сторону площади перед управлением уездного начальства.
– Что-то стряслось там, – забеспокоилась она. Поднялся и я на ноги. На площадь уже сошлась огромная толпа народу, сновали босоногие мальчишки. Среди мужских фуражек больше было женских платков. Пыль поднялась в безветренном воздухе и едва не закрывала вид на здание управы. Над головами носились разноголосые выкрики.