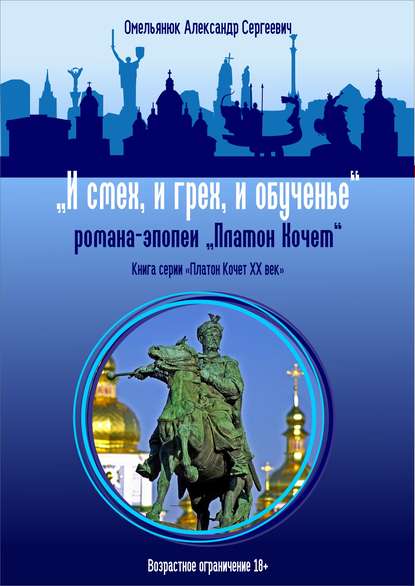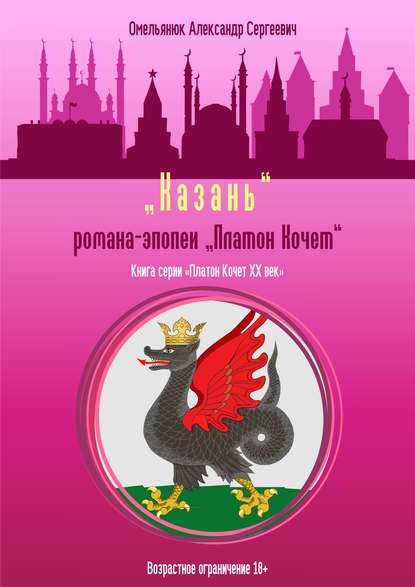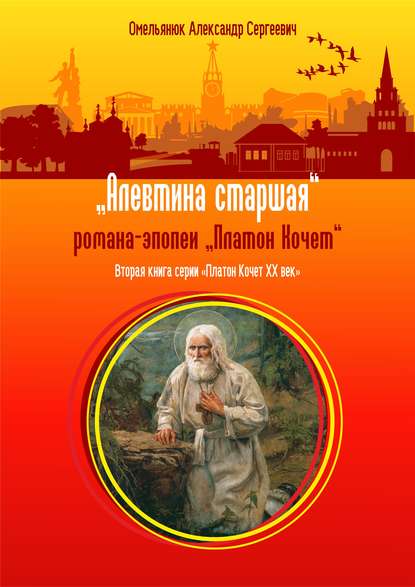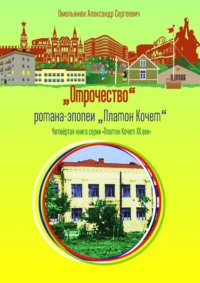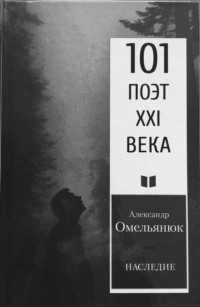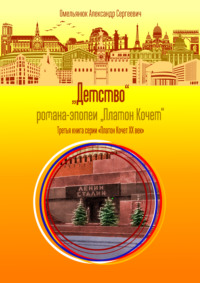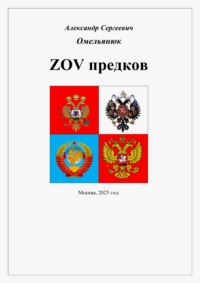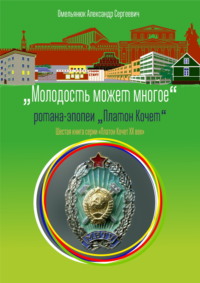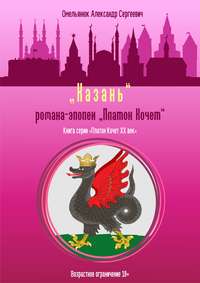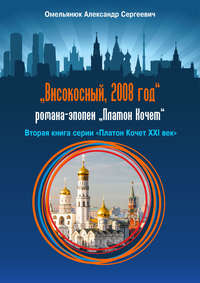Полная версия
Пётр второй
Высшие начальные училища имели 4-летний срок обучения после 3-ёх или 4-ёх летней начальной школы и были мужскими, женскими или смешанными.
Ученики первого и второго классов этих училищ могли поступать соответственно в средние учебные заведения, но со сдачей экзамена по иностранному языку, который в этих училищах не преподавался.
В высших начальных училищах изучались закон божий, русский язык и словесность (литература), арифметика и начало алгебры, геометрия, география, история России с некоторыми сведениями из всеобщей истории, естествоведение и физика, рисование и черчение, пение и физкультура. А для девочек, кроме того, рукоделие.
Окончившие эти училища могли поступать в средние технические учебные заведения и в учительские институты. Но такой школы в Космыново не было, Так что Пете Кочету, в отличие от его старшего брата Бориса, проучившегося всё-таки два года в такой школе, грозила остановка в образовании на уровне 4-го класса начальной школы.
А пока Петя Кочет в новой школе изучал закон божий, в котором естественно оказался лидером и русский язык (чтение, письмо и грамматику), в коем уже не уступал местным ребятишкам. Преподавали также арифметику (счёт и четыре арифметических действия с целыми числами) и пение, в котором он, совершенно не имевший слуха, естественно не преуспел.
На его, как любознательного человека, счастье, на уроках русского языка ученикам во время чтения одновременно сообщались и элементарные сведения по природоведению, истории России и физической географии.
Основными методами обучения в начальных школах тогда были беседы с учениками, их работа с учебником, рассказ учителя с демонстрацией наглядных пособий, в частности картинок, и письменные и графические работы учащихся.
А осенью и весной ученики на пришкольном участке занимались садоводством и огородничеством, в чём они ещё с самых малых лет привыкли помогать своим родителям.
По арифметике они изучали устный счёт, употребляемые в жизни дроби и умение пользоваться счётами, что особенно нравилось Пете Кочету.
Дома он показывал отцу, как лихо щёлкает костяшками, прибавляя и вычитая разные числа.
В начальной школе изучались также элементарные геометрические понятия и фигуры.
Грамоте обучали с помощью аналитико-синтетического звукового метода.
При изучении русского языка бόльшую часть времени уделяли усвоению грамматики и орфографии.
Поэтому на чтение оставалось меньше времени. Тем более учащихся мало учили чётко, ясно и, главное, грамотно излагать свои мысли, в том числе письменно.
Но, с детства полюбивший слушать устные рассказы матери и чтение книг, Петя Кочет в этом компоненте знаний и умений оказался самым сильным учеником школы. Его способности к учёбе и ранее полученные знания быстро снискали ему авторитет среди одноклассников, учителей и соседей по деревне Космыново.
А пока Кочеты обживались в Космыново, стабилизируя свою жизнь, к концу 1915 года стабилизировалась и линия фронта, превратившись почти в впрямую линию, соединяющую Балтийское и Чёрное моря.
Германия заняла Варшавский выступ и Курляндию.
Линия фронта теперь проходила около Риги и далее шла по Западной Двине до укрепрайона Двинск.
Дальше фронт проходил по территориям Ковенской, Виленской и Гродненской губерний и по западной части Минской губернии.
На юго-западном направлении фронт отрезал западную треть Волынской губернии с Луцком, но город Ровно остался за Россией.
Далее фронт проходил по территории Австро-Венгрии, оставляя за русскими войсками часть района Тернополя и Галиции.
В районе Бессарабской губернии фронт проходил по границе России с Австро-Венгрией и заканчивался на границе с нейтральной Румынией.
Теперь линия фронта с обеих сторон была плотно заполнена войсками, и война стала позиционной.
А на захваченных у России территориях была создана германская оккупационная администрация.
Поначалу казалось, что опасность немецких репрессий против гражданского населения, в том числе против православных западных белорусов, которые преимущественно становились беженцами, была необоснованной.
И получалось так, что в 1915 году сначала в большей степени пострадали те, кто отправился в беженство, нежели те, кто остался под немцами.
Зато потом население, оставшееся на оккупированных территориях, почувствовало на себе ограничение своих гражданских прав, испытало тяготы принудительного труда, иногда и за пределами родины, став свидетелем разграбления материальных ценностей и природных ресурсов.
Но всего этого Кочеты ещё не знали, потому о своей судьбе и не жалели. Жалел лишь весь российский народ об итогах военной кампании 1915 года.
В уходящем году противник смог добиться существенных военных побед и захватить значительную часть территории России.
Однако, не смотря на очевидное тактическое преимущество в манёвренной войне, Германия не смогла нанести полного поражения России и вывести её из войны, которая теперь затягивалась, превращаясь в позиционную.
Не добившись побед над противником, все ведущие державы подорвали свои экономики. Но Россия, не смотря на большие потери в территории, в живой силе и наступательном духе армии, ещё сохранила способность к продолжению войны.
К концу Великого отступления в России был преодолён кризис и в военном снабжении. И к концу 1915 года нормализовалось снабжение войск артиллерией и боеприпасами.
А вот перенапряжение из-за больших человеческих потерь экономик Германии и Австро-Венгрии стало весьма заметным.
За весь 1915 год Германия потеряла около ста тысяч человек убитыми и умершими от ран, и почти шестьсот тысяч человек ранеными и пленными.
И теперь не только семьи Кочетов, но и многие миллионы россиян, как и многие миллионы жителей других воюющих государств, пострадавших от войны, в той или иной степени испытывали лишения и страдания.
Ведь, несмотря на масштабность мероприятий, проводимых царским правительством для оказания помощи беженцам, положение этой огромной массы людей всё ещё оставалось тяжёлым.
Во многих губерниях России к приёму миллионов беженцев, среди которых было много больных и голодных людей, ещё толком ничего не было готово. Существовали серьёзные проблемы с жильём и расселением беженцев. Не хватало больниц, чётких директив и готовых правовых решений.
Но кое-где местные власти пытались даже отказаться принимать беженцев.
Немало было опасений на местах и у простых людей. Не заразят ли беженцы их семьи тифом? Не съедят ли все их запасы продовольствия?
Кто будет их содержать? Ведь, говорят, что они не хотят работать!
Рассказывают, что они даже отказываются пить кофе с молоком и требуют сливок!
Газеты писали о беженцах, которые днём нанимались на работу, а ночью сбегали от своих работодателей.
А ведь эвакуировали не только нормальных людей, но и заключенных.
В прессе, кроме сообщений о «настоящих» бедных и честных беженцах, появились также и сообщения о тех, кто себя за них выдаёт.
Однако вместе с беженцами появились слухи и толки о большой военной силе немцев и о возможно скорой новой эвакуации ещё дальше на Восток.
Российские власти между тем старались, чтобы изгнанников приняли хорошо, и пытались разными методами успокоить местное население, часть которого считало чрезмерным оказываемое беженцам внимание. Но местная администрация расценивала это лишь как проявление обывательского невежества.
Появились дешёвые брошюры, в которых рассказывалось, что беженцы – это простые добропорядочные люди, которых выгнал из домов злой немец.
А в газетах стали печатать трогательные фотографии матерей с детьми и стихи о тяжёлой изгнаннической судьбе.
В либеральных кругах, которые активно подключились к помощи беженцам, начались дискуссии, как помогать им, но чтобы не избаловать.
Можно ли принуждать их к труду, как каторжников? Чем считать помощь: актом милосердия или обязанностью государства?
Если оно само ведёт войну, жертвами которой стали эти люди, не должно ли оно теперь само окружить их заботой?
От беженцев ожидали покорности и благодарности за милосердие. Но как им можно было быть благодарными, если весь их мир разрушен, имущество уничтожено, а близкие погибли?
И российское общество смирилось с беженцами. В подавляющем большинстве местное население с самого начала с большим пониманием и сочувствием отнеслось к ним, и беженцы довольно быстро освоились на новых местах проживания.
Основная масса беженцев из Беларуси осела в центральных губерниях России и в Поволжье.
Но их размещали и по всей остальной территории империи, преимущественно в плодородных районах на Волге и Дону, а также в Сибири. Это были деревни, где земли было много, а рабочих рук, из-за того, что мужчины отправились на фронт, недоставало.
В этих местах люди часто строили два дома: летний и зимний. И теперь один они уступали новым жителям и делились с ними едой. Беженцы занимались сельскохозяйственными работами, нетрудоспособные получали пособие, а дети ходили в школу.
А доброжелательное отношение населения на новом месте проживания и относительно высокий достаток запомнились очень многим беженцам, в том числе и членам семьи Петра Васильевича Кочета.
Ведь работая в поле с хозяевами, можно было неплохо заработать.
В общем, жизнь начинала налаживаться.
Но ещё к середине сентября 1915 года, когда уже была налажена полноценная регистрация всех беженцев, и когда количество направленных в Калужскую губернию беженцев достигло 50 тысяч человек, губернатор распорядился «до особого распоряжения» прекратить их дальнейший приём.
А прибывающие новые партии беженцев, были им перенаправлены в соседние Тульскую и Рязанскую губернии.
И уже по распоряжению Министерства внутренних дел часть Гродненских учреждений и, имеющих государственное значение, производств вместе с сотрудниками и членами их семей были направлены не только в Рязанскую и Тульскую, но и в Тамбовскую губернию.
Это было связано с тем, что в это же время решался вопрос о переводе в Калугу Ставки Верховного главнокомандующего.
Некоторые губернии пытались хоть как-то, всеми правдами и не правдами, отбиться от беженского потока.
Руководством соседней Орловской губернии была предпринята попытка направить беженских поток в обход их губернии, о чём сам Губернатор хлопотал в Петрограде.
И местные земские деятели тоже, пытаясь сдержать наплыв беженцев в свою губернию, убеждали, направлявшего беженские потоки, уполномоченного по беженским делам Северо-Западного фронта о бездорожье и бесхлебье в западных уездах их Орловской губернии, мотивируя это её близостью к линии фронта и недостаточным обеспечением губернии продовольствием.
Во многом и поэтому, для упорядочения процесса приёма и устройства беженцев, в ноябре этого же года территория Российской империи была разделена на двенадцать районов, в том числе в глубине России.
А губернскими отделениями Татьянинского комитета в губернских и уездных центрах были открыты распределительные пункты.
Весь процесс распределения беженцев был теперь весьма неплохо организован.
Прибывавших по железным дорогам беженцев на станциях уже встречали крестьянские подводы, развозя их по уездам.
А в отведённое для беженцев жильё с помощью полиции их уже размещали земские начальники, волостные старшины и сельские старосты.
Однако с наплывом беженцев на местах справились не сразу.
Этому мешало и транзитное перемещение через Калужскую губернию беженцев на своём гужевом транспорте, которое прекратилось лишь в конце октября.
На всём пути их следования были устроены питательные пункты, на которые свозили продукты крестьяне из окрестных деревень.
Но на этих пунктах часто не хватало заготовленных кормов для скота.
Таким путём прошло около четырёх с половиной тысяч беженцев, двигавшихся со средней скоростью около пятнадцати километров в день.
Но основные, массовые перевозки беженцев осенью 1915 года осуществлялись маршрутными поездами прямо до пункта назначения.
Для этого в течение двух месяцев наиболее интенсивного движения этих маршрутных поездов потребовалось 115 тысяч вагонов, подавляющее большинство которых было оборудовано нарами и печами.
О таких поездах и вагонах мечтали все беженцы, простаивавшие очень длинные очереди на станциях посадки.
Но простаивали не только они, но и их поезда – от нескольких часов до нескольких суток.
Однако, по свидетельствам большинства самих же беженцев, именно благодаря усилиям властей в довольно короткое время они добрались до мест своего временного размещения.
И с осени 1915-го года до начала 1916-го была успешно завершена массовая перевозка беженцев маршрутными поездами во внутренние районы России. А финансирование всех мероприятий, связанных с массовым перемещением беженцев во внутренние районы страны государство осуществляло через Татьянинский комитет, Всероссийский Земский Союз и Всероссийский Союз Городов.
Кроме того эти комитеты и союзы сами собирали пожертвования.
Именно и из таких пожертвований была оказана новая финансовая помощь и семье Петра Васильевича Кочета.
На эти деньги и на ранее полученные по распискам деньги он, прежде всего, закупил необходимый ему плотницкий и столярный инструмент, кое-что из сельхозорудий труда, посуду, одежду и домашнюю утварь, продукты, а также кур, гусей и молодняк скота.
Вокруг дома Кочетов был небольшой приусадебный участок, но другой земли им не было выделено по причине её отсутствия.
Так что Пётр Васильевич стал работать в усадьбе местного помещика и на крестьян-землевладельцев, или попросту батрачить на них.
После помощи всем им в сентябрьском сборе урожая и в его переработке, Пётр Васильевич помогал в подготовке земли к зиме и весеннему севу: в уборке завядшей травы, в пахоте, и во внесении удобрений.
Но в октябре эти дела завершились, и Пётр Васильевич занялся своим любимым делом.
Поначалу он стал плотничать, в основном ремонтируя местным жителям их скотные дворы и овины, готовя эти строения к зиме.
А зимой Пётр Васильевич Кочет стал для местных жителей настоящим спасителем, ремонтируя им старую и делая новую мебель, а их детям – нехитрый спортивный инвентарь и игрушки.
Сыновья иногда помогали отцу, но чаще пропадали на улице в компании местной детворы.
Детей в их деревне было мало, но зато дружили они крепко.
В их компании братья Кочеты играли в снежки и в «царь горы».
Катались они и по замёрзшей речке на смастерённых их отцом коньках, а с её берегов и со склонов ближайших холмов – на санках. Частенько на самодельных лыжах ходили они и по окрестным полям и холмам.
Местная детвора была благодарна Петру Васильевичу за его умелые руки и добрый нрав, а его сыновей приняла как своих за их общительность и повышенное чувство справедливости.
И новый 1916 год семья Кочетов спокойно встретила в домашнем уюте, в своём уже отремонтированном, тёплом доме, с некоторой уверенностью в завтрашнем дне, и в надежде на лучшее для всех членов их семьи будущее, на скорое окончание всем так надоевшей войны.
Но война продолжалась.
Ещё с октября 1915 года линия фронта, проходившая по территории Белоруссии и делившая её пополам, стабилизировалась.
Ведь противник, желая скорейшей победы на Западном фронте, был вынужден пока устроить себе передышку на Восточном фронте.
Для этого он основательно укрепил в инженерном отношении свои позиции, обеспечив глубоко эшелонированную оборону против возможного наступления русской армии.
Немцы, как правило, отрывали сразу несколько линий окопов вдоль фронта, составляющих укреплённую полосу шириной до полутора километров.
Через каждые почти двадцать шагов в первой линии окопов были сделаны бойницы прямоугольной, трапециевидной, треугольной и щелевидной формы для стрельбы не только из винтовок, но и из пулемётов и миномётов.
А для препятствования прострелу окопов с флангов и для защиты личного состава от осколков и рикошетов пуль, мин и снарядов, они были разделены насыпными перегородками (траверсами).
Первая линия окопов прикрывалась спереди в одну, а то и в две полосы проволочными заграждениями, закреплёнными на рогатках и кольях.
Причём первая полоса этих заграждений проходила на расстоянии до шестидесяти шагов от окопов, а вторая – непосредственно близ бруствера.
На расстоянии около тридцати шагов позади первой линии окопов вырывались землянки на девять человек каждая.
Примерно в полутора сотне шагов от первой линии возводилась вторая линия окопов.
А лощины и рвы заваливались срубленными деревьями.
Так что в случае наступления русской армии, её солдатам пришлось бы тяжело.
А контрнаступление нашей армии готовилось.
Но теперь задача, стоявшая перед её Западным фронтом, была весьма нелёгкой.
Неожиданно для жителей Могилёва 11 февраля 1916 года жизнь в их городе оживилась.
С утра на улицах и в предместьях замелькали усиленные отряды конных казачьих патрулей, а большая группа легковых автомобилей быстро проследовала от здания Губернского правления, размещавшегося на высоком берегу Днепра, на городской железнодорожный вокзал и обратно.
По всему было видно, что что-то здесь произойдёт важное.
На состоявшемся совещании в Ставке Верховного главнокомандующего, размещавшейся в Могилёве с 8 августа 1915 года, наконец, было принято такое долгожданное решение о наступлении.
В связи с тяжёлым положением, сложившимся у стен крепости Верден на французском фронте, было решено оказать союзникам помощь и начать наступление Западного фронта в районе озера Нарочь, с целью оттянуть на себя немецкие резервы и части с французского фронта.
А перед совещанием царь Николай II-ой предложил его основным участникам совместно сфотографироваться перед зданием Губернского правления, где теперь размещалось управление генерала-квартирмейстера.

Позже в одном из старых номеров какой-то Калужской газеты, кои в их деревню попадали весьма редко, вся семья Кочетов с интересом разглядывала высшее командование русской армии.
Особенно эту фотографию любил комментировать младший Петя.
Периодически он брал эту изрядно помятую газету, бегло просматривая заголовки, будто ища на страницах новые новости.
– «Борь, тата! Смотрите, где здесь кто!» – начинал, было, он не по первому разу рассматривать лица военачальников, пытаясь разобраться, где кто из них стоит.
– «Вот, следите за мной! Слева направо: генерал-квартирмейстер Ставки генерал-лейтенант М.С.Пустовойтенко, начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант М.Ф.Квецинский, военный министр генерал от инфантерии А.А.Поливанов, главнокомандующий Западным фронтом генерал-адъютант А.Е.Эверт, начальник Морского штаба Верховного Главнокомандующего адмирал А.И.Русин, начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал от инфантерии М.В.Алексеев, Император Николай II-ой, и.о. начальника штаба Северного фронта генерал-майор М.Д.Бонч-Бруевич, главнокомандующий Северным фронтом генерал-адъютант А.Н.Куропаткин, главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Н.И.Иванов, начальник штаба Северного фронта генерал-лейтенант В.Н.Клембовский» – закончил он перечисление, проводя указательным пальцем по первому ряду лиц на фотографии, не забыв, стоящих чуть в глубине адмирала и бородача в очках Бонч-Бруевича.
На этом совещании главнокомандующий Западным фронтом генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт доложил царю о неготовности его войск к операции и на невыгодные погодные условия. Но эти его доводы не были приняты во внимание.
Более того, Нарочскую наступательную операцию теперь было поручено провести генералу от инфантерии Александру Францевичу Рагозе – уроженцу Витебска и выпускнику Полоцкого кадетского корпуса – для этого временно назначенному командующим 2-ой армией.
А 3 марта в штабы армий была передана Директива Ставки, ставившая войскам следующие задачи:
«Государь Император повелел:
1. Армиям перейти в наступление для нанесения энергичного удара германским войскам, действующим против Северного и правофланговых армий Западного фронтов.
2. Общая цель действий при настоящей операции – достижение линии Митава – Бауск – Вилькомир – Вильна – Делятичи.
3. Ближайшая цель действий – овладеть и прочно утвердиться на линии река Лауце – озеро Саукен – Окнисты – Ново-Александровск – Дукшты – Давгелишки – Свенцяны – Михалишки – Гервяты.
4. Главные удары направить: Северному фронту из Якобштадтского района в общем направлении на Поневеж; Западному фронту войсками 2-й армии – в общем направлении на Свенцяны – Вилькомир.
5. Независимо от сего, Северный фронт атакует частями 12-й армии от Пулькарна и местечка Икскюля в общем направлении Бауск – Шенберг; Западный фронт, сообразуясь с развитием операции на главном направлении, наносит удар в направлении Вильны.
6. В интересах нанесения удара решительного и сильного, Северному фронту оставить в районе Валка – Вольмара лишь строго необходимые силы для охраны побережья севернее Риги, если оставление там войск признается нужным.
7. Удар должен быть решительным и произведён с полной энергией и напряжением, оказывая взаимное содействие во фронтах и армиях.
8. Левофланговые армии Западного фронта и Юго-западный фронт удерживают перед собой силы противника, а в случае его ослабления – решительно атакуют.
9. Начало наступления назначается на пятое марта, Северному фронту предоставляется начать шестого числа.
10. Необходимо широко использовать конницу для внесения возможно большего расстройства в организацию тыла противника после прорыва, хотя бы в течение первых двух-трёх дней. Особенно желателен набег в направлении Муравьево – Шавли.
11. Гвардейскому отряду продолжать сосредоточение в указанном ему районе, откуда он будет направлен для развития операции сообразно обстановке.
12. Штабам фронтов озаботиться приближением укомплектований для пополнения потерь в период операции».
В ходе этой грандиозной Нарочской операции Русская Императорская армия должна была решительным ударом вытеснить противника с белорусских земель и развить наступление в Литве и Латвии с выходом к Митаве (Елгаве), Бауску (Бауске), Вилькомиру (Укмерге) и Вильно (Вильнюсу).
Но стратегической целью операции было помешать Германии обрушиться всеми силами на Францию.
И русские солдаты ценой своих жизней в очередной раз должны были спасти французов, проливавших свою кровь теперь под Верденом.
Тем временем самый младший из Кочетов – Петя успешно обучался в четвёртом классе начальной деревенской школы села Нестеровка, с 1916 года ставшей двуклассным училище второго уровня, сеть которых, усилиями министерства народно просвещения, в этом году значительно возросла.
В его школе по русскому языку преподавался синтаксис и ставился небольшой курс литературного чтения.
И если с синтаксисом у Пети было всё в порядке, то с литературным чтением у него были проблемы.
Хотя он и читал тексты с выражением и в лицах, но часто сбивал дыхание, из-за этого заканчивал фразу быстро, почти переходя на задыхающийся скрип, после чего судорожно хватал ртом воздух, вызывая улыбку учителя и смех товарищей.
К этому учебному году в программу по словесности (литературе) были внесены существенные изменения. По прежним программам по русской литературе изучались только произведения писателей первой половины XIX-го века: Гоголя, Грибоедова, Кольцова, Крылова, Лермонтова и Пушкина.
То теперь в программы были включены и произведения писателей второй половины XIX-го века: Гончарова, Достоевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Тургенева и других.
Кроме русского языка и литературы в его школе теперь преподавали полный курс арифметики, которой был расширен с внесением в него элементов высшей математики.
А курсы геометрии, природоведения и физики, истории и географии были выделены в особые учебные предметы.
В этот учебный год произошёл особенно значительный сдвиг в преподавании истории, которое стало всё больше осуществляться на основе культурно-исторического направления. Теперь учащихся знакомили не только с историей царей, войн и так далее, но и с историей экономического и культурного развития народов, им давали не только одни исторические факты, но и некоторый анализ этих фактов.
Было расширено и преподавание географии, которое было продолжено в старших классах изучением экономической географии.
С интересом ожидая этих предметов, с которыми он познакомился ещё по занятиям Бориса, Петя изучал карту, давно подаренную им дядькой Парфением, по которой он следил за ходом боевых действий на фронте, пытаясь хоть в какой-то мере понять ход событий.