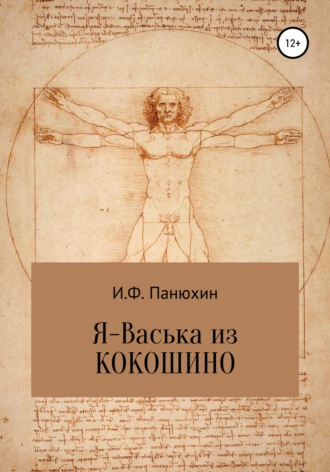
Полная версия
Я – Васька из Кокошино
Дядя Серёжа уехал. Дела у меня, пока что, дома кончились. Схожу-ка, думаю, к бабушке. Зашёл на работу к маме, предупредил, чтоб меня не теряла, и пошёл в Мякошино. Когда по деревне шёл, заметил, что все стараются обойти меня стороной, особенно бабки. И дружки отворачиваются, не приветствуют. Всё ещё на меня сердятся, подумал я. Пусть маленько посердятся. Ну, а бабки – кто их знает? Они всегда своеобразны.
Прихожу к бабушке, она обрадовалась. «Как ты кстати пришёл, Вася! Охота мне в церковь сходить. Уж и не помню, когда последний раз хаживала. А завтра Ильин день. Дедушку твоего помянуть надо. Ты-то его не знаешь, а мне он дорог. И память о нём дорога». – «Проводить что ли тебя до церкви?» – спросил я. – «Да нет. Сама дойду. Клушка у меня на яйцах – присматривать надо. Вот-вот цыплятки вылупятся. Не проглядишь, коль тебя оставлю?» – «Не прогляжу», – говорю. – «Ну и слава Богу», – успокоилась бабушка.
Поболтали мы с ней о том, о сём. Дров к зиме я поколол да под навес сложил. Поужинали – и спать… А утром бабушка разбудила рано. «Ты, Вася, больше не ложись. С печкой я не успела справиться. Вот дрова догорят… Смотри, чтоб головёшек не осталось. Угли и золу сгребёшь в загнётку и поставишь вот эти два чугуна в печь. Пусть до меня стоят. А вот этот чугунок через два часа достанешь и позавтракаешь. Ну, а к обеду-то я приду».
И ушла. А я остался домовничать. Пошуровал кочергой в печке. Сходил в чулан – на клушку посмотрел. Бабушка видно забыла, или не успела, спустить молоко в погреб. Погреб в сенях, рядом со входной дверью. Молоко приготовлено, стоит в кринках у западни. Спустился в погреб, составил кринки вокруг кадки с солёными огурцами. Достал из кадки огурец, вылез из погреба, кусая его на ходу, глянул в печь. Дрова догорали, превращаясь в угли. Лишь одно сучклявое полено оставалось головёшкой. Я поколотил его кочергой, но оно явно не хотело превращаться в угли. Ну, думаю, из-за этой головёшки выстужу печь. Закатил её кочергой на совок и вынес в огород за хлев. Надо было засыпать её землёй, чтоб потухла, а я поторопился к печи – надо было её поскорей закрыть, чтобы жар сохранить. Ну конечно, как бабушка велела, загрёб оставшиеся угли и золу в загнётку и поставил в печь чугуны. Прошёлся по избе и думаю – а бабушка без дела по избе не ходит. Я тоже должен быть чем-то занят. А что мне бабушка наказала? Про печь, про чугуны, про клушку. А больше не знаю что. Не то забыл, не то прослушал спросонок-то. Походил, походил по избе – ничего больше не вспомнил. Стал искать, чем бы заняться. Стул у бабушки один разболтался – ножки ослабли. Повертел стул, покумекал, как исправить? Инструмент какой-то надо. А какой у бабушки есть инструмент? В одном углу стоят какие-то строганные, потемневшие от времени брусочки. На них набросаны старые мешки и грязные тряпки. Снял я с брусков эту ветошь и увидел за ними прижатый к стене плотницкий ящик с инструментами. Там были разные рубанки, стамески, бурав, молоток, выдерга и много ржавых гвоздей. Я достал ящик, занёс в избу, встал перед ящиком на коленки и стал соображать – как воспользоваться этими инструментами, чтобы починить стул? Долго вертел в руках рубанки и стамески, проверял их остроту. Но как ими воспользоваться придумать не мог. Порылся в ржавых гвоздях. Они все были гнутые. Вдруг в нос ударил запах дыма. Я глянул вверх. По сторонам, отовсюду на меня наваливал серым одеялом густой дым. Я вскочил на ноги и оказался в дыму. Закашлялся, присел – за окнами играет пламя. Пожар! – мелькнуло у меня в голове. Выскочил в сени, хотел открыть дверь, чтобы выбежать на улицу, но обжёг ладонь о скобу. Дверь сквозь щели дразнилась языками огня. Я снова вбежал в избу, но там уже не чем было дышать. Схватил кочергу, выбежал обратно в сени и кочергой за скобку открыл дверь. В лицо пахнуло нестерпимым жаром. За дверью бушевало пламя, такое, что близко невозможно подойти. А выхода больше нет. Что делать? Раздумывать некогда. В подполье? Нет. Дом сгорит, рухнет и задавит. Да там испечёшься, как в костре картошка. В погреб? Конечно в погреб. Там глубже и прохладней – не испекусь. И я юркнул в погреб, закрыв за собой западню. Некоторое время я чувствовал прохладу и сырость погреба, но вскоре услышал потрескивание западни. В погребе темно – хоть глаз выткни, но надо как-то ориентироваться. Я начал водить по сторонам руками. Ущупал кадку с огурцами. Раскрыл её и стал ладошкой черпать и брызгать на западню. Ладошка – посудина неудобная. Я вспомнил про кринки с молоком. Нащупал их и плеснул из одной на западню. Но кринка – такая посудина, что больше молока выплеснулось не на западню, а на меня. Тогда я разбил кринку, выбрал черепок побольше и стал им черпать из кадки рассол и плескать на западню. Это оказалось удобней, чем ладошкой. Западня настолько раскалилась, что когда я брызгал, шипела и издавала кислый запах. Вскоре воздух в погребе настолько насытился этим запахом, что у меня закружилась голова и стало тошнить. Прохлада в погребе стала сменяться теплом, оттого тошнота усиливалась. Появилась усталость. Ну, думаю, сгорю. Нельзя расслабляться. Напрягая все свои силы я продолжал брызгать рассол. Огурцы уже не давали его черпать. Я их выкидывал на пол, наступал на них. Вдруг поскользнулся и уронил одну кринку. Молоко разлилось под ногами и ещё больше стало скользко. Вверху что-то затрещало и ухнуло. Западню проткнуло концом горевшего бревна. В погребе стало светло и сразу жарко. Ну, думаю, конец тебе, Васька, приходит! Я уже все огурцы из кадки выкидал и рассол кончился. Но бревно-то надо тушить, иначе от него и дым, и жар. Западня от бревна быстро загорелась и стала посыпать меня искрами. Я вылил из остальных кринок молоко в кадку, смешал его с остатками рассола и стал брызгать на бревно. Слава Богу бревно погасил, а западня на половину успела сгореть и упала в погреб. И её потоптал, чтоб не горела и не дымила. Изба, видимо, в основном сгорела – шуму стало меньше и до моего слуха стали доноситься отдельные звуки человеческой речи. «Люди сбежались, – подумал я, – тушат».
Тушили люди или не тушили, я не видел, только от избы остались одни головёшки, завалившие лаз у погреба, в котором я сидел на опрокинутой кадке и плакал от горя, от стыда и страха. Пока изба горела, в погребе стоял гул, как в бочке – я чуть не оглох. Но вот изба сгорела, гул унялся и наверху стали отчётливо слышны человеческие голоса. Кричать из погреба, просить, чтобы меня освободили, я не думал. Я боялся, что меня накажут и мне было стыдно. Ведь пожар случился по моей вине. Голоса то приближались, то отдалялись. Похоже было, что там, наверху, что-то искали. Но что там было искать? Всё сгорело. Слава Богу, хоть корова и овцы отправлены в стадо. Остальное всё – бабушкина одежда, постель, посуда – всё сгорело. Бабушка теперь нищая. Я сидел и думал – как я буду оправдываться? А зачем оправдываться, коль виноват? Что теперь мне будет? Бедная бабушка! Где теперь она будет жить? Ну конечно, у нас. Куда ей ещё податься? Как она будет переживать! В обморок упадёт, когда увидит сгоревшую избу. А клушка сгорела и цыплятки вылупиться не успели. Тысячи мыслей заполнили мою голову. Оттого в ней стоял какой-то звон, перемешанный с шумом. Горло сдавило от горя и слёзы бежали ручьём. Я перестал обращать внимание на голоса наверху. Сидел, до боли вцепившись в свои волосы и ругал себя. Долго сидел. Наверху всё утихло – люди, видимо, разошлись. В погребе запах рассола смешался с запахом гари. В руках и ногах появилась страшная слабость, смешанная с дрожью. Я явно угорел. Сквозь головёшки, завалившие лаз, звёздочками проникал в погреб летний день. Мне охота было лечь. Но куда? Под ногами грязно от растоптанных огурцов и разлитого молока. Да и пол в погребе оставался холодным. Я положил на пол деревянную крышку от кадки, сел на неё, упершись спиной в стену, и заснул. Слабость переборола. Сидя спать было очень неудобно и я часто просыпался, пытался поменять позу, и снова засыпал. Слабость в теле и шум в ушах долго не проходили. Только под вечер я начал приходить в более-менее нормальное состояние и почувствовал, что хочу есть. В стороне от кадки я нашёл миску с творогом. Долго не решался залезть в миску руками. Про ложку думать не приходилось. Руки были грязные и вымыть их возможности не было. Была не была, поем, что называется, по-свински. Потом я решил, что из погреба надо всё же выбираться. Попробовал вытолкнуть бревно, проткнувшее западню. Не тут-то было – ни силёнок, ни удобства. Стал его расшатывать, чтобы оно упало в погреб и дало доступ к другим головёшкам. Это мне удалось не сразу. Но всё-таки я его уронил. Потом поднялся по ступенькам лесенки, упёрся спиной в головёшки, оставшиеся от западёнки, и попытался растолкать их по сторонам от лаза. В это время мимо пепелища шли мужики (должно быть с работы), заметили, что головёшки шевелятся, окликнули: «Кто тут?» – «Я», – отозвался я из-под головёшек. «Кто ты?» – «Я – Васька…, из Кокошино».
Я думал мужики мне помогут выбраться, но услышал топот убегающих ног. Куда они? – подумал я. Вот бессовестные – помочь не захотели. Меня на миг охватило зло. Я с силой приподнял остатки западёнки, расталкивая их в разные стороны, и вылез наружу сам. Выйдя из погреба я побежал прочь от деревни. Естественно, побежал домой. Но, отбежав с полкилометра от Мякошино, одумался – как меня мама встретит? А там и бабушка… Страшный стыд меня остановил. Постояв немного на месте я направился в Лубянку, к дяде Серёже. День был на исходе. По дороге мне могли встретиться люди, возвращающиеся с работы. А я выглядел страшнее самой грязной свиньи. И вообще мне не хотелось ни с кем встречаться. Пошёл окольными путями. Зашёл на речку, вымылся, сполоснул штаны и рубашку. Ждать, когда они высохнут, не стал – натянул на себя. Летом обсохнуть недолго. К дяде Серёже я пришёл, когда уже солнышко закатилось. Зашёл во двор через огород, обойдя деревню. Никто меня не видел. Дядя Серёжа вышел на крыльцо на мой стук и сильно удивился: «Васька! Ты жив?! Где ты был?» – «Жив, – говорю. – В погребе». – «В каком погребе? Я был на пожаре. Мы тебя искали-искали, бесполезно. Решили, что ты сгорел». – «В погребе я спасался». – «В каком погребе? А где погреб-то?» – «В сенях он был. Не успел…, не смог я выбежать, вот в погреб и залез». – «Вот, чёрт… А мы про погреб-то и не знали. Как же ты там не испёкся-то?»
Дядя Серёжа взял меня за руку и завёл в избу. Там я всё подробно и рассказал. Как всё случилось, как спасался, как угорел, как выбрался, как сюда пришёл. Тётя Тая слушала и часто вскакивала со стула, сама не зная для чего, охала, всплёскивала руками и так жалостно на меня глядела, что мне было неудобно глаза поднять… от стыда. Дядя Серёжа незаметно для себя закурил, внимательно слушая. Тётя тая пару раз отмахнулась от дыма, потом строго на дядю Серёжу посмотрела. Он спохватился, обругал себя за дурную привычку, извинился и бросил сигарету в ведро под умывальником. «Да, Васька, нехорошо получилось, – сказал он. – Слава Богу, что ты жив остался. А вот с бабушкой твоей плохо». – «А что с ней?» – вскочил я со стула. «Плохо, Васька, плохо». Дядя Серёжа прошёлся по избе и задумчиво добавил: «Дай Бог, чтоб она поправилась». – «Да что с ней?» – снова спросил я. «Не пережила она такую беду, Васька. Паралич… Парализовало её. Руки, ноги и язык отнялись. Лежит, как варёная».
Я бросился к двери. Тётя тая поймала меня. «Ты куда?» – «Домой», – говорю. «Ну куда ты на ночь-то глядя?» – «Домой», – повторил я. Дядя Серёжа подошёл и взял меня за другую руку. – «Поздно, Васька, торопиться. Да и какой смысл появляться ночью? Ты сейчас дома переполох устроишь, только хуже будет». – «А вдруг бабушка умрёт и не узнает, что я жив. И я не успею прощенья у неё попросить». Дядя Серёжа отпустил мою руку, почесал затылок. «Ладно, Васька. Я сейчас пойду, возьму машину и тебя отвезу».
Дядя Серёжа собрался и ушёл, а я сел у порога ждать. Тётя тая, сев рядом, всё меня разглядывала – нет ли ожогов, синяков или царапин. Иногда пробовала гладить, как котёнка. От этого почему-то стало грустно и я заплакал. Тётя Тая обняла меня, прислонила лицо к моей груди и тоже заплакала, запричитав: «Какой же ты, Васенька, невезучий! И всё-то с тобой что-то случается. Господи ты, господи… И что это на тебя за напасти?» Мне от того ещё пуще хотелось плакать. И мы долго не могли успокоиться. Под окнами послышался звук машины, потом вошёл дядя Серёжа. Тётя Тая решила ехать с нами, но дядя Серёжа её отговорил: «Зачем лишний раз расстраиваться? Наглядишься на бабушку, ночью спать не будешь». И тётя Тая осталась, а мы поехали в Кокошино. Дорогой мы спланировали, что дядя Серёжа в избу войдёт первым, чтоб не делать неожиданностей для мамы и бабушки. Подъехав к воротам мы так и сделали – я остался в машине, а дядя Серёжа пошёл в избу. Минут десять я сидел в машине и ждал, когда меня позовут. Выбежала мама. Выбежала торопливо, не закрывая ни дверь, ни калитку, и прямо к машине. Вцепилась в ручку дверцы, затрясла её, дёргает дверцу, открыть не может. А сама раскосматилась, по щекам слёзы ручьём. Я смотрю на неё сквозь стекло и думаю – что сейчас будет? Или рвать меня в клочья будет, или обнимать, как бывало? Я помог ей открыть дверцу. Она в меня вцепилась и потянула из машины, но вдруг как-то обмякла, обессилела, рухнула на землю, отпустившись от меня. «Обморок», – мелькнуло у меня в голове. Я выскочил из машины и стал её поднимать. «Мама, мама, что с тобой, мама?» Но она не отзывалась, словно находилась во власти глубокого сна. Подошёл дядя Серёжа, взял её в свои сильные руки и понёс в избу.
«Вот видишь, Васька, что получается?» – говорил он на ходу. Я виновато плёлся за ним и молчал. Дядя Серёжа положил маму на кровать и пошёл к бачку с водой. Мама простонала, но лежала неподвижно. Дядя Серёжа подошёл с кружкой, набрал в рот воды и брызнул ей в лицо. Она продолжала лежать безучастно. Дядя Серёжа снял с гвоздя кухонное полотенце, утёр её лицо и брызнул ещё раз. Мама глубоко вздохнула и открыла глаза, посмотрев на дядю Серёжу как-то безразлично. Потом медленно повела глазами в мою сторону. Увидев меня, она хотела протянуть в мою сторону руки, но они, видимо, не послушались, и она снова закрыла глаза. Но через несколько секунд снова их открыла, одновременно опуская ноги с кровати.
«Господи, да что же это делается-то на белом свете?» – простонала она, прижимая ладони к вискам. Я встал перед ней на колени, а она поймала мою голову и стала перебирать в пальцах волосы. Я не знал с чего начать свои оправдания и извинения. Да и к месту ли они сейчас? Дядя Серёжа молча за нами наблюдал, разговоров не заводил, чтобы всё само собой образовалось. Минуты две мама ворошила мои волосы, потом каким-то хворым голосом спросила: «Васька, как дальше жить-то будем?» – «Ну зачем так расстраиваться и убиваться? – сказал дядя Серёжа. – Надо радоваться – Вася жив!» – «Радоваться», – повторила мама всё тем же хворым тоном, глядя куда-то в пустоту. «Ну конечно, – продолжал дядя Серёжа. – Остальное наживётся. Без беды жизни не бывает. Не знали бы мы, что такое беда, и радоваться бы не умели», – философствовал дядя Серёжа. «Радоваться, – повторила мама. – А бабушка?..»
Я вскочил на ноги и повёл взглядом по избе. И только тут заметил в правом углу ширму, за которой, я догадался, лежала на кровати бабушка. Я пошёл к ней. Она лежала неподвижно, молча, чуть приоткрыв глаза, и глядя в потолок. На моё появление она никак не реагировала. Я окликнул её, но она никак не отреагировала. Слышит ли она? – подумал я. Может у неё и слух пропал? Я наклонился над ней, в надежде, что она меня увидит. Но взгляд её остался безразличным, по-прежнему устремлённым в одну точку. «Может она спит так, с открытыми глазами», – подумал я. Потрогал её за плечи, погладил по волосам, приложил ладонь к щеке. Она медленно повернула голову и долго смотрела на меня. Наверное ей хотелось что-то мне сказать, но не могла. Я встал на колени и стал просить прощения: «Бабушка, миленькая, я не хотел…, я дурак, не засыпал землёй головёшку. Я поторопился…, не сообразил… Прости. Виноват я. Как теперь? Бабусенька, миленькая, ну поправляйся, накажи меня… хоть ремнём, хоть палкой. Я всё для тебя буду делать. Только пожалуйста поправляйся».
Слышала ли бабушка меня, простила ли – не знаю. Ни одного звука, никакого движения. Только смотрела на меня и всё. Я просил прощения и плакал, но никакого отражения в её глазах не замечал. Подошла мама и увела меня от бабушки. «Хватит, Вася. Дай ей отдохнуть. Плохо ей. Она уж ничего не ест и не пьёт».
Пока я просил у бабушки прощения дядя Серёжа уехал. Мама спросила, сыт ли я? А я и забыл, что этим надо заниматься. «Нет», – говорю. Мама принесла кринку молока, положила на стол хлеб. «Ешь, ничего я сегодня не готовила. Некогда было. Да и, думала, не для кого. Все решили, что ты сгорел. Бабушка так и сказала… и тут же ей стало плохо». Мама села напротив меня за стол, прижала к глазам платок и заплакала. А когда поел, попросила: «Ну расскажи хоть, где ты был? Как всё случилось?» – «Дурак, – говорю, – я. Бить меня мало». Ну и рассказал ей всё, как было. Обняла меня мама и долго молча сидела, раскачиваясь. «Ну, что ты молчишь? – спросил я. – Хоть бы побранила, попрекнула, что ли?» – «Боюсь я, Вася, за тебя. Всё у тебя не как у людей. Приключение за приключением и все страшные». – «Так ведь я, мама, не хочу их…, они сами». – «Понимаю, Вася, что сами. От того и боюсь. Чем всё это кончится?»
Время перевалило за полночь и мы легли спать. Ночью мама несколько раз вставала. Я слышал, но каждый раз быстро засыпал снова. Под утро бабушка скончалась. Мама встала в очередной раз, увидела упокоившуюся бабушку, громко заплакала-заголосила, запричитала. Я вскочил. «Что случилось?» – «Бабушка умерла».
Мама засуетилась – закрыла самовар, зеркало, прибрала разбросанную по избе одежду, убрала ширму, прикрыла бабушку с головой белой тряпкой, собрала со своей и моей кровати постели, унесла в чулан. Мне велела всё лишнее из избы выносить – ширму, кровати, одежду со стен и прочее. В избе стало просторно. Как есть чужая, не наша изба. Мама поставила у постели бабушки стул, присела и опять громко заплакала, запричитала. Я не мог это спокойно слушать и тоже плакал.
Заглянула в дверь бабка Агафья: «Аль чего случилось?» Увидев плачущую маму у бабушкиной постели, подошла, перекрестилась и тоже вытерла кончиком платка свои глаза. «Когда отправилась?» – спросила она маму. «Да вот только что…» Бабка Агафья снова перекрестилась. «Царство ей небесное. Не намаялась. Счастливая». Глянула на меня. «А этот щенок-то опять жив?!» Не переставая креститься она опасливо попятилась и ушла.
Мама печь топить не стала – не до варева. Пошла в правление, отпрашиваться с работы, а мне велела смазать петли у ворот, чтоб не скрипели. Обычай у нас такой – уж если провожать в последний путь, так не сердито, без скрипа. Ну я смазал, проверил, не скрипят. Во дворе прибрался.
И повалили в избу бабушки-старушки – сначала Кокошкинские, потом и Мякошинские – кто просто глянуть, кто у бабушки прощенья попросить. Проходя мимо меня все бабки ускоряли ход и обязательно крестились. А когда я заходил в избу, быстро уходили. Потом мама мне сказала, чтоб я ушёл к дружкам и дольше не приходил – бабушку обмывать будут. Ну, я пошёл к Серёжке Рубцову. Его не оказалось дома. Пошёл к Федьке Шагалову – тоже нет дома. Постучался к Борьке Куляке. Даже ворота не открыли. Пошёл к Вовке Мякуке. Он дальше всех живёт – почти в конце деревни. Иду, навстречу попадаются люди – не то, что не здороваются, шарахаются от меня, как от страшного зверя. Не пойму, что за новый обычай? Стараюсь на это внимания не обращать, но это невозможно. Пришёл к Мякуке – в избу меня не пустили. Вовка сам ко мне вышел. Поздоровался как-то неприветливо.
«Чего тебе надо?» – «Ничего, – говорю, – не надо». – «А зачем пришёл?» – «Ни зачем. Бабушка умерла. Обмывать её будут – меня проводили, чтоб не мешался». – «Некогда мне, – сказал Вовка. – Иди, погуляй. Обмоют – домой вернёшься». И закрыл передо мной калитку. Я почувствовал себя как в чужом мире. Все меня боятся. Никому я не нужен. Чудеса да и только. Даже хуже. Постоял у калитки, не по себе мне как-то стало. Вошёл бы, да не пускают. Нищий я – не нищий? Кто я? Не знаю. Пошёл без цели до конца деревни. На конце дед Никита живёт. Дед из ворот вышел, куда-то идти собрался. Но, увидев меня – вернулся. Ну, думаю, это какое-то издевательство. Мне не только было неприятно, я был просто возмущён. Что я такого дурного сделал? Кого я обидел? Кому напакостил?
Деревня кончилась. Дальше была развилка: налево – в Мякошино, направо – в Костышевский лес. В Мякошино мне теперь больше делать нечего. Я свернул направо. В Костышевский лес мы всегда ходили по грибы. Нынче мне не до грибов – бабушка умерла, а я такое натворил, сам себе простить не могу. Камень на сердце. В голову ничего не лезет. Ничего мне не надо, на всё наплевать. И без цели, и без плана потихоньку дошёл до леса и лёг в траву под первой попавшейся берёзой. Грустные мысли не покидали меня. Я думал о бабушке. «Бедная бабушка! Оставил тебя сиротой дедушка. Двадцать с лишним лет жила только памятью о нём. С мёртвым с ним разговаривала, советовалась, горем и радостью делилась. Только помощи от него не ждала, не просила. И вот не стало бабушки – угасла память о дедушке. И во всём виноват я. А мама? К кому она теперь пойдёт поделиться радостью или поплакаться в беде? Эх! Преступник я! Преступник!» К горлу подкатывал комок и мне постоянно хотелось плакать.
Под рубашку залезли муравьи, отвлекая меня от мыслей о бабушке. Я немного успокоился и встал. По давней привычке, оказавшись в лесу или на опушке, глаза сами устремляются под кусты в поисках грибов. Так и в этот раз. Немного в стороне от этой большой берёзы стояли несколько берёзок молодых, а под ними красовался подберёзовик. Это был семенник – в пищу непригодный. Переросшие подберёзовики всегда червивые и в супу превращаются в кисель. Собирать их у нас не принято. Мне хотелось увидеть молодого, хотя грибы в этот раз мне были ни к чему. Я просто так шагнул в сторону молодых берёзок, но, бросив на них невнимательный взгляд, отвернулся. С северной стороны берёзы зеленела сочная трава, но ей явно что-то мешало расти плотней. Сквозь неё просвечивало что-то грязно-жёлтое. Я лениво подошёл и отвёл в сторону стебли ногой. В траве были спрятаны кем-то прибранные, но, видимо потом забытые, лосинные рога. Положили их, видимо, ещё по весне – они хорошо успели зарасти травой. Я взял один рог и удивился, какие они оказывается тяжёлые! Ого! Взял и второй. Определить было непросто – который левый, который правый? «И как только их лось на голове носил, тяжесть такую?» – подумал я и бросил их обратно. Немного постояв собрался было уже домой, но подумал: а не пожалею ли я потом, что оставил их тут лежать? А кто-то их потом с удовольствием подберёт. Хоть и тяжелы, но я решил забрать их домой. Когда-нибудь пригодятся. Вернувшись по задворью домой я бросил их у крыльца. Бабушка по-прежнему лежала на кровати. Её не обмывали, потому что не готов был гроб.
Мама собрала на стол перекусить. Мы поели и я пожаловался: «А что это от меня все шарахаются как от прокажённого? Бабки все при виде меня крестятся, стороной обходят. И дружки от меня все позакрывались, никто в избу не пустил. Кому я что плохого сделал? Бабушкину избу спалил, так ведь не задумано, невзначай». – «Ох, Вася, ты мой Вася. Давно во всей округе тебя дьяволом считают. В глаза разве только так не называют. До вчерашнего дня ещё многие сомневались, что ты – дьявол. А вчера мужики на ферму прибежали, взволнованные, запыхавшиеся, и рассказали, как ты в пожаре сгорел и из головёшек потом восстал. Велика ли наша деревня? Эта весть моментально всё Кокошино облетела. Из огня живым вышел! Мыслимо ли такое? Ну разве ж ты не дьявол?»
Мама поглядела на меня улыбаясь, провела ладошкой по голове: «Не расстраивайся, потерпи. Всё утрясётся и встанет на свои места. Люди, они всегда торопятся с выводами. Истина когда ещё до них дойдёт? Было бы начало, а уж они сами конец придумают. Ну вот… ты повод подашь, а они фантазируют. Помнишь, как корреспондент написал? Нырнул в воду у Крутого яра, а вынырнул дома. Они ведь ему поверили. В дьявола тебя превратили, сами себя запугивают».
Хоть мама меня и уговаривала, и утешала, но в душе у меня что-то осело такое, что не поддавалось ни внушениям, ни утешениям. Какое-то чувство обиды не угасало во мне. В связи с подготовкой похорон бабушки, в избу заходили и выходили разные люди, и почти все поглядывали на меня искоса, с опаской.
«А что, – спрашиваю маму, – дьявол, он хищный? Вредный? Заразный? Опасный?» – «Не знаю, Вася. Считается нечистой силой. А что это такое? – мама пожала плечами. – Не знаю».
Люди заходили часто и я стал от них прятаться – то в чулан, то в коровник. В коровнике бабушкина корова и овцы томились. Их в Кокошкинское стадо пускать было рано – они ещё к новому двору не привыкли и из стада дорогу будут искать домой – в Мякошино. Ну, я им носил свежей травы с огорода. Но не без конца же было мне этим заниматься? Словом, игра в прятки мне быстро надоела. А тут ещё мужики привезли на лошади гроб, внесли его в избу, оттолкнули меня: «Ну-ка ты, дьявол, не мешайся под ногами».

