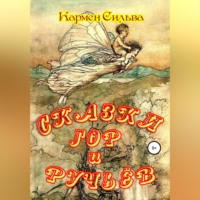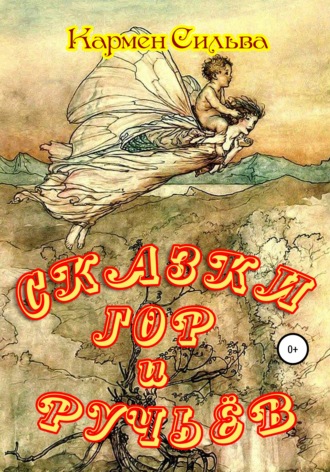
Полная версия
Сказки гор и ручьёв

Кармен Сильва
Сказки гор и ручьёв
Предисловие
Имя Кармен Сильвы, автора многих задушевных стихотворений и изящных рассказов, давно уже пользуется громкою известностью в литературе. Имя это, как известно, псевдоним румынской королевы Елизаветы. Вот как сама королева Елизавета объясняет во введении к сборнику своих стихотворений «Meine Ruh» выбор этого псевдонима:
«Carmen das Lied, und SyIva der Wald,
Von selbst gesungen das Waldlied schallt
Und wenn ich im Wald nicht geboren war,
Dann säng’ich die Lieder schon längst nich mehr».[1]
Королева Елизавета, по своему происхождению, немецкая принцесса, дочь князя Германа Вид и его супруги Марии, урожденной принцессы Нассауской. Она родилась 29 декабря 1843 г. в замке Нейвид. Видский княжеский дом уже издавна славился многими своими представителями, стяжавшими себе почетное имя на поприще науки и литературы. Среди предков принцессы Елизаветы насчитывается немало выдающихся писателей, путешественников и учёных. Сам отец принцессы известен своими философскими трудами; ему принадлежит сочинение: «Des unbewusste Geistesleben und die gottliche Offenbarung». Высокоинтеллигентная атмосфера окружала, таким образом, принцессу Елизавету с самого раннего детства. На образование ее также было обращено ее родителями немало внимания. Ее первоначальным воспитанием руководила девица Иоcce, оказавшая благотворное влияние на живого и богато одарённого ребенка. Пребывание ее родителей в Бонне и Гейдельберге, где их дом посещали многие ученые и литераторы, как например, Мориц Арндт, Бунзен, Ньюкомм, Шпрингер, Гельмгольц, Гервинус и другие, путешествие по Швейцарии и северной Италии, поездка к Берлинскому двору и, наконец, в Париж для окончания образования, также не прошли, конечно, без следа в жизни будущей поэтессы. Кроме того, ею было совершено большое путешествие по Европе вместе с русской великой княгиней Еленой Павловной, которая приходилась ей теткой. Во время этого путешествия принцесса Елизавета посетила, между прочим, и Россию, побывала в Петербурге и Москве. В ее письмах к родным находится много указаний на то, какое впечатление произвела на нее Россия и русская жизнь. Описывая в самых лестных выражениях тот приём, какой был оказан ей при русском дворе, принцесса Елизавета говорит, однако, что сам Петербург, как город, не произвёл на нее сильного впечатления. Ей более понравилась, как и следовало ожидать от такой художественной натуры, Москва с ее оригинальной архитектурой, старым Кремлём и живописными окрестностями. Интересовалась она и Троицко-Сергиевской лаврой, как ярким образчиком Византизма, столь чудного и мало знакомого западному человеку.
В 1869 г. принцесса Елизавета вышла замуж за князя румынского Карла, второго сына князя Антона Гогенцолерна и принцессы Баденской. Тяжелое время, которое переживала в те годы Румыния, как от внутренних раздоров, так и от внешних неурядиц, германско-австрийской и позже русско-турецкой войны, все это поставило молодую королеву, как говорится, лицом к лицу с жизнью и заставило ее посвятить себя общественной деятельности. Деятельность эта, по ее результатам может быть признана в высшей степени плодотворной. Имя королевы Елизаветы всегда будет с чувством благодарности вспоминаться теми из служивших в румынской армии, которым пришлось пострадать в последнюю турецкую кампанию. Целый ряд учебных и благотворительных заведении в Румынии, каковы: «Asyle Helene», „Scola Elizaveta Doamna», «Concordia» и «Furnica», общая задача которых сводится к призрению бедных и поощрению местной мелкой промышленности, обязаны своим возникновением и поддержкой никому иному, как румынской королеве.

Кармен Сильва (королева Румынии Елизавета, 1843–1916)
В жизни своей принцессе Елизавете пришлось испытать немало горя. Смерть отца, младшего брата, умершего еще в детских годах, и, наконец, уже, в Румынии, кончина своего собственного ребенка, – всё это наложило отпечаток грусти и меланхолии на ее ранние произведения. В высшей степени чуткая и впечатлительная, она отзывчиво относилась ко всему, с чем ей приходилось сталкиваться в жизни, и изливала все свои впечатления в изящных и звучных стихах. Вот почему более ранние произведения ее (сборник «Meine Ruh») – почти исключительно лирического характера.
Потеря близких ей людей, ее встречи в новом отечестве – Румынии, красоты увиденной ею природы, – все это выражает она в ярких образах, продиктованных ей глубоким и неподдельным чувством. Новый период в литературной деятельности Кармен Сильвы наступает с того времени, когда она берется за литературную обработку народных румынских преданий.
Глубоко пораженная потерею своего ребенка, королева Елизавета искала отдыха и забвения, с одной стороны, в заботах о своём новом народе, с другой – черпала вдохновение в его песнях. Живописная природа Румынии, ее глубокие ущелья, тишина которых нарушается лишь шумом потоков, причудливые формы горных вершин, наконец, Дунай с его красивыми берегами, – все это невольно должно было напоминать ей родную Рейнскую родину и тем ещё более привлечь к себе её внимание. Замок Пелеш, летнее местопребывание румынской королевской четы, расположенный у горного потока того же имени, и его окрестности дают богатый материал для поэта. Имена окружных гор – Вирфуль-ко-Дор, Фурника, Пиатра Арса, Йипиа – также породили ряд легенд, вдохновлявших еще до королевы Елизаветы многих румынских поэтов и получивших под ее пером высокохудожественную обработку. Некоторые из ее произведений из этой области, выпущенных в свет под общим названием, «Царство Кармен Сильвы», а именно те из них, которые находятся в сборнике «Рассказы Пелеша», мы и предлагаем теперь русским читателям.
Содержание помещённых в этом сборнике рассказов чрезвычайно разнообразно. Некоторые из них являются объяснением различных названий окрестных с Пелешем горных вершин, пещер и т. п. и по характеру своему напоминают изящные по форме и полные захватывающего интереса по содержанию «Метаморфозы» Овидия, поэтический гений которого как бы сообщился жителям Черноморья, куда был сослан римский поэт. Другие из них, как например, Пиатра Арса и Чахлау, заключаются в себе, кроме того, исторические предания румын; третьи, наконец, изящные легенды, не приуроченные к какому-нибудь определенному месту. Самая фабула их, независимо от вложенной в них идеи, полна интереса; яркие краски южной народной фантазии оставлены в их полной силе в передаче Кармен Сильвы и лишь слишком резкие, и грубые штрихи поэтических образов смягчены ею, а всему произведению, в его целом, сообщён идеалистический оттенок, придающий ему лишь большую ценность. Образы этих легенд в изложении Кармен Сильвы должны глубоко запечатлеться в умах хотя бы самых юных читателей и произвести на них впечатление сами по себе, независимо даже от высоких воплощённых в них идей. Идеи эти, со своей стороны, также не могут не возбудить к себе симпатий. Святость долга, милосердие, стремление найти хоть крупинку хорошего в самых отрицательных типах, вот то высокое и прекрасное, поборником чего является Кармен Сильва в обработанных ею в поэтические образы румынских народных преданиях. Мы не сомневаемся, что чтение румынских легенд Кармен Сильвы доставит высокое художественное наслаждение и подействует укрепляющим и облагораживающим образом на наше подрастающее поколение.
«Рассказами Пелеша» не исчерпываются поэтические произведения Кармен Сильвы из области румынских преданий. Вторая часть «Царства Кармен Сильвы» появилась в 1887 году под заглавием: «Из века в век» («Durch die Jahrhunderte»). Эта часть посвящена почти исключительно историческим румынским легендам. Здесь собраны воедино как рассказы о глубокой древности, о тех временах, когда впервые в нынешней Румынии появились римляне, так и о Средневековье, и о народных подвигах нашего времени. «Они начинаются», – говорит о них сама королева Елизавета в посвящении этого сборника румынскому поэту Александри, известному своими собраниями народных песен, – с поражения Децебала и кончаются падением «Виддина». Рассказы эти не были еще до сих пор переведены на русский язык. Некоторые из них также вошли в наш сборник.
Пелеш
Из недр седого Бучдеша, так много на своём веку видавшего, что он утратил, наконец, и самую способность чему-либо изумляться, бежит, бурливо шумя и пенясь, многоводный лесной поток и, ворочая и крутя, погоняет свои курчавые волны с такою бурною стремительностью, как будто положил себе в разгаре молодых, задорных сил пронестись из края в край по всему белу свету. Лихой он молодец, красавец этот Пелеш! Кудрями рассыпаются курчавые волосы, синеют очи голубые, а при этом и сколько могучей в нём силы! Сколько резвости, удальства и юной заносчивости! Словом, настоящий он сын большой дородной горы!
Существует, легендарное сказание, гласящее, будто Пелеша породило одно огромное и населенное русалками подземное озеро. И действительно, если кому случается подолгу засиживаться на его берегу, погруженным в созерцание его красивого, быстрого и своевольного течения до того, что он позабывает, глядя на эти волны, всякую житейскую суету, тому порою и в самом деле слышится и даже очень явственно пение русалок. По временам же бывает и то, что та или другая из русалочек, взобравшись на какой-нибудь широкий большой лист, пронесется на его глазах вниз по течению бурливо-шумящего Пелеша, шаловливо поглядывая своими смеющимися глазами то в ту сторону, то в другую. Однако же счастье видеть русалку не всякому выпадает на долю, а лишь тому, кто при звоне церковных колоколов впервые открыл глаза на Божий свет и ни разу еще не согрешил ни единым злым помышлением. Ласково проводя своими нежными розовыми пальчиками по курчавым волосам Пелеша, русалки шёпотом ведут с ним беседу о сокрытой в глубине гор общей их родине; Пелеш же, внимая их речам, забавляет их, то и дело, поднося им небольшие зеркала, в которых водяные красавицы могут всласть любоваться своими хорошенькими розовыми личиками. Удивительно чудной он, этот шёпот русалок, – такой же чудной, как и таинственный шелест древесной листвы, когда ее колеблет дуновение лёгкого ветерка. Что же касается Пелеша, то этот усталости не ведает, такой в нём преизбыток резвых молодых сил, столько испытывает он блаженства и радости в своём быстром вольном течении!
Быстро, одну за другую, и всё разнообразными массами катит он все дальше и дальше свои пенистые своенравные волны, никогда не задаваясь вопросом, много ли их или мало у него убывает. Он ведь знает, что там, в недрах высоких гор, есть одно огромное озеро, в котором вода никогда не иссякнет, если только Бучдеш не распадется в прах и морем не покроются Карпаты.
Рассчитывать Пелеш не мастер и никогда не говорит: «Расточать своего богатства я не стану: пожалуй, обеднею!» О, нет, этого он не говорит, а все только погоняет, не ленясь и не скупясь, свои синие волны, орошая их брызгами берега, поя и освежая живительной влагой и растения, и зверя, и человека.
Случается, впрочем, и ему бывать в дурном настроении и сердиться, если весна почему-либо запаздывает, или же осень начнёт не в меру торопиться уступить место зиме. Тут от гнева он весь желтеет и до того грозно надувается, что кажется готовым разнести и исковеркать всё, до чего только удастся ему добраться. Но в такие минуты над ним начинает обыкновенно очень жестоко издаваться буря и сильно его хлещет в наказание, или же, ломая, а не то и с корнем вырывая большие деревья, бросает их ему поперёк дороги, этим затрудняя и замедляя течение своенравной и нетерпеливой кудлатой головы. А между тем, как же ему не сердиться раннему появлению зимы, – ему, которому всегда так тяжело и прискорбно уносить на своих резвых волнах упавшие с деревьев жёлтые поблёкшие листья, – уносить безжизненными и безгласными те самые листья, с которыми так еще недавно весело беседовал он и балагурил?
Не нравится Пелешу и ледяной покров, ибо он чувствует себя очень стеснённым его непосредственною близостью и усматривает в этой его близости к себе желание заставить его замолчать. За Пелешем же водится одна маленькая слабость: говорлив он не в меру и всегда готов без умолку болтать с деревьями, цветами, с камышами, лесными пташками и даже со мхом, что мшится на его же камнях; наконец, он не прочь бывает поболтать хотя бы даже только с самим собою, если уж не находится другого охотника послушать его речей. А между тем, кто же из нас согласился бы говорить постоянно только с самим собою? Ведь даже и самый умный человек и тот, постоянно беседуя только с собою, наверное, очень скоро показался бы себе таким скучным собеседником, каким никогда еще не находил его даже лучший его друг, хотя этот последний уже не раз бывал принуждён, слушая его, вооружаться величайшим терпением.
Пелешу всегда бывает очень приятно своими рассказами возбуждать удивление, а если ему и случается подчас проболтать при этом ту или иную доверенную ему тайну, то большого греха он в этом не видит, как бы ни бранили его за это горы, обзывая «старой бабой». Выслушивая эти упреки, Пелеш только потряхивает своею курчавой головой, да посматривая на лес, плутовато подмигивает, словно желая ему сказать:
– А все-таки тебе бывает приятно послушать меня, не так ли, голубчик?
Мне и самой не раз случалось часами сидеть на берегу Пелеша, и тут, пока я прислушивалась к мерному плеску и шуму его быстро крутящихся волн, мне чудилось порою, будто передо мною среди пены и брызг мелькают – то тонкие пальчики русалки, то крошечная ее ножка, то локон золотистый, и не раз слышались мне то звуки дивного пения, то какой-то странный таинственный шёпот.
Ну, а теперь мне хотелось бы рассказать вам и о том, о чем пели русалки, и то, что поведал мне сам Пелеш.
Ведь всё то, что уже рассказал Пелеш, перестаёт быть тайною, ибо рассказанное им быстро становится известным весьма многим. Про то знают и ели, и сосны, буки и папоротники, мхи и незабудки; a те, что ещё не знают, вскоре узнают благодаря ветру, который до тех пор трясёт и тормошит листья, пока не поведают они всего, что знают, дабы и птицы в свою очередь имели возможность, перелетая из края в край, распространить эти рассказы всё дальше и дальше, пока долетят они до того края, где за отсутствием воздуха, бури перестают бушевать.
Но так как мне природа крыльев не дала, то и распространить эти рассказы очень далеко и быстро я не могу, а потому и расскажу их только одним вам, дети, чтобы пробудить в вас желание самим побывать на берегах Пелеша.
Очень быть может, что вам он расскажет даже ещё гораздо больше, чем рассказал он мне; тому же из вас, в голове которого еще никогда не зарождалось положительно никакой недоброй мысли, – наверное, явятся и русалки.
Пока же вы послушайте рассказы как о том, что действительно было, так и о том, – чего никогда не бывало, а если бы не былью было и то и другое, то и рассказывать этого не стал бы старый Пелеш.
Вирфул ку Дор

Однажды в Синайи был большой праздник, и молодежь, веселясь, водила среди улицы хору[2], да такую веселую и оживленную, какой еще никогда не бывало: но день был праздничный, и монастырские монахи ради праздника не поскупились угостить поселян досыта и на славу. Гостей в Синай по случаю праздника собралось со всех – окрестных, как ближних, так и дальних – сел и деревень. – Были тут гости из Изфора и Поеаны-Цапулуи[3], из Камарника и Предеала, и даже из некоторых местностей по ту сторону гор.
День был жаркий, солнце нестерпимо жгло и пекло, и молодые девушки, разгоряченные вдобавок и пляской, поснимали свои головные платки, да и парни сдвинули на затылок свои разукрашенные цветами шляпы с широкими полями.
На траве, с обеих сторон от плясавших, любуясь родным национальным танцем, группами стояли молодые матроны с грудными детьми на руках, и стройные фигуры молодых этих жён в длинных полупрозрачных белых покрывалах, красиво мелькая и там и сям, казались издали яблонями в цвету.
От весёлого топота плясавшей молодежи, ее оживлённого говора и звонкого молодого смеха гулом стоял на улице шум. Грациозно и легко порхали молодым девушки, еле-еле касаясь земли красивыми маленькими ножками, быстро мелькавшими из под узкой юбки. Их белые рубашки были богато расшиты золотом и разноцветными шелками; на шее блестели ожерелья из золотых монет. Не прерываясь шла пляска под немолчные звуки гуслей. Ключом кипела молодая жизнь, и безостановочно, словно кровь в жилах, кружилась молодежь то одною длинною сомкнутою цепью, то несколькими отдельными большими и малыми кругами.
А между тем, немного поодаль, опираясь на длинный посох, стоял молодой красивый пастух и быстрым взглядом своих больших и черных, как спелая ежевика, глаз обводил толпу плясавшей молодежи. Своей фигурой – статной и стройной – он напоминал молодую ель. Из-под белой барашковой шапки густой волною падали до плеч черные кудрявые волосы. Его рубашка сурового цвета была перехвачена у пояса широким кожаным кушаком; ноги были обуты в сандалии. Быстрым и проницательным взглядом окинув толпу веселившейся молодежи, он уставился глазами в одну из молодых девушек и долго, не отрывая глаз, смотрел на нее пристально и нежно. Но молодая девушка, казалось, не обращала никакого внимания ни на него, ни на его горячий взгляд. Она была очень хороша собою, эта молодая девушка; прекраснее всякого цветка, красивее альпийской розы, нежнее и воздушнее эдельвейса. В ее больших красивых глазах искрилось два огонька: один в чёрном зрачке, другой в тёмно-золотистом венчике, окружавшем этот зрачок. Белые ее зубы так и сверкали каждый раз, как раскрывала она свои коралловые уста; волосы у неё были совсем черные с отблеском, как та пропасть, на дне которой, сверкая, бежит прозрачный ручеёк, и красовавшийся у неё на голове венок из полевых цветов не блёк и не вял, словно придавала она ему и свежести, и жизни. Стройный стан её был до того тонок и гибок, что казалось, его можно было бы сломать рукою; а между тем о необычайной силе её ходили целые рассказы. Да, красива, очень красива была Ирина, и Ионель, любуясь ею, был не в силах оторвать от неё глаз. Но вот и он приблизился, наконец, к толпе молодежи и схватил Ирину за руку. Лукаво улыбаясь, взглянули на Ирину молодые девушки; Ирина же – та слегка покраснела.
В эту минуту гусляры вдруг смолкли. Молодые парни принялись в последний раз кружить своих дам, и тут Ионель резким движением дёрнул Ирину за руку. Многозначительно было такое его движение. Однако же Ирина не рассердилась, а только пожала плечами и захохотала.

– Ирина, – вполголоса сказал ей Ионель, – ты видишь вон те поблёкшее листья, что желтеют на том буковом дереве? Не значит ли это, что наступила для меня пора спуститься с моим стадом с горы в долину, в Бараган, а не то, может статься, и в Добруджу, и, стало быть, до весны мы друг с другом больше не увидимся. Итак, скажи ты мне на прощанье доброе словечко, дабы мог я быть спокоен сердцем и не трепетать при мысли, что ты будешь дарить здесь других парней своими взглядами и улыбками.
– Что же мне тебе сказать? Ведь ты же меня нисколько не любишь и очень скоро позабудешь.
– Я готовь скорее умереть, чем забыть тебя, Ирина.
– Это только одни слова, а я словам не верю!
– Что же должен я сделать для того, чтобы поверила ты моей любви?
Ирина искоса посмотрела на Ионеля, причем в глазах ее сверкнул огонёк, и затем сказала:
– То, чего сделать ты не в состоянии.
– Нет, я готов сделать для тебя всё! – медленно и как бы бессознательно проговорил Ионель.
– Неправда! Например, остаться на зиму на горе один без овец – ты не в состоянии, так как для тебя расстаться с твоим стадом тяжелее и больнее, чем расстаться со мною.
– Остаться без моих овец! – промолвил Ионель и тяжело вздохнул.
– Ну, вот видишь ты? – засмеялась Ирина. – Единственное, чего я от тебя желаю, это то, чтобы остался ты там, наверху, на горе один, без твоего стада; ты же сделать для меня даже и этого не можешь! Слова, одни пустые слова!
– А если я это сделаю? – бледнея, проговорил Ионель и крепко стиснул зубы.
Тут молодые девушки и парни, с самого начала обступившие Ирину и Ионеля и слышавшие весь этот разговор, принялись все поочередно кричать ему; «Не делай ты этого, Ионель! Не делай!».
Подошёл к Ионелю и старик пастух с густыми нависшими бровями и головою, убелённою серебристою сединою и, положив руку на его плечо, сказал ему:
– Не гоняйся, Ионель, за молодыми девушками и не слушай ты их речей. Они разобьют тебе сердце, а потом сами же насмеются над тобою. Разве ты не знаешь, что пастуху, покинувшему своих овец, остается только лечь и умереть?
Затем, обратившись к Ирине, старик сердито погрозил ей кулаком и сказал:
– Ты воображаешь себе, что можешь – потому что красива и пригожа – позволять себе все, чтобы ни взбрело тебе на ум, и что ничто никогда не покарает твоего своенравства. Но знай, что всякое злое дело, которое ты делаешь, ты его делаешь, прежде всего, самой себе.
Ирина засмеялась.
– Да ведь никто же не неволит его оставаться, a мне он и вовсе не нужен, – сказала она и затем, круто повернувшись, побежала за монастырь к роднику, чтобы напиться.
Но Ионель ничьих советов не послушал и бледный, и сумрачный направился по дороге к горе. Проходя же мимо Ирины, он только махнул ей рукою.
– Не надо, не делай ты этого! – крикнула она ему вслед и тут же, обратившись к подругам, стала с ними вместе чему-то смяться.
– Не делай этого! Не делай! – увещевал его и ворчун Пелеш.
Но Ионель даже не слыхал, что говорил ему бурливый поток, и под горячими лучами полдневного солнца начал подниматься в гору, проходя горными лужайками, приютившимися под тенью громадных вековых елей, a затем пошёл буковым лесом, держа путь к пастушьей хижине, близ которой находились и его овцы и из которой при его приближении с весёлым лаем выбежали ему на встречу его верные собаки.
Приласкав кудластых своих псов, он начал кликать свою миоритцу[4]: «Брр, брр, ойтца!»[5] На этот клич вместе с ягнёнком прибежала к нему овца и позволила ему впутать себе в волну ту гвоздику, что украдкой похитил он у Ирины.
Попросив остальных пастухов захватить с собою в долину и его стадо овец, он сказал им, что сам придёт туда попозднее, так как обязан сперва выполнить некое данное им обещание.
С изумлением выслушали его товарищи-пастухи.
– Если же я совсем не приду, – добавил он в заключение, – то вы скажите, что меня на свадебный пир пригласила злая кручина тоска.
Затем, взяв с собой свой пастуший рожок, он пошёл дальше, вверх по горе, и все шёл, пока не добрался до самой ее вершины, с высоты которой увидал весь край по ту сторону Дуная до самых Балкан. Здесь он остановился и, приложив к губам свой рожок альпийского пастуха, огласил воздух протяжным, жалобным звуком. После этого он увидал бежавшую к нему со всех ног одну из любимых своих собак, которая добежав до него, начала, виляя хвостом и жалобно визжа, тащить его за рубашку, тянуть вниз с горы, к овцам, так что бедный Ионель, не зная как ему от неё отвязаться, решился, наконец, хотя и со слезами на глазах и с болью в сердца, прогнать от себя верного пса с помощью угроз, брани и камней.
Таким образом, удалив от себя последнего своего друга, Ионель остался один и одинокий стоял теперь среди горной пустыни. Под ним, плавно рассекая воздух, медленно кружились два альпийских орла, и это было единственное, что нарушало царившую кругом мертвую тишину.
Тяжело вздохнув, Ионель растянулся на невысокой траве, и еще долго вздыхал, прежде чем, наконец, заснул весь измученный тоской и душевным томленьем. Когда же он проснулся, то увидал себя окружённым целым морем носившихся вокруг него мягкими клубами облаков, которые, подступая постепенно всё ближе и ближе к нему, сперва отдельными и быстро сменявшимися грядами, вскоре, однако же, начали мало-помалу сгущаться в одну плотную неподвижную и непроглядную стену, которая скоро как бы совсем и навсегда отрезала его от всего остального мира.
И вдруг среди этой непроглядно туманной мглы перед ним стали обрисовываться определённые очертания, и вокруг него, держа друг друга за руки, начали носиться красивые женские образы в белоснежном чудно светящемся одеянии. Ионель потер себе глаза в уверенности, что это грезится ему обольстительное сновидение, и в ту же минуту до слуха его долетели чарующие звуки дивного пения. Нежно и мягко и будто где-то далеко-далеко звучали эти голоса. Но скоро весь этот рой воздушных созданий, обступив его со всех сторон и с любовью простирая к нему объятия, начал звать его к себе.