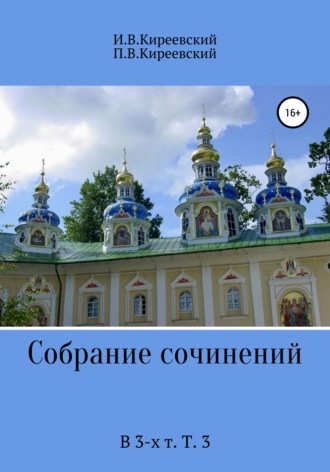
Полная версия
Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3
26. Родным
29 июня 1830 годаКаков я умница! Как я славно обманул вас! Обещал писать через 2 недели, а вот уже прошло с тех пор четыре. Впрочем, беспокоиться вы не могли, зная нас всех вместе, т. е. нас трех[145] плюс Соболевского, который приехал на два дня и зажился здесь целый месяц. Долго ли он здесь останется – еще неизвестно, хотя он собирается каждый день. Думаю, однако, что он увидит Петрушины именины.
Мы начали день итальянским уроком, а кончить думаем в театре, где дается la Muette de Portici[146]. Середину дня еще не знаем, хотя за обедом Рожалин уже предчувствует пробочный выстрел. Итальянский язык наш не идет вперед, а бежит. Скоро мы надеемся приняться за Данта и теперь уже это сделали бы, если бы наш Cavallieri Maffei[147] был не так глуп.
Брат в конце семестра, может быть, поедет месяца на три в Италию, между тем как я отправлюсь прямо в Париж… Рожалин остается еще здесь после нас, чтобы слушать Тирша, на котором он сходит с ума и который ему альфа и омега для греческих и римских. В самом деле, если где-нибудь он может образоваться для своей цели, так это здесь, где он к этому имеет все способы. Впрочем, я боюсь за него в уединении. Уже дрезденская жизнь много переменила его характер, так как вообще характер всякого переменяется в безлюдии, среди людей, которые близки только по месту. Впрочем, я надеюсь, что когда воротится в Россию, то скоро оботрет с себя эту корку посреди тех, с которыми можно жить спустя рукава и расстегнувши грудь, не боясь, что приятели в нее воткнут не кинжал (это бы славу Богу), а иголку, которую заметишь только по боли. Не знаю кто, а, верно, были у Рожалина добрые приятели, которые так его ласкали иголочками, потому что мы еще до сих пор не можем навести на прежнюю колею, хотя и стараемся каждый своим манером, я – философствованиями, а Петруха – своим простым, дружеским, откровенно деликатным обхождением. Вот un grand homme pour son valet de chambre[148]. Такая одинаковость с такою теплотою сердца и с такою правдою в каждом поступке вряд ли вообразимы в другом человеке… Когда поймешь это все хорошенько да вспомнишь, что между тысячами миллионов именно его мне досталось звать братом, какая-то судорога сожмет и расширит сердце.
27. Родным
3 июля 1830 годаСегодня Соболевский отъедет. Он прожил с нами больше месяца и отправился теперь в Милан и оттуда в Турин, где останется месяца два. С его отъездом точно будто уехало сорок человек. У нас опять тихо, порядочно и трезво; что же касается до наших главных занятий, т. е. лекций и пр., то им не мешал и Соболевский, который бурлил только в антрактах, но зато так, что бедный Рожалин всякий день принужден был откупаться от его крика слезами и вином, хотя и это не всегда помогало. Вообще, если бы надо было одним словом назвать нашу мюнхенскую жизнь, нужно было бы сочинить новое слово между скукою и пустотою. Мы здесь плывем на корабле вокруг света, не входя в гавани, по морю без бурь и от нечего делать читаем Шеллинга, Окена и пр. Поблагодарите Языкова за его милую приписку в прошедшем вашем письме и за Раупаха особенно[149].
Я не пишу ни к кому теперь, боясь задержкою письма дать вам лишний день беспокойства, хотя вам, зная нас всех вместе, беспокоиться нельзя по-настоящему, но всегда ли у вас бывает по-настоящему? Извините меня перед Погодиным, если он сердится на мое молчание; скажите, что от лекций и отдыхов у меня нет свободной минуты и что в следующий раз я непременно буду писать к нему. Шеллинговы лекции вряд ли и придут к вам, потому что гора родила мышь. В сумме оказалось, что против прошлогодней его системы нового не много. Не знаю, что еще будет; к тому же пересылка была бы слишком дорога, а переписка слишком скучна. Баратынского обнимаю от всей души. Если я к кому-нибудь буду писать, кроме вас, то, верно, прежде всех к нему. Но до сих пор, судите сами, когда в Москве я не находил времени писать нужные письма, бывши не занят целый день, то здесь, где мне на письма и на отдых остается один усталый вечер, – найти свободную минуту, право, род геройства. Особенно Баратынскому столько хочется сказать, что рука не поднимается начать. Несмотря на то, я уже изорвал одно письмо к нему, потому что когда перечел его, то увидел, что все написанное в нем разумелось само собою и, следовательно, не стоило весовых.
Я получил отменно милое письмо от Шевырева[150], почти все об моей статье, которую он читал, и похвалы, которых она далеко не стоит. Это одно заплатило мне с жидовскими процентами за все брани Булгариных. Надеюсь, что теперь уже замолчали и почувствовали,
Que je n’ai point méritéNi cet exces d’honneur, ni cette indignité[151].Пожалуйста, напишите больше и чаще обо всех и даже неинтересное.
28. Родным
8 июля 1830 годаПосле долгого ожидания получить письмо, в котором от маменьки несколько строчек приписки. Маменьке некогда писать к нам! Впрочем, мы потеряли право жаловаться после того беспокойства, которое доставило вам долгое наше молчание. Хотя мы не так виноваты, как вы думаете. Условие было писать через месяц, а Рожалин отправил свое письмо, не сказавши нам. Если бы кто-нибудь из нас сделал с ним то же, то это было бы непростительно, но с бедного Рожалина взыскивать нельзя, что он не понимает того, что нельзя расчесть умом, когда чувство не наведет на этот расчет. Впрочем, это чувство беспокойства понапрасну мы в семье нашей утончили донельзя. Но, хотя понапрасну, оно справедливо: это необходимый налог, который судьба кладет на великое счастие, и если бы счастие дружбы освободилось от него, то нравственный мир пришел бы в неравновесие. Вы, однако, кроме налога необходимого, делаете еще добровольные пожертвования, и я не понимаю, зачем такое великодушие. Уже потому, что мы оба молчим, должны мы быть оба здоровы и живы и еще к тому заняты. Но вы могли написать два слова между строк, при вашей легкости писать, зная, как нам дорого каждое лишнее слово вашего письма. Даже длина папенькиного письма, который будто сжалился над нами и хотел вознаградить нас необыкновенным усилием за вашу короткую приписку. Вот письмо ваше от 24-го, которое залежалось на почте Бог знает отчего и которое своим милым содержанием и полновесностью говорит мне: дурак, беспокоится понапрасну! Если бы я только мог найти какого-нибудь неподкупного протоколиста, который бы под каждою строкою вашею подписывал: с подлинным верно! Если правда, что вы здоровы и веселы, зачем же беспокоят вас сны? По-настоящему они должны беспокоить не вас, а нас как доказательство вашего не совсем здоровья. Но так и быть, я готов уступить вам это только с тем, чтобы, кроме снов, целую жизнь вашу не беспокоило вас ничто на свете. Со мной 23 марта не было, сколько помню, ничего необыкновенного, и до сих пор мы все беспрестанно здоровы совершенно. За именины мои благодарю от всего сердца. Если вам было весело, то это в самом деле был мой праздник. Что ваши глазки? Отчего вы ничего не скажете об них? И зачем и к чему хвалиться здоровьем? Даже и потому вы не можете быть довольно здоровы, что здоровье ваше нужно для всех нас, следовательно, вам надобно его вдесятеро больше, чем каждому из нас. Планы наши на Париж пошатнулись, хотя, кажется, там опять все спокойно. Может быть, мы поедем в Италию. Шевырев зовет в Рим. Я бы хотел, чтобы вы видели его милые письма! Сколько в них дружбы и сколько жара завидной молодости. Да! Для меня молодость уже качество чужое и завидное, и на всякое кипение восторга я смотрю с таким же чувством, с каким безногий инвалид глядит на усталые движения своих товарищей. Движения Шевырева в самом деле удалые. Чем больше он работает, тем больше становится сильнее и вместо усталости все больше и больше набирается энтузиазма и духа. Он в жизни как рыба в воде, и еще такая рыба, которая может не выплывать на воздух и не дышать чужим элементом. Это качество столько же драгоценно, сколько оно редко в людях с талантом. Мицкевич, говорят, был в Смирне и уже опять возвратился в Рим. Если это правда, то вот новая туда приманка. Впрочем, во всяком случае без писем в Париж все равно что не ехать. С Потемкиным[152] я не знаком. Думая пробыть в Мюнхене только 2 дня, я не сделал ему визита, а через две недели уже было поздно. Теперь, впрочем, я рад, что не в Париже, иначе вы беспокоились бы обо мне еще больше. Италия же во всяком случае не будет бесполезна и для языка, и для памяти, на которой она отпечатает столько изящного. Рожалин остается здесь для того, чтобы учиться по-гречески. В деньгах он не нуждается. Что же касается до нас, то мы не только себе ни в чем не отказываем, но еще тратим много лишнего. Третьего дня мы от 6 часов утра до часу за полночь провели за городом в Штарренберге, катаясь по озеру, которое 5 часов длины и на горизонте сливается с Тирольскими горами. Прогулка эта стоила нам больше 25 рублей, и это была еще одна из всего меньше глупых издержек наших…
Известие о Баратынском меня очень огорчило. Последствия этого рода воспалений всегда двусмысленны. Надеюсь, однако, в первом письме вашем видеть его совсем здоровым. Между тем, как не выпросили вы у него нового романа, как не прочли его до сих пор и не прислали к нам? Я бы теперь охотно написал ему разбор; только побывавши в чужих краях, можно выучиться чувствовать все достоинство наших первоклассных, потому что… но я не хочу теперь дорываться до причины этого, которая лежит на дне всего века. Общие мысли, как важные дела, оставим до утра, то есть до свидания. Вообще все русское имеет то общее со всем огромным, что его осмотреть можно только издали. Если бы вы видели, чем восхищаются немцы и еще каким нелепым восторгом! Нет, на всем земном шаре нет народа плоше, бездушнее, тупее и досаднее немцев! Булгарин перед ними гений! Кстати, дайте мне какое-нибудь понятие об эпиграммах на «душегрейку». Как благодарен я вам, милый папенька, за то, что вы не забыли поделиться с нами университетским заседанием[153]. Знаете ли, что оно и нас тронуло до слез. И народ, который теперь, может быть, один в Европе способен к восторгу, называют непросвещенным. Поцелуйте Погодина, поздравьте его и поблагодарите от нас за подвиг горячего слова. Как бы я от сердца похлопал вместе с вами! Но неужели нам до возвращения не читать этой речи?
Лекции Шеллинга я перестал записывать: их дух интереснее буквальности. Вместо присылки их самих, что стало бы дорого, я лучше напишу вам что-нибудь об них, когда будет время, т. е. когда кончится семестр. Это будет около 13-го этого месяца. Что же касается до регулярности наших писем, то ее лучше не требовать. Ожидая письма наверное в известный день, не получить его хуже, чем просто долго не получать. К тому же последнее, надеюсь, не повторится. Это была с нашей стороны точно непростительная ветреность. Биографию баварского короля[154] писать для альманаха мудрено, особенно когда для этого надобно знать столько подробностей, которых мы не знаем. Биографию Баженова[155] писать из Германии странно, когда вы можете написать ее в России, где встречный и поперечный скажет вам об нем что-нибудь новое. Но если Языков[156] хочет иметь статью от меня, то я готов служить ему сколько в силах. И лучше напишу об чем-нибудь, что меня занимает. Если же статья не понравится, то я напишу другую, третью и так далее. Зачем только он хочет назвать альманах свой душегрейкой[157]? Конечно, это был бы величайший знак дружбы, который писатель может оказать другому писателю, – так открыто одобрить то, на что всего больше нападают, но благоразумно ли это? Несмотря на то, что он <Языков> только для понимающих. Для Булгариных он просто цель, но выше других. Пусть их грязь не долетит до этой цели, но покуда летит, она заслоняет цель от взоров тех, кто внизу, а эти-то низкие и дороги для альманаха. Отсоветуйте ему рыцарствовать, а лучше пусть его воротится к своей «Ласточке»[158]. Уверьте его, что мне довольно знать его одобрение, чтобы быть вознагражденным за критику всех возможных Полевых… Германией уж мы сыты по горло. К Языкову, Баратынскому, Погодину, кажется, я написать не успею. Языкову крепкое рукопожатие за стихи. С тех пор как я из России, я ничего не читал огненнее, сильнее, воспламенительнее. «Пловец» его мне уже был знаком – это тот же, который хотел спорить с бурей, только теперь он дальше в океане. Если ваши глазки здоровы, только не иначе, то окончите мне остальные звездочки. Вместо Катона представьте какого-нибудь мученика в то время, когда ему говорят: пожри богам нашим! Можно вот как: он обнимает посреди стоящий крест, по бокам палачи, вдали народ и разведенные огни, над крестом звезда.
29. Родным
5 августа 1830 годаПоклонитесь Янишам и скажите им, что мы так часто думаем об них и особенно так любим вспоминать их пятницы[159], что им в честь и в воспоминание завели пятницы у себя, с тою только разницею, что вместо одной у нас их семь на неделе. Этот немецкий Witz[160] в русском переводе значит следующее: сегодня мы думаем ехать в Италию, завтра в Париж, послезавтра остаемся еще на некоторое время здесь, потом опять едем и т. д., и вот почему я не могу вам сказать ничего определенного об наших планах. Вероятнее другого, однако, то, что мы проведем осень в Северной Италии, а к ноябрю будем в Риме, где пробудем много ли, мало ли, Бог знает. Между тем я убедился, что для завтра нет наряда больше к лицу, как длинное густое покрывало, особливо когда от нас зависит его приподнять. Не знаю сказать почему, а очень весело беспрестанно делать другие планы и возвращаться к старым, как к таким знакомым, с которыми встретиться весело, а расстаться не грустно. Это похоже на езду в дилижансе, где вместо товарищей немцев с одной стороны сидит Швейцария, с другой madame Италия и спереди monsieur Париж. В этих дилижансах ездим мы обыкновенно за обедом и за вечерним кофеем, потому что остальное время почти все проводится либо в университете, либо за книгами и за итальянскими уроками. В университете теперь лекции скоро кончатся, и потому многие профессоры, чтобы успеть кончить свои лекции, вместо одного раза читают 2 раза в день, что отнимает у нас несколько часов от болтанья, ничегонеделанья и от других непринужденных занятий. Прибавьте к этому необходимость гулять под глубоким яхонтовым небом послеобеденные южные жары, а больше всего мою врожденную и благоприобретенную леность, составьте из всех тех, к кому я до сих пор не писал. Особенно постарайтесь оправдать меня перед милым Баратынским, Языковым и Погодиным. От первого я получил милое письмо, на которое, если успею, буду отвечать сегодня, если же не успею, то на днях, и пришлю письмо к вам…
В Италии больше картин и статуй привлекает меня небо. Южное небо надобно видеть, чтобы понять и южную поэзию, и мифологию древних, и власть природы над человеком. Это небо говорит не воображению, как северное, как звезды, как буря; оно чувственно прекрасно, и нужно усилие, нужно напряжение, чтобы любоваться им. Здесь небо так близко (несмотря на то, что глубоко), так близко к человеку, что ему не нужно подыматься на пальцы, чтобы достать до него, между тем как на севере надобно взгромоздиться на целую лестницу оссиановских теней, чтобы небо сделалось ощутительным. Вы знаете, что я никогда не был энтузиастом природы, но на этот яхонт смотрю иногда, право, почти с таким же чувством, с каким смотрит на яхонт жид. Так и рвется из груди вздох Гете и Веневетинова[161]: отдайте мне волшебный плащ. Впрочем, здесь мы редко видим этот яхонт. Близость гор и возвышенность места дают нам очень часто погоду английскую. Зато тем больше наслаждаемся мы хорошею. Иногда, однако, когда вспомнится, что на севере Россия, захочется и бледного неба. Но чуть ли я не рассуждаю с вами о погоде? Вот что значит побыть 7 месяцев в Германии! Впрочем, жизнь наша здесь так однообразна, так уединенна, что если выключить то, что мы думаем о вас, что читаем и слышим на лекциях, то чуть ли не останется говорить об одной погоде. Но повторять вам слышанное на лекциях было бы скучно, и мудрено, и смешно, и дорого, повторять читанное в книгах не лучше, а мысль об вас – как итальянское небо, которое можно понять только чувством и которое в описании будет только слово. Эти мысли, впрочем, как-то не доходят до мысли; они то память, то чувство, то воздушный замок, то сон и никогда не силлогизм. Покуда думаешь их, не думая о них, кажется, наполнен мыслями; захочешь рассказать – ни одной не поймаешь в слово. Тем больше что все это, кажется, рассказывать не для чего. В самом деле, к чему вам знать, что тогда-то я думал то-то: то как вы сидите вместе, то как гуляете в саду, то здоровы ли вы, то как я прощался с вами, то Языков читает на столе стихи, то у вас болят глазки, то вы здоровы и веселы и думаете об нас, то как мы спорим с папенькой о политической экономии, то толкуем о Шеллинге, то Андрюшка[162] дернул бровкой, то Васька[163] сочинил стихи и пр. Кстати, отчего вы не пришлете нам ничего из детского журнала? Еще больше кстати: как можно печатать мое письмо о Шлейермахере? Не потому только, что слог, как вы говорите, не отделан и что показываться в халате перед теми друзьями, которых мне сделало мое обозрение с «душегрейкой», было бы безрассудно, а перед незнакомой публикой неприлично, но потому, что я говорю об людях живых и к тому же не так, как я говорил бы публично.
<…> Пожалуйста, поверьте моим опытам и несомненному убеждению, что видеть меня таким, каков я в самом деле, и вместе любить может только моя семья. Немногие друзья мои – не все исключение: из них многие любят такие качества, которых я не имею. Но и вы, разве я ваш не в тысячу раз лучше меня настоящего… К Баратынскому я написать не успел. До сих пор еще не отвечал Шевыреву. Но скоро кончатся лекции, и тогда я примусь за письма, может быть, еще напишу что-нибудь для языковского альманаха, разумеется, не в таком роде, чтобы одолжить его столькими приятелями, сколькими мне обязан Максимович… Благодарствуйте за то, что часто бываете под Симоновом; только что же вы так долго не пишете? Пришлите непременно роман Баратынского и то, что есть нового: Пушкина, Языкова, Вяземского и, если можно, хотя предисловие к «Борису»[164]. Откуда такая досада на славу? Неужели лишь Булгарины могут заставить Пушкина молчать?
Прощайте. Пишите больше и чаще и даже о том, что вам кажется неинтересным.
30. М. В. Киреевской
8 августа 1830 годаДружочек Маша! Сегодня твое рождение, и, чтобы освятить себя на этот день, я начинаю его письмом к тебе, милая сестра. Мудрено и грустно начать твое рождение письмом. За год назад, когда я был с вами, – вечер. Вот что я успел написать к тебе сегодня, только я проснулся, т. е. в 7 часов поутру. Но вместо того чтобы продолжать письмо свое, я засмотрелся на эти 3 строчки как будто на Рафаэлеву картинку, и до тех пор покуда брат и Рожалин вошли в мою комнату поздравляться, т. е. до 9-ти часов, – что же я делал в эти 2 часа, ты этого не спросишь. Может быть, ты сама в это же время думала об нас и знала, что если мы и не пришли к тебе сегодня поутру поцеловать тебя и поздравить, то мысли наши были с тобою еще прежде, чем ты проснулась, даже прежде, чем мы сами проснулись. Знаешь ли ты, что я во всяком сне бываю у вас? С тех пор как я уехал, не прошло ни одной ночи, что бы я не был в Москве. Только как! Вообрази, что до сих пор я даже во сне не узнал, что такое свидание, и каждый сон мой был повторением разлуки. Мне все кажется, будто я возвратился когда-то давно и уже еду опять. Сны эти до того неотвязно меня преследуют, что один раз, садясь в коляску, тоже во сне, чтобы ехать от вас, я утешался мыслью, что теперь, когда сон мой исполнился, по крайней мере я перестану его видеть всякую ночь. Вообрази же, как я удивился, когда проснулся и увидел, что и это был сон. Это род сонного сумасшествия, une idée fixe, qui est venue un rêve permanent. Mais pourquoi fallait-il que cette idée fixe soit la séparation, et non le revoir?[165] Хоть ты попробуй наслать мне сон со свиданием. Надумай его. Хоть один, а я уцеплюсь за него всею силой воображения и разведу из него целую гряду таких снов. Это будет семечко от цветка: иван-и-марья, которое я посажу к себе глубоко в мысли, и стану за ним ходить, и буду его греть и лелеять, покуда оно пустит корни так далеко, чтобы никакая буря его не вырвала, никакой репейник не задавил. Не смейся над этим. Сны для меня не безделица. Лучшая жизнь моя была во сне. Не смейся же, когда я так много говорю об них. Они вздор, но этот вздор доходит до сердца. К тому же с кем лучше тебя могу разделить его? Между тем, чтобы ты знала, как наслать сон, надобно, чтобы я научил тебя знать свойства снов вообще. Это наука важная, и я могу говорить об ней avec connaissance de cause[166]. По крайней мере я здесь опытнее, чем наяву. Слушай же: первое свойство снов то, что они не свободны, не зависят от тех, об ком идут. Так, если мне непременно надобно всякую ночь видеть вас, то сны мои будут светлы, когда вам весело, и печальны, когда вы грустны, или нездоровы, или беспокоитесь. Оттого если ты хочешь быть моей колдуньей, то должна сохранять в себе беспрестанно такую ясность души, такое спокойствие, такое довольство, которые, сообщившись моему сну, вложили бы в него чувство, невместное с мыслью об разлуке. Разумеется, что так колдовать должны вы все вместе. И для твоей веселости нужна веселость всех, и цветок иван-и-марья растет между машкиной душкой, васильками, лилиями и пр. Второе свойство снов то, что они дети и беспрестанно хватают все, что перед глазами. А так как у меня перед глазами все немцы да немцы, то и во сне они же мешаются с вами. Оттого, чтобы прогнать немцев из моих русских снов, присылай мне скорее свой портрет. Насмотревшись днем на него, на брата, на Рожалина и на все, что приехало с нами из России, я надеюсь по крайней мере во сне освободиться от Германии, которую, впрочем, я не люблю, а ненавижу! Ненавижу как цепь, как тюрьму, как всякий гроб, в котором зарывают живых. Ты из своей России не можешь понять, что такое эта Германия. Все, что говорят об ней путешественники, почти вздор. Если же хочешь узнать, что она такое, то слушай самих немцев. Одни немцы говорят об ней правду, когда называют ее землей дубов (das Land der Eichen), хотя дубов в Германии, кроме самих немцев, почти нет. Зато эти изо всех самые деревянные. Вчера еще брат зацепился за одного из них зонтиком, и так неосторожно, что зонтик сломался. Брат извинился по-русски, своим обыкновенным: «Ах! Извините!» Немец почувствовал удар только шагов через двадцать, вдруг стал как вкопанный, вылупил глаза и молчал. Обдумавшись хорошенько, он наконец снял шляпу, чтобы ответить брату: «Ich bitte reht sehr! Herr Baron! Es thut nichts![167]» Не знаю, как ты назовешь такую живость, а для меня ей нет слова кроме «немецкой». Но лучше воротимся к нашим снам. Они дети: все, что они говорят, почти такая же чепуха, как это письмо, но они дети благородные, из которых ничего не сделаешь ни угрозами, ни бранью, но которые чувствительны к ласкам. Потому их надобно иногда баловать и лакомить. Но ласка, баловство и лакомство для моих снов – это твои письма. Каждое слово из них, передумавшись наяву, переходит в сон, и сны мои, как дети воспитанные, слушаются каждого слова. Потому, чтобы они не капризничали и не хмурились, ты их ласкай почаще, и побольше, и поаккуратнее. Кроме того, как на детей действует много хороший пример. Это особенно представь на рассмотрение маменьке и попроси ее исправить свои сны хотя для того, чтобы мои не портились. А покуда спи. 2 часа ночи, и спать пора и хочется. Это письмо дойдет до тебя через месяц. Я тогда, вероятно, уже буду в Италии. Первый сон со свиданием будет мне знаком, что ты получила мое письмо.
31. Родным
21 августа 1830 годаНаш отъезд в Италию совсем еще не решен, ни когда, ни куда именно; думаем, однако, что около половины сентября подымемся отсюда и подвинемся к Северной Италии. Между тем письма ваши пусть идут сюда. Парижское письмо ваше пропало на почте. Мне его жаль. Я люблю перечитывать ваши письма, даже старые, и часто это делаю; таким манером я иногда слушаю вас больше двух часов, потому что пакет уже набрался порядочный. Зачем только в этом разговоре столько печального? Об нас рассказывать почти нечего: после последнего письма переменилось только то, что мы не ходим в университет… и больше ленимся, и больше вместе, и строим больше планов, которые не исполняются. Я хотел написать кое-что для Языкова[168] альманаха, но до сих пор еще не принимался. Столько разных мыслей крестятся в голове, что вся голова вышла в церковь без попа, кладбище, которое ждет еще ангела с трубою. Трубу, впрочем, я нашел, только не ангельскую, а фрауенгоферскую. Я надеюсь, что папенька будет ею доволен…
Может быть, мы пробудем здесь недели три, может быть, меньше, может быть, больше, словом, мы не знаем. Я между тем читаю Ариосто[169] и совсем утонул в его грациозном воображении, которое так же глубоко, тепло и чувственно, как итальянское небо. Тассу[170] я также только теперь узнал цену и вместе понял все варварство тех, кто, оторвавши крылья у бабочки, думают, что она полетит…









