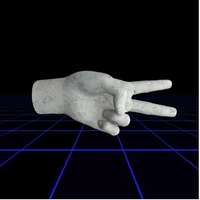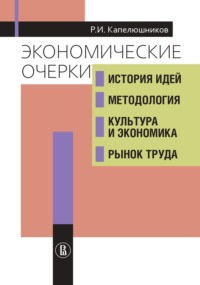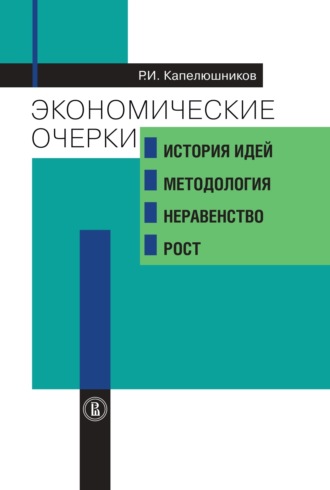
Полная версия
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
Австрийская традиция. В экономико-философской традиции, которая ассоциируется сегодня с австрийской школой экономики, но у истоков которой стояли мыслители шотландского Просвещения – Д. Юм, А. Смит, А. Фергюсон, Дж. Миллар и другие, понятие «невидимой руки» выступает коррелятом понятия «спонтанный порядок». В этой исследовательской традиции выражение «невидимая рука» служит для обозначения механизмов координации, посредством которых могут формироваться и поддерживаться спонтанные порядки. Конечно, ни Смит, ни его современники не пользовались понятием «спонтанный порядок». (Считается, что в научный оборот его ввел британский философ венгерского происхождения М. Поланьи [Polanyi, 1951], хотя более ранние следы обнаруживаются уже в работах Дж. С. Милля.) Однако они первыми осознали, что в обществе могут существовать регулярные упорядоченные структуры, не имеющие персонального творца, и сделали их предметом научного анализа[25].
Так, одно из самых ранних описаний спонтанного порядка дал друг и коллега Адама Смита А. Фергюсон: «Все в природе взаимосвязано; и сам мир состоит из частей, которые, как камни арки, поддерживают друг друга и поддерживаются друг другом. Такой порядок вещей складывается из движений, которые, пребывая по видимости в состоянии разрозненности и противодействия, взаимно регулируют и уравновешивают друг друга» [Ferguson, 1973, p. 327–328]. Ему же принадлежит знаменитая формула о том, что, когда такие порядки обнаруживаются, их следует считать продуктом человеческой деятельности, а не человеческого замысла. Они являются не реализацией чьего-либо сознательного плана, а непредвиденным результатом взаимодействия людей, стремящихся к несовпадающим целям. Очевидно, что смитовские отсылки к «невидимой руке» в «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов» целиком вписываются в эту формулу.
С точки зрения происхождения социальных порядков шотландско-австрийская традиция выделяет два их типа – спонтанные (никем не замышлявшиеся) и сознательно сконструированные («сделанные»). Так, к сознательно управляемым структурам относятся армии, правительственные учреждения, деловые корпорации, к самоорганизующимся и саморегулирующимся – язык, право, мораль, частная собственность, деньги, рынок. Все эти институты, образующие фундамент человеческих сообществ, находились в центре внимания мыслителей шотландского Просвещения, включая, разумеется, и Смита.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сокращенная версия опубликована: Вопросы экономики. 2023. № 10. С. 53–74; № 11. С. 123–140.
2
Выдающийся американский философ Роберт Нозик приводит 16 примеров из различных областей знания – от теории эволюции до анализа преступности, где используются объяснения с позиции «невидимой руки» [Нозик, 2008].
3
Потребность в объяснениях подобного типа возникает тогда, когда у нас вызывает удивление появление некоего нового и неожиданного свойства Р, потому что мы не можем понять, каким образом оно могло латентно содержаться в ничем не примечательных («прозаических») действиях определенного числа людей [Gaus, 2011]. В терминах теории сложности P будет определяться как эмерджентное свойство системы S, если S состоит из набора элементов {e1…en} и если исходя из всех доступных нам микрознаний об этих элементах нам не удается обнаружить в них способности порождать P [Ibid.].
4
С этой точки зрения выдающаяся заслуга Смита заключается в том, что он сумел показать, как упорядоченные социальные структуры могут возникать полностью спонтанно, без чьих-либо сознательных усилий, направленных на их формирование.
5
Смит повторяет ту же мысль в другой своей работе по истории древней физики: «В первые века существования мира кажущаяся нерегулярность явлений природы так смущала людей, что они отчаялись обнаружить в ее действиях какую-либо регулярную систему. Их невежество и спутанность мыслей неизбежно порождали то малодушное суеверие, которое почти каждое неожиданное событие приписывало произвольной воле каких-то созидающих (designing), хотя и невидимых существ, которые производили его для достижения какой-то своей конкретной личной цели» [Smith, 1980, p. 112–113].
6
Г. Кеннеди усматривает здесь замаскированные нападки на попытки языческих религий объяснять явления природы [Kennedy, 2009b]. Основная мысль, которую проводит Смит, заключается в том, что на протяжении веков изучение природных явлений, привлекавших внимание философов, раз за разом прорывало завесу невежества и суеверий, исходивших от религиозных верований в невидимые существа.
7
В описании Смита поведение «гордого и бесчувственного землевладельца» (и шире – всех, кто стремится к богатству) имеет мало общего с моделью рационального выбора, хотя часто утверждается, что именно он стоял у ее истоков. По Смиту, люди совершают выбор и многим жертвуют ради того, чтобы получать результаты, которые в конечном счете принесут им мало пользы (счастья) или не принесут никакой пользы вообще [Brewer, 2009]. Такое поведение, питающееся иллюзиями, едва ли подходит под определение «рационального». В отличие от этого Homo oeconomicus неоклассической теории никогда не заблуждается по поводу структуры собственных предпочтений, обладая о них совершенной информацией. Он точно знает, что для него хорошо, а что плохо, в том смысле, что у него есть стабильный набор предпочтений, что он действует рационально на их основе (таким образом выявляя имеющиеся у него предпочтения своими действиями) и что его благополучие улучшается при всяком переходе от менее к более предпочитаемому им состоянию. Все это крайне далеко от смитовских взглядов на природу человека.
8
В раннем Средневековье, когда предметов роскоши было мало, землевладельцы пренебрегали своей землей. Когда на рынке появились привлекательные промышленные товары, у них появились стимулы заняться улучшением принадлежащих им земель, а также начать сдавать их в пользование арендаторам ради увеличения своего дохода [Смит, 2007].
9
В «Богатстве народов» на примере Рима Смит подробно прослеживает, как общества могут переходить от равного к неравному распределению земли: «Рим, как и большинство других древних республик, первоначально имел своим основанием аграрный закон, деливший общественную территорию в известной пропорции между гражданами, которые составляли государство. Обычное течение человеческих дел в результате браков, перехода по наследству, отчуждения неизбежно нарушало этот первоначальный раздел и часто передавало в обладание одного-единственного лица земли, которые были предоставлены для содержания многих семейств. Для устранения такого ненормального положения (ибо оно считалось ненормальным) был издан закон, ограничивавший количество земли, которым мог обладать отдельный гражданин, 500 югерами, или приблизительно 350 акрами. Однако закон этот игнорировался или обходился, хотя мы читаем о применении его в одном или двух случаях, и неравенство состояний все более усиливалось» [Смит, 2007, с. 533].
10
Можно сказать, что «невидимая рука» нейтрализует потенциальное негативное действие концентрации земли в руках горстки крупных собственников, позволяя человечеству продолжать размножаться и увеличивать свою численность несмотря на повсеместное безземелье.
11
Смит возвращается к этой аргументации позднее в «Богатстве народов»: «Богатый человек потребляет не больше пищи, чем его бедный сосед <…> Но сравните обширный дворец и большой гардероб одного с лачугой и немногими лохмотьями другого, и вы увидите, что различие в их одежде, жилище и домашней обстановке почти одинаково велико как в отношении количества, так и качества. Стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка, но стремление к удобствам и украшению жилища, одежды, домашней обстановки и утвари не имеет, по-видимому, предела или определенных границ. Поэтому те, кто обладает большим количеством пищи, чем могут сами потребить, всегда готовы обменять излишек ее <…> на удовлетворение указанных потребностей другого рода. Все то, что остается после удовлетворения потребностей, имеющих определенную границу, затрачивается на удовлетворение тех потребностей, которые не могут быть полностью удовлетворены, а кажутся вообще не имеющими границ. Бедняк для того, чтобы добыть пищу, изощряется в удовлетворении этих прихотей богатых» [Там же, с. 206].
12
В изданиях «Богатства народов» на русском языке слово security («безопасность») ошибочно переводится как «интерес», что делает соответствующий фрагмент лишенным смысла.
13
Общепринятая трактовка сводится к тому, что, согласно Смиту, все поведение людей (во всяком случае – в «Богатстве народов») направляется единственным мотивом – их сугубо личным, замкнутым на самих себе интересом (self-interest). Однако это явная аберрация. В «Богатстве народов» Смит 35 раз (!) использует нейтральное в этическом смысле выражение «own interest» (собственный интерес) и лишь однажды – выражение с отчетливыми эгоистическими обертонами – «self-interest» (своекорыстный интерес), когда описывает различия в мотивах деятельности католического и протестантского духовенства: «В римской церкви трудолюбие и рвение низшего духовенства гораздо больше поддерживаются могущественным мотивом личной заинтересованности (self-interest), чем, вероятно, в какой-либо признанной протестантской церкви. Многие представители приходского духовенства получают весьма значительную часть своих средств к существованию от добровольных приношений народа – источника дохода, который исповедь дает им много возможностей сделать более обильным. Нищенствующие монашеские ордены все свои средства к существованию получают от таких приношений. К ним применимо то же, что к гусарам и легкой пехоте некоторых армий: не пограбишь, ничего не получишь» [Смит, 2007, с. 729, с изменениями].
14
Вообще по поводу «эгоизма» как поведенческого фундамента «Богатства народов» существует множество недоразумений. Если агент А, исходя из «эгоистических» интересов агента В, предлагает ему удовлетворить их при помощи некоторой сделки и действительно их удовлетворяет, то кто он сам: эгоист или альтруист? Правильный ответ: «кооперативист», потому что он печется одновременно как о собственном благополучии, так и о благополучии своего визави. Именно так ведут себя участники рынка у Смита. Они убеждают своих потенциальных партнеров, что тем будет лучше, если они отдадут менее полезную для них вещь, которая у них есть, в обмен на более полезную для них вещь, которой у них нет. Мысленно они ставят себя на место другого и предлагают ему сделку, исходя из его предполагаемых интересов: «Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, – таков смысл всякого подобного предложения. <…> Мы обращаемся не к их гуманности, но к их любви к себе и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» [Смит, 2007, с. 76–77, с изменениями; курсив мой. – Р. К.].
15
Отметим, что при цитировании этого знаменитого смитовского высказывания слова о ненарушении «законов справедливости» часто опускают, полностью искажая его смысл.
16
На том, что «невидимая рука» перекочевала в «Богатство народов» прямиком из шекспировской трагедии, настаивает Э. Ротшильд [Rothschild, 1994].
17
Нетрудно заметить, что идея особого Провидения перекликается с тем, как Смит использовал фразу о «невидимой руке» в «Истории астрономии», а идея общего Провидения – с тем, как он использовал ее в «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов».
18
Есть основания сомневаться в том, что метафора «невидимой руки» могла пройти полностью мимо внимания экономистов первой половины XIX в. Достаточно сказать, что о ней в «Немецкой идеологии» (1845) упоминают даже К. Маркс и Ф. Энгельс (естественно, в своей всегдашней издевательской манере): «Каким образом получается, что торговля, которая есть ведь не что иное, как обмен продуктами различных индивидов и стран, господствует над всем миром благодаря отношению спроса и предложения, – отношению, которое, по словам одного английского экономиста, витает подобно древнему року над землей, невидимой рукой распределяя между людьми счастье и несчастье, созидая царства и разрушая их, вызывая к жизни народы и заставляя их исчезать?» [Маркс, Энгельс, 1955, с. 34].
19
В дальнейшем изложении мы будем опираться преимущественно на эту работу.
20
В более общем смысле стоит отметить, что сама идея «совершенства» мало совместима с последовательно реалистическим подходом Смита. В «Богатстве народов» он подвергает критике план Франсуа Кенэ по созданию совершенного общественного устройства. Кенэ, по его словам, воображал, будто социальный организм «может благоденствовать и процветать только при точном соблюдении <…> режима совершенной свободы и совершенного правосудия» [Смит, 2007, с. 635]. На это Смит возражал: «Если бы нация не могла преуспевать, не пользуясь совершенной свободой и совершенным правосудием, на всем свете не нашлось бы нации, которая когда-либо могла бы процветать. Но мудрая природа, к счастью, позаботилась о том, чтобы заложить в политическом организме достаточно средств для исправления многих вредных последствий безумия и несправедливости человека, совсем так, как она сделала это с физическим организмом человека для исправления последствий его неосторожности и невыдержанности» [Там же, с. 636].
21
У Самуэльсона и Нордхауза Смит превращается в автора «теории невидимой руки», в рамках которой все «покупатели и продавцы обладают полной информацией о продаваемых и покупаемых товарах» [Samuelson, Nordhaus, 2010, p. 164]. Едва ли что-либо может быть дальше от представлений самого Смита, настаивавшего на фундаментальной ограниченности человеческого знания.
22
В позднейших изданиях «Экономики» П. Самуэльсон и его соавтор У. Нордхаус не ограничиваются замечанием о том, что «невидимая рука» Смита способна работать лишь при определенных условиях, но и перечисляют эти условия, откуда становится ясно, насколько далека она от реальной жизни: «Только в середине XX в. было дано полное доказательство существования решения с использованием мощных математических инструментов, таких как топология и теория множеств <…> Это революционное открытие показало, что всегда будет существовать по крайней мере один набор цен, который будет точно уравновешивать спрос и предложение на все виды затрат и выпуска, даже если существуют миллионы их разных видов во многих разных регионах и даже если товары производятся и продаются в разное время. Но прежде чем <…> объявить об окончательной победе доктрины невидимой руки, мы должны сделать паузу, чтобы рассмотреть строгие допущения, которые используются для доказательства теорем в рамках конкурентной модели: нигде никакой возрастающей отдачи, никаких внешних эффектов, совершенно гибкая заработная плата, никаких монополий или олигополий, а также другие ограничения» [Samuelson, Nordhaus, 1989, p. 747].
23
Любопытно, что сам Смит употребил в «Богатстве народов» слово «равновесие» (equilibrium) лишь однажды, критикуя доктрину торгового баланса.
24
«В децентрализованных экономиках большое количество людей принимают экономические решения, которые в свете рыночной и другой информации они считают более выгодными. Они не руководствуются общественным благом, нет также никакого общего плана, в выполнении которого им отведены заранее предписанные роли. Адам Смит первым осознал необходимость объяснения того, почему такого рода социальное устройство не ведет к хаосу. С точки зрения здравого смысла существование миллионов жадных своекорыстных индивидов, преследующих свои собственные цели и по большей части не контролируемых в своих устремлениях государством, кажется верным путем к анархии. Смит не только задал очевидно важный вопрос, но и указал нам дорогу, ведущую к ответу на него. Теория общего равновесия в классической формулировке Эрроу и Дебре находится близко к концу этой дороги» [Hahn, 1984, p. 72].
25
«Возможно, это явилось самым значительным социологическим вкладом шотландского Просвещения» [Hamowy, 1987, p. 3].