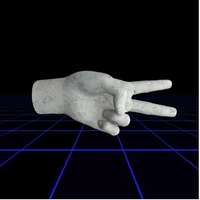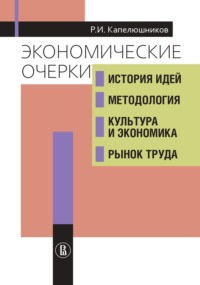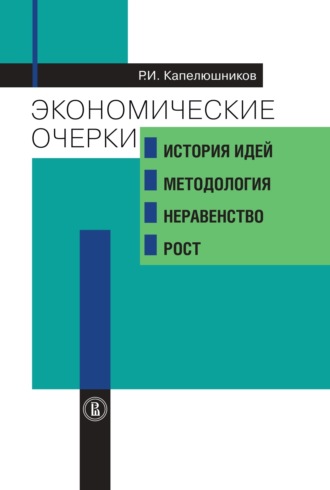
Полная версия
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
В «Теории нравственных чувств» Смит замечает: «Забота о наших собственных интересах и личном счастье <…> может быть побудительной причиной наших поступков, заслуживающих похвалы. Привычки к бережливости, трудолюбию, скромности, рассудительности хотя и вырабатываются обыкновенно благодаря мотивам, связанным с собственным интересом, тем не менее кажутся нам заслуживающими одобрения и общего уважения <…> Если <…> человек не станет обращать внимания на свое здоровье или на свое благосостояние <…> между тем как к этому должно побуждать его чувство самосохранения, то, без сомнения, мы нашли бы его достойным порицания <…> Беспечность и расточительство порицаются <…> не потому, что недостатки эти проистекают от отсутствия благожелательности, но потому, что они свидетельствуют о недостатке внимания к нашим собственным интересам» [Там же, с. 293–294, с изменениями][14].
Позиция Смита не сводится также к тому, что преследование людьми своих собственных интересов должно содействовать интересам общества при любых обстоятельствах, везде и всегда. Чаще всего его высказывания об их совпадении сопровождаются уточняющими оговорками – «во многих случаях», «в обычных условиях», «по общему правилу». (Правда, в некоторых случаях он все же называет такое совпадение «естественным» или «неизбежным».) Так, в ключевой фразе, где появляется «невидимая рука», говорится, что непреднамеренное содействие общественному благу имеет место не только при распределении торговцами своего капитала, но также и «во многих других случаях» [Смит, 2007, с. 443]. Делая такую оговорку, Смит мог иметь в виду две вещи [Syed, 1990].
С одной стороны, что это далеко не единственный пример благотворного действия «невидимой руки» – есть множество других помимо инвестирования капитала. Да, мы можем полагаться на интересы частных лиц, а не на правительственные декреты, когда дело касается поддержания и распределения капитала общества. Но бегство капитала – это лишь один пример из «многих других случаев», когда мы можем рассчитывать на механизм «невидимой руки». С другой стороны, что этот феномен далеко не универсален и существуют обратные примеры, когда преследование людьми собственных интересов вступает в конфликт с интересами общества. Если «невидимая рука» действует избирательно, то непреднамеренные следствия частных действий будут оказываться социально желательными далеко не всегда.
Действительно, комментаторы насчитывают в тексте «Богатства народов» не менее 70 случаев, когда, по наблюдениям Смита, действия индивидов, продиктованные собственным интересом, наносят значительный вред другим или даже всему обществу [Kennedy, 2016]. У него не было сомнений, что «невидимая рука» работает лишь при строго определенных институциональных условиях. В конечном счете именно от них зависит, какой сценарий будет реализован в том или ином случае – согласования или рассогласования частных и общих интересов.
Институциональная рамка, в защиту которой выступал Смит, предстает как прямой антипод меркантилистической системы. Он обозначает ее как «простую и незамысловатую систему естественной свободы» [Смит, 2007, с. 197], а также как «либеральный план равенства, свободы и справедливости» [Там же, с. 181]. Суть ее действительно проста: «Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и целого класса» [Там же, с. 197][15]. При такой системе «невидимая рука» не будет давать сбоев и преследование людьми своих частных интересов будет «естественно» и «неизбежно» приводить к результатам, благоприятным для всех, в то время как законодатель окажется освобожден «от обязанности руководить трудом частных лиц и направлять его к занятиям, более всего соответствующим интересам общества» [Смит, 2007, с. 197].
Как и в «Теории нравственных чувств», в «Богатстве народов» «невидимая рука» остается неатрибутированной – «некой». Но на этот раз аргументация Смита строится уже без каких-либо отсылок к «Провидению» или «Архитектору вселенной»: даже «мудрость природы» упоминается в книге лишь однажды. Соответственно, у нас еще больше оснований относить смитовскую метафору скорее к какой-то «посюсторонней» саморегулирующейся системе, чем приписывать ее какому-то «потустороннему» персонифицированному началу.
В «Богатстве народов» нет также какой-либо явной привязки «невидимой руки» к рынку, конкуренции или механизму цен. Очевидно, однако, что рассуждения Смита о ней строятся исходя из предпосылки о существовании (реальном или потенциальном) конкурентной рыночной системы: всякий человек старается найти своему капиталу «наиболее выгодное приложение»; производство всегда направляется так, «чтобы его продукт обладал максимальной ценностью»; «в каждый данный момент <…> доход» достигает «того максимума, который способен давать <…> капитал»; «при обычных условиях» во всех сферах деятельности устанавливается одинаковая норма прибыли; для промышленности характерен «естественный баланс» [Там же, с. 441, 442, 445, 484].
Наконец, как и в «Теории нравственных чувств», агенты, ведомые «невидимой рукой», не замечают и не осознают ее работы: интересам общества они служат бессознательно. Это происходит независимо от того, насколько они невежественны или безразличны к общественному благу.
Упоминание «невидимой руки» в «Богатстве народов» свободно от каких-либо иронических обертонов. Напротив, едким насмешкам вновь подвергается ее антипод – видимая рука государства. При этом Смит не ограничивается утверждением о том, что то, что выгодно отдельному человеку, во многих случаях оказывается выгодно и всему обществу, но и, переворачивая его, делает обратное утверждение о том, что сознательное преследование людьми интересов общества чаще всего идет ему во вред: те, кто заявляет, что действует только во имя его блага, почти никогда не приносят ему ничего хорошего [Там же, с. 443]. Вмешательство видимой руки государства (отметим очередное появление в этом контексте слова «рука») он отвергает по той же, что и в «Теории нравственных чувств», «хайековской» причине – из-за неизбежных информационных ограничений, в которых вынужден действовать всякий законодатель. Претензии правителей на регулирование «великого общества» (great society) выглядят в его глазах как «безумие»:
Очевидно, что каждый человек, сообразуясь с местными условиями, может гораздо лучше, чем это сделал бы вместо него любой государственный деятель или законодатель, судить о том, к какому именно роду отечественной промышленности приложить свой капитал и продукт какой промышленности может обладать наибольшей ценностью. Государственный деятель, который попытался бы давать частным лицам указания, как они должны употреблять свои капиталы, обременил бы себя совершенно излишней заботой, а также присвоил бы себе власть, которую нельзя без ущерба доверить не только какому-либо лицу, но и какому бы то ни было совету или учреждению и которая ни в чьих руках не оказалась бы столь опасной, как в руках человека, настолько безумного и самонадеянного, чтобы вообразить себя способным использовать эту власть [Там же, с. 443; курсив мой. – Р. К.].
Именно это ложное представление – о всеведении правителей – неявно лежало в основании всего арсенала меркантилистских мер по регулированию экономики. Существование «невидимой руки» служит основанием для итогового нормативного вывода Смита: «В интересах всякого общества, чтобы в подобного рода делах [экономических. – Р. К.] не было ни принуждения, ни стеснения» [Там же, с. 508].
Дополнительные комментарии
Метафора «невидимой руки» – многослойная конструкция, ставящая перед исследователями немало сложных вопросов. Каковы сходства и различия между «невидимыми руками» из трех смитовских текстов? Насколько важное место она занимала в его исследовательской программе? Насколько адекватны исходному замыслу Смита ее трактовки современными авторами?
Три или одна? По вопросу о соотношении между тремя версиями смитовской метафоры «невидимой руки» (в «Истории астрономии», «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов») мнения историков экономической мысли радикально расходятся. Одни полагают, что они идентичны и иллюстрируют одну и ту же идею [Macfie, 1971; Minowitz, 2004; Klein, 2009], другие – что между ними нет ничего общего и каждая имеет свой особый смысл, отличный от других [Grampp, 2000; Kennedy, 2009a]. Вместо того чтобы присоединяться к какой-либо из этих крайних позиций, мы пойдем иным путем, попытавшись выделить сходства и различия между разными случаями употребления этой метафоры в текстах Смита.
1. «Невидимая рука» в «Истории астрономии» отражает точку зрения «невежественного римлянина», тогда как в «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов» – точку зрения самого Смита.
2. Первая «невидимая рука» принадлежит языческому богу Юпитеру; теологический статус второй неясен (то ли она является орудием Провидения, то ли действует сама по себе); третья имеет очевидное «посюстороннее» происхождение.
3. В «Истории астрономии» «невидимая рука» выступает атрибутом конкретного персонажа – Юпитера, тогда как в «Теории нравственных чувств» и «Богатстве народов» обозначает некий безличный социальный механизм. Показательно в этом смысле, что в первом случае Смит использует применительно к «невидимой руке» определенный артикль – «the invisible hand», а во втором и третьем неопределенный – «an invisible hand».
4. В первом случае речь идет о мышлении дикарей/язычников, во втором и третьем – о поведении землевладельцев («Теория нравственных чувств») и торговцев/инвесторов («Богатство народов»).
5. Первую «невидимую руку» Смит описывает в иронической тональности, вторая и третья наделены однозначно позитивными коннотациями.
6. Первая «невидимая рука» связана с нарушениями порядка в природном мире, вторая и третья, напротив, с установлением и поддержанием порядка в социальном мире.
7. Обсуждение «невидимой руки» в «Истории астрономии» ведется вне экономического контекста, тогда как «невидимая рука» из «Теории нравственных чувств» характеризует процесс распределения богатства, а «невидимая рука» из «Богатства народов» – процесс его максимизации.
8. Первая «невидимая рука» не имеет отношения ни к чьим интересам (если только не принимать в расчет, что она помогает «невежественным римлянам» избавляться от когнитивного дискомфорта при столкновении с поражающими их воображение явлениями), тогда как вторая и третья описывают положительную связь, идущую от частных интересов к общим.
9. Вместе с тем все три «невидимые руки» представляют собой вариации на одну и ту же тему, центральную для мировоззрения Смита, – о фундаментальной ограниченности человеческого знания. «Невежественный римлянин» не видит промежуточных звеньев, связывающих различные природные явления, и дает им ложное объяснение. Экономические агенты (землевладельцы и торговцы) ничего не знают о непреднамеренных результатах своей деятельности, и поэтому им даже не приходит в голову пытаться их как-то объяснять.
10. Все три «невидимые руки» оказываются невидимыми только потому, что в сознании большинства людей не укладывается, как какой-то порядок может возникать без чьего-либо замысла, намерения, заранее составленного плана, сознательного руководства из единого центра, то есть – спонтанно. Стоит им обнаружить в природе или обществе что-то напоминающее порядок, как они инстинктивно предполагают присутствие агента, который должен был его установить исходя из каких-то своих сознательных намерений и расчетов. Из-за этого редкие природные явления начинают приписываться капризам антропоморфных существ («История астрономии»), тогда как достижение общественного блага – мудрости правителей («Теория нравственных чувств» и «Богатство народов»). Только наука («философия», в терминологии Смита) способна преодолевать этот глубоко укоренившийся предрассудок, допуская возможность возникновения порядков при отсутствии персонального творца и выявляя скрытые механизмы их формирования. Как отмечает Смит в «Истории астрономии», в повседневной жизни большинство людей остаются слепы к тонким невидимым взаимосвязям явлений. Связи, которые обнаруживают философы, представляют собой «такие комбинации событий, которые не дают остановиться воображению основной массы человечества: они не вызывают ни Изумления, ни понимания отсутствия между ними строгой связи» [Смит, 2014, с. 904–905].
Содержательно сходства между случаями употребления фразы о «невидимой руке» в трех работах Смита представляются не менее интересными и важными, чем различия, поскольку они касаются наиболее фундаментальных и наиболее характерных для него исследовательских установок.
Малозначимый проходной пассаж? Некоторые смитоведы доказывают, что сам Смит не придавал метафоре «невидимой руки» особого значения и, скорее всего, использовал ее исключительно в риторических целях, поскольку в его главных сочинениях она встречается лишь пару раз [Kennedy, 2009a; Rothschild, 1994]. Иначе он бы не упустил случая сообщить читателю о ее важности, а также использовал ее в своих работах намного чаще. Это всего лишь фигура речи, которую можно изъять из смитовских текстов без всякого ущерба для их понимания.
Возможно, в какой-то мере это действительно так. Однако крайне маловероятно, чтобы Смит не придавал большого значения идее, к которой привязывал это выражение, – идее о том, что преследование индивидами частных целей нередко может иметь своим непреднамеренным результатом улучшение благосостояния всего общества. В «Теории нравственных чувств» связка «частный интерес / благо общества» встречается два раза, а в «Богатстве народов» – свыше десяти. Смит интерпретирует в этих терминах множество самых разных социальных феноменов, не ограничиваясь – вопреки представлениям большинства экономистов – каким-то одним («рынком»).
Начнем с «Теории нравственных чувств», где связка «частный интерес / благо общества» встречается дважды.
Первый случай – это поведение уже хорошо знакомого нам «гордого и бесчувственного землевладельца», который, питая безудержную страсть к «безделушкам и побрякушкам», невольно обеспечивает средствами существования тысячи людей: «Таким образом, без всякого намерения и ничего о том не зная, он содействует интересам общества и предоставляет средства для умножения человеческого рода» [Смит, 1997, с. 185, с изменениями].
Второй – это рассуждения Смита о том, какие средства использует природа (олицетворяющая в данном случае интересы всего человеческого рода), когда толкает людей к осуществлению ее целей. Дело, по его мнению, не в том, что мы осознаем важность этих целей, а в том, что нам доставляют удовольствие ведущие к ним средства: «Индивидуальное самосохранение и продление вида суть две великие цели природы при создании всякого рода живых существ <…> Но хотя мы и одарены сильнейшими побуждениями для их достижения, выбор ведущих к ним средств вовсе не предоставлен медленным и сомнительным определениям нашего разума. Природа руководит нами при избрании средств для их достижения с помощью непосредственных и первоначальных инстинктов. Голод, жажда, любовь полов, склонность к наслаждению и отвращение к страданию влекут нас к таким средствам ради собственной их привлекательности, а вовсе не по сознанию тех благотворных целей, которых великий Управитель природы вознамерился достигать с их помощью» [Смит, 1997, с. 93, с изменениями].
«Богатство народов» демонстрирует намного большее разнообразие процессов и явлений, когда польза для отдельного человека непредвиденно оборачивается пользой для всего общества:
1) Разделение труда: «Разделение труда <…> отнюдь не является результатом чьей-либо человеческой мудрости, предвидевшей и замышлявшей то общее изобилие, которое будет порождено им: оно представляет собою необходимое последствие – хотя очень медленно и постепенно развивающееся – определенной склонности в человеческой природе, которая отнюдь не имела в виду такой обширной полезной цели, а именно склонности к мене, торговле, к обмену» [Смит, 2007, с. 76];
2) Сберегательное поведение: «Всякий бережливый человек [оказывается] общественным благодетелем, поскольку увеличивает, вовсе не думая о том, богатство и доход всей страны» [Там же, с. 348];
3) Ускоренное развитие сельского хозяйства именно в тех странах, где его продуктивность выше: «В тех странах, где сельское хозяйство представляет собою самое выгодное из всех приложений капитала, а возделывание и улучшение земли – самый прямой путь к большому состоянию, капиталы отдельных лиц будут, естественно, прилагаться самым выгодным для всего общества образом» [Там же, с. 377];
4) Экономический рост, порождаемый тщеславием землевладельцев, с одной стороны, и торгашеским духом купцов и ремесленников – с другой: «Революция величайшей важности для общественного блага была совершена двумя различными классами людей, которые не имели ни малейшего намерения служить обществу. Удовлетворение самого смешного тщеславия – таков был единственный мотив крупных землевладельцев. Торговцы и ремесленники, гораздо менее смешные, действовали исключительно в своих собственных интересах и придерживались присущего им торгашеского правила зашибать копейку при всяком удобном случае. Ни те, ни другие не думали и не предвидели той великой революции, которую постепенно совершало безумие одних и трудолюбие других» [Там же, с. 412–413];
5) Эффективное распределение совокупного капитала общества – обсуждалось выше [Там же, с. 441];
6) Удержание капитала внутри страны и наиболее производительное его использование – обсуждалось выше [Там же, с. 442–443];
7) Обеспечение населения пропитанием в неурожайные годы: «Интересы торговца хлебом внутри страны и широких слоев народа, как бы они ни казались противоположными с первого взгляда, совершенно тождественны даже в годы сильнейшего неурожая. В интересах торговца поднимать цену своего хлеба так высоко, как этого требует скудость урожая, и в его интерес никогда не может входить поднятие ее выше этого уровня. <…> В интересах народа, чтобы его потребление за день, неделю и месяц по возможности точно соответствовало запасам урожая. Интересы торговца хлебом внутри страны таковы же <…> Не имея в виду соблюдения интересов населения, он неизбежно побуждается ради соблюдения своих собственных интересов обращаться с ним даже в годы неурожая совсем так, как осмотрительный капитан корабля иногда оказывается вынужден обращаться со своим экипажем. Когда он предвидит, что провианта может не хватить, он сажает его на уменьшенную порцию. <…> Хотя <…> торговец хлебом внутри страны может нередко под влиянием чрезмерной жадности поднять цену на хлеб несколько выше, чем это требуется недостатком хлеба, все же все те неудобства, которые население может испытывать благодаря такому образу действий, фактически избавляющему их от голода в конце года, будут незначительны в сравнении с тем, что им пришлось бы пережить, если бы он в начале года проявил меньшую строгость. Хлеботорговец сам скорее всего пострадает от такой чрезмерной жадности <…> потому что <…> у него на руках к концу года останется непроданный хлеб, который, если новый урожай окажется более благоприятным, ему придется продать по более низкой цене, чем это могло бы быть в противном случае» [Там же, с. 501–502];
8) Предпочтение (в обычных условиях) внутренней торговли перед внешней и внешней перед транзитной – обсуждалось выше [Там же, с. 596];
9) Обратная ситуация, когда инвесторы начинают перераспределять свой капитал от ближних вложений в пользу дальних (направляя его, например, в колонии), если такие отдаленные вложения приносят сверхобычную прибыль, которая свидетельствует о том, что цена на заморские товары превышает естественную и, значит, те, кто использует капитал для более близких операций, терпят от этого ущерб: «В этом исключительном случае общественный интерес требует, чтобы часть капитала была отвлечена от тех занятий, которые в обычных условиях более выгодны, и обращена к такому занятию, которое в обычных условиях менее выгодно обществу; в этом исключительном случае естественные интересы и наклонности людей так же полно совпадают с общественными интересами, как и во всех других нормальных случаях, и побуждают их отвлекать капитал от близкого и обращать его на отдаленное занятие» [Смит, 2007, с. 597];
10) Способность частных лиц непреднамеренно компенсировать своими действиями, направленными исключительно на улучшение собственного положения, пагубные последствия ошибочной политики государства: «В политическом организме естественные усилия, постоянно делаемые каждым отдельным человеком для улучшения своего положения, представляют собою начало самосохранения, способное во многих отношениях предупреждать и исправлять дурные последствия пристрастной и притеснительной политической экономии» [Там же, с. 635];
11) Закат европейского феодализма, когда погоня светских и церковных феодалов за предметами роскоши, во-первых, дала сильнейший толчок расширению рынка и, во-вторых, побудила их ради получения более высокой ренты начать сдавать свои земли в аренду, что имело непредвиденным побочным эффектом потерю ими политической власти: «Постепенное развитие ремесел, мануфактур и торговли – та самая причина, которая уничтожила власть крупных баронов, уничтожила точно так же в большей части Европы всю светскую власть духовенства. <…> Подобно крупным баронам, духовенство тоже стремилось получать более высокую ренту со своих поместий, чтобы расходовать ее точно таким же образом на удовлетворение своего личного тщеславия и прихотей. Но такое увеличение ренты можно было обеспечить только предоставлением земельных участков в аренду своим крестьянам, которые благодаря этому становились в значительной мере независимыми» [Там же, с. 742].
Количество подобных высказываний настолько велико, что связку «частный интерес / благо общества» можно назвать излюбленным парадоксом Адама Смита, которому, скорее всего, доставляло удовольствие поражать им своих читателей. И хотя только в двух случаях эта связка получает у него наименование «невидимой руки», нет ничего необычного или неожиданного в том, что последующие поколения исследователей распространили эту метафору на все встречающиеся в трудах Смита случаи, когда погоня исключительно за собственной выгодой парадоксальным образом ведет к результатам, от которых выигрывает все общество.
Палитра трактовок. Сегодня в исследовательской литературе существует множество самых различных интерпретаций смитовской метафоры. У. Грамп насчитал девять альтернативных трактовок (вместе с его собственной их число возрастает до десяти), а У. Сэмуэльс вообще несколько дюжин [Grampp, 2000; Samuels, 2011]. «Невидимая рука» отождествляется с рынком, ценовым механизмом, конкуренцией, получением взаимной выгоды при обмене, спонтанным формированием социальных порядков, приобретением знаний и навыков, позволяющих успешнее совершать рыночные сделки, Провидением, пекущимся о благосостоянии людей, и даже укреплением обороноспособности страны. Отличительная черта большинства таких трактовок – внетекстуальность: они не столько вычитывают что-то из текстов Смита, сколько искусственно вчитывают в них то, что почти не пересекается с его фактической аргументацией. В частности, это относится к широко распространенной вульгаризированной формулировке про «невидимую руку рынка», поскольку ни в одном из своих текстов Смит не «приставлял» впрямую эту «руку» ни к рынку, ни к механизму цен, ни к конкуренции, ни к эгоистическому (в узком понимании) поведению индивидов.
В качестве выразительного примера можно сослаться на экстравагантное предположение Дж. Перски и У. Грампа о том, что «невидимая рука» в понимании Смита – это окольный способ обеспечения военной безопасности страны (укрепления ее обороноспособности) [Persky, 1989; Grampp, 2000]. Он, по их мнению, имел в виду ситуацию, когда, преследуя собственные интересы, боящиеся риска торговцы предпочитают удерживать свой капитал внутри страны вместо того, чтобы экспортировать его за рубеж, но чем больше внутренний капитал нации, тем больше у нее ресурсов для содержания армии. Естественно, в намерения самих торговцев этот непреднамеренный результат входить никак не мог.
Однако подобную трактовку трудно признать убедительной хотя бы потому, что в пассаже о «невидимой руке» в «Богатстве народов» слово «оборона» отсутствует. По сути, рассуждения Перски и Грампа строятся на полисемии термина security («безопасность»). В отрывке про «невидимую руку» Смит говорит о «безопасности» в смысле защищенности (сохранности) капитала торговцев, тогда как через несколько страниц обращается к теме «безопасности» уже в смысле обеспечения военной мощи страны. Смешение разных значений термина security и делает возможным ошибочный вывод о том, что непреднамеренным результатом действия «невидимой руки» Смит считал укрепление обороноспособности нации.