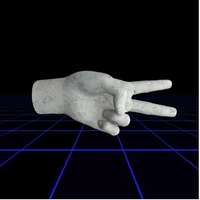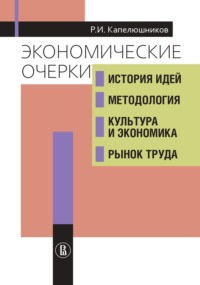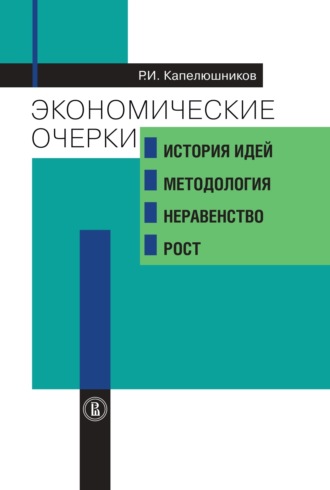
Полная версия
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
Происхождение и история рецепции
Общепризнанно, что Смит не был изобретателем выражения «невидимая рука» и, что еще важнее, в Британии его времени оно уже имело широкое хождение.
Историкам экономической мысли удалось отыскать примерно полтора десятка авторов, принадлежавших к самым разным эпохам, которые когда-либо упоминали в своих текстах о «невидимой руке» или о чем-то подобном и чьи книги имелись в личной библиотеке Смита [Kennedy, 2009a]. Среди них как абсолютные классики мировой литературы и философии – Гомер, Гораций, Овидий, Лактанций, Августин, У. Шекспир, Д. Дефо, Вольтер, так и менее известные писатели, ученые и политики, – Ш.-А. Дю Френуа (1611–1668), Дж. Гленвилл (1636–1680), Р. Уолпол (1676–1745), Ш. Роллен (1661–1741), У. Личмен (1706–1785), Ш. Бонне (1720–1793), К. Рив (1729–1807), Ж.-Б. Робине (1733–1820). Кто-то из них ограничивался лишь упоминанием о могущественной божественной руке, направляющей поведение людей, но кто-то прямо называл ее «невидимой», причем в таких случаях она не всегда изображалась как присущая именно Богу.
Так, у Шекспира в «Макбете» (акт III, сцена 2) главный герой обращается к ночной тьме:
Ночь, приди!Глаз нежный жалостному дню закройРукой невидимой, кровавой; узыМои ты уничтожь и разорви…[16](Перевод А. Д. Радловой)Смит вполне мог решить позаимствовать выражение «невидимая рука» у кого-то из перечисленных авторов, но по ряду соображений это представляется не слишком вероятным [Harrison, 2011]. Скорее всего, оно пришло к нему из иных источников.
Дело в том, что словосочетание «невидимая рука» широко использовалось в текстах богословов и проповедников XVII–XVIII вв. В религиозной литературе того времени оно выступало в качестве «технического термина» [Ibid., p. 38], обозначая принцип, согласно которому Бог может достигать своих целей невзирая на собственные намерения людей (невзирая на то, что они наделены свободой воли), причем его цели не могут не быть благотворными. Незримый контроль Бога над событиями, происходящими в природе и обществе, может выражаться в двух формах. Во-первых, в форме установленных им общих законов, которым должны следовать все существа, одушевленные и неодушевленные (общее Провидение). Во-вторых, в форме его разовых вмешательств по конкретным поводам, ломающих, наоборот, регулярный порядок вещей (особое Провидение). Первое по большей части бывает обращено на царство природы, второе – на человеческую историю. Во втором случае действие Провидения оказывается «невидимым» не только потому, что оно не наблюдаемо, но и потому, что оно непостижимо, окутано непроницаемой завесой Божьей тайны. В отличие от этого в первом случае хотя деятельность Провидения также остается не видимой физически, она все же поддается рациональному пониманию и объяснению ([Harrison, 2011]; см. также: [Ослингтон, 2015])[17].
Таким образом, употребление Смитом метафоры «невидимой руки» ложилось на достаточно подготовленную почву. Поэтому вполне возможно, что первые читатели «Теории нравственных чувств» и «Богатства народов» воспринимали ее в соответствии с преобладавшим тогда словоупотреблением – как отсылку к действию Божьего промысла. (Хотя отсюда вовсе не следует, что именно такой смысл вкладывал в нее сам Смит.) Но столь же правдоподобно и то, что они вообще не обратили на эту фразу никакого внимания, восприняв ее как стандартный риторический прием, как расхожую фигуру речи. В любом случае приходится признать, что упоминание «невидимой руки» в тексте «Богатства народов» не вызвало какого-либо заинтересованного отклика ни у кого из современников Смита.
Как складывалась история «невидимой руки» позднее, когда труд Смита был уже признан абсолютной классикой социальной мысли? Ее путь к обретению статуса центральной метафоры экономической науки был долгим и извилистым. Похоже, что ее проигнорировали не только современники, но и непосредственные преемники Смита – и это на фоне огромного внимания к «Богатству народов» со стороны каждого нового поколения экономистов на протяжении всего XIX в. О ней никогда не упоминали и к ней никогда не обращались ни Д. Рикардо, ни Т. Мальтус, ни Ж.-Б. Сэй, ни Дж. Мак-Куллох, ни Н. У. Сениор, ни Дж. С. Милль. По-видимому, в их глазах этот пассаж из «Богатства народов» не заслуживал специального обсуждения. Единственное исключение – пара ссылок на «невидимую руку» в работах первого биографа Смита Д. Стюарта, относящихся к началу XIX в. Впрочем, можно допустить, что в формирующемся сообществе экономистов уже тогда возникла устная традиция, в рамках которой идее «невидимой руки» придавалось важное значение и благодаря которой она пусть подспудно, но все же оказывала влияние на развитие экономической мысли[18].
Публичное молчание было, по сути, прервано лишь в последней трети XIX в., когда о «невидимой руке» заговорили сразу несколько историков и экономистов, таких как Г. Бокль (1821–1862), Т. Лесли (1825–1882), А. Онкен (1844–1911), Ф. Мэтленд (1850–1906), Дж. Бонар (1852–1941), У. Смарт (1853–1915), Ф. Хирст (1873–1953). Тем не менее у ведущих теоретиков конца XIX – начала XX в. она по-прежнему не вызывала интереса. Из крупных экономистов того времени единственный раз сослался на нее в своей «Экономике благосостояния» А. Пигу, когда вводил понятие экстерналий [Пигу, 1985]. Вплоть до середины XX столетия упоминаний о смитовской метафоре было почти невозможно встретить ни в ведущих академических журналах, ни в популярных учебниках по экономике. Ссылки на нее по-прежнему оставались редкими и спорадическими.
Конечно, нельзя исключить, что на протяжении всего этого периода в академических кругах поддерживалась устная традиция (см. выше), в которой «невидимая рука» рассматривалась как мощная сила, преобразующая в благотворный порядок господствующий на рынке хаос. Во всяком случае, о существовании подобной традиции в Кембриджском университете упоминает Пигу. Некоторые замечания П. Самуэльсона (см. Введение) позволяют предполагать, что примерно так же обстояло дело и в американских университетах.
Ситуация кардинально меняется в конце 1940-х – начале 1950-х годов. По подсчетам У. Сэмуэлса, с 1942 по 1974 г. среднее количество ежегодных упоминаний о «невидимой руке» сначала удвоилось по сравнению с предыдущими полутора столетиями, а затем к концу 1970-х годов удвоилось еще раз. В 1980-е годы ежегодное число таких упоминаний стало уже в шесть с половиной, а в 1990-е годы в восемь раз больше, чем в 1942–1974 гг., хотя чуть позже – в 2000-е годы – немного снизилось [Samuels, 2011]. Конечно, отчасти этот скачок был связан с бурным развитием средств массовой информации. Но ссылками на «невидимую руку» оказались переполнены и публикации в академических журналах.
Что же послужило исходным импульсом к взрывному росту популярности смитовской метафоры во второй половине XX в.?
Г. Кеннеди убедительно показывает, что маховик был запущен публикацией в 1948 г. первого издания самого знаменитого учебника по экономике П. Самуэльсона [Kennedy, 2010][19]. На протяжении последующих десятилетий его «Экономика» выдержала почти два десятка переизданий, была переведена на несколько десятков языков, а ее общий тираж составил порядка 5 млн экземпляров. Именно из нее студенты во всем мире (включая, естественно, и будущих экономистов) узнавали о «невидимой руке» Адама Смита, а также о том, что она означает.
В первом издании «Экономики» портрет смитовской «невидимой руки» выглядел так:
Даже Адам Смит, хитроумный шотландец, чей монументальный труд (1776) положил начало современной экономической науке или политической экономии, – даже он был так восхищен обнаружением порядка в экономической системе, что провозгласил мистический принцип «невидимой руки»: что каждый индивид, преследуя только свое собственное эгоистическое (selfish) благо, оказывается как бы невидимой рукой ведом к достижению наибольшего блага для всех, так что любое вмешательство в свободную конкуренцию наверняка будет вредным. За последние полтора века этот неосторожный вывод принес почти столько же пользы, сколько и вреда, тем более что слишком часто это оказывалось единственным, что некоторые из наших видных граждан помнили тридцать лет спустя из своего курса экономики в колледже. На самом деле бо́льшая часть восхвалений совершенной конкуренции бьет мимо цели. Как уже говорилось ранее, у нас смешанная система государственного управления и частного предпринимательства, и, как будет показано ниже, это также смешанная система монополии и конкуренции. Она не черная и не белая, а серая в горошек [Samuelson, 1948, p. 36].
Язвительно-насмешливое отношение Самуэльсона к идее «невидимой руки» очевидно (он именует ее «мистическим принципом»). Столь же очевидно, что его описание имеет мало общего с тем, как понимал ее Смит.
Во-первых, как уже отмечалось, в «Богатстве народов» Смит нигде не восхваляет эгоизм и не называет поведение участников рынка «эгоистичным» (selfish). Он утверждает, что ими движет «собственный интерес», а для него эти понятия были далеко не тождественны (см. выше). Во-вторых, действие «невидимой руки» описывается им без всякого «как бы»: у него она направляет действия индивидов к неведомой им цели не условно, а буквально, в прямом, можно сказать, «физическом» смысле. (Говоря о «невидимой руке», современные экономисты также вслед за Самуэльсоном чаще всего вставляют это «как бы», отсутствующее у Смита.) В-третьих, Смит никогда не заявлял, что всякое вмешательство государства в рыночную конкуренцию будет непременно вредным: «Богатство народов» содержит солидный список мер государственного регулирования, которые он полагал желательными и нужными. В-четвертых, Смит не нуждался в поучениях о том, что реальные экономики бывают «смешанными»: он прекрасно видел это на примере меркантилистской системы, господствовавшей в современной ему Британии. Однако это не мешало ему критиковать такую «смешанную экономику» и выступать за устранение или хотя бы минимизацию количества монополий в ней. В-пятых, отождествление Самуэльсоном смитовской «невидимой руки» с понятием совершенной конкуренции современной экономической теории выглядит безусловным анахронизмом (подробнее об этом см. ниже). Естественно, Смиту это понятие было неизвестно и пользоваться им он не мог. Еще важнее, что в отличие от Самуэльсона «невидимая рука» была для него не каким-то конструктом из области абстрактного теоретизирования («совершенная конкуренция»), а характеристикой реальных процессов, которые он имел возможность наблюдать в окружающем мире[20].
Центральный элемент интерпретации Самуэльсона – утверждение о том, что «невидимая рука» в качестве обязательного условия предполагает существование рынка совершенной конкуренции. В различных вариациях он повторяет его во всех изданиях «Экономики». Так, по его словам, «если присмотреться повнимательнее, то зародыш этой идеи [вальрасианского общего равновесия. – Р. К.] можно увидеть даже у Адама Смита» [Samuelson, 1951, p. 598].
Другой элемент его интерпретации – утверждение о том, что, поскольку при отсутствии совершенной конкуренции «невидимая рука» становится бессильна, разговоры о ней не имеют никакого отношения к реальности. Она очевидно не приложима к современной американской экономике «с ее крупным бизнесом, слияниями, поглощениями, трестами и картелями» [Samuelson, 1955, p. 36]. Из некоторых комментариев Самуэльсона складывается также впечатление, что, по его мнению, когда-то в прошлом «невидимая рука» действительно успешно справлялась со своей задачей, но сегодня это уже не так. В четвертом издании «Экономики», где он сформулировал концепцию «великого неоклассического синтеза», Самуэльсон задавался риторическим вопросом: ведет ли индивидов «до сих пор Невидимая Рука Адама Смита к тому, чтобы предпринимать действия, которые необходимы для содействия общему интересу?». И отвечал категорически: «Нет, она их к этому не ведет» [Samuelson, 1955, p. 470]. По его словам, причину сбоев в ее работе удалось открыть лишь много позже: все дело в том, что «достоинства, приписываемые системе свободного предпринимательства, полностью реализуются только при наличии полного набора сдержек и противовесов в виде „совершенной конкуренции“» [Samuelson, 1970, p. 712][21].
Впрочем, со временем тональность оценок Самуэльсона начинает смягчаться. Скорее всего, это было связано с получением строгих математических доказательств в рамках теории общего равновесия. Поэтому в более поздних изданиях «Экономики» появляется новый мотив: Смит как «недотеоретик» общего равновесия.
С одной стороны, смитовская «невидимая рука» получает более позитивное освещение и из «мистического принципа» превращается в предвосхищение моделей общего равновесия: теперь Самуэльсон признает наличие «зерна истины в доктрине Смита о Невидимой Руке» [Samuelson, 1973, p. 641]. Высокой оценки удостаивается также наблюдение Смита о том, что «скачки и броски рыночной конкуренции выступают мощным источником роста производительности и уровня жизни»: это «одна из глубочайших идей в истории» [Samuelson, Nordhaus, 1998, p. 265]. Как полагает Самуэльсон, представление Смита о «саморегулирующейся невидимой руке» останется «его непреходящим вкладом в современную экономическую теорию» [Samuelson, Nordhaus, 2005, p. 32].
С другой стороны, в «Экономике» всячески подчеркивается превосходство современной экономической науки над теоретической неискушенностью автора «Богатства народов». Хотя догадка Смита и «имела определенный смысл», «при попытке объяснить на устном экзамене по программе Ph.D., в чем же этот смысл состоит, ему бы не удалось набрать нужного балла» [Samuelson, 1963, p. 128–129]. Его пониманию осталась недоступной связь между конкурентным равновесием и оптимальностью по Парето: он «никогда не мог ни сформулировать точно, в чем именно заключалась его идея, ни доказать ее, но современная экономическая теория может сформулировать это свойство идеального конкурентного ценообразования», когда «вы не можете улучшить положение ни одного человека, не нанеся вреда кому-то другому» [Samuelson, 1967, p. 609].
В несколько более благоприятном свете предстает теперь и критика Смитом видимой руки государства. Самуэльсон отмечает оправданность его призывов «убрать неуклюжую руку меркантилистских правительств» и «высвободить мотив конкурентной выгоды, который – словно невидимой рукой – обеспечил бы максимум благосостояния для всех» [Samuelson, 1970, p. 712].
Только современная экономическая наука смогла постичь «точный смысл аргументации Адама Смита» (сам он его не понимал), что стало одним из ее «громадных достижений» [Samuelson, Nordhaus, 1998, p. 266]. Ей удалось строго доказать, что «сущность невидимой руки» заключается в замечательном свойстве «эффективности конкурентных рынков» [Samuelson, Nordhaus, 2005, p. 163]. Но ей удалось не только это – она смогла также показать, насколько ограничены возможности смитовской «руки»: «Доктрина невидимой руки – это концепция, объясняющая, почему результат работы рыночного механизма выглядит таким упорядоченным. Взгляд Смита на направляющую функцию рыночного механизма вдохновлял современных экономистов – как сторонников, так и критиков капитализма. Однако после двух столетий опыта и размышлений мы теперь осознаем масштабы и реалистические ограничения этой доктрины» [Samuelson, Nordhaus, 1985, p. 46][22].
По-видимому, практически все, что большинство современных экономистов когда-либо слышало и знает о «невидимой руке» Смита, прямо или косвенно восходит к ее обсуждению в «Экономике» Самуэльсона [Kennedy, 2010]. Его влияние на восприятие смитовской метафоры было неоднозначным. С одной стороны, во многом благодаря именно Самуэльсону выражение «невидимая рука» получило широкую известность, став, можно сказать, настоящей притчей во языцех. С другой – опять-таки благодаря ему в сознании экономистов закрепилось достаточно пренебрежительное отношение к этой идее как всего лишь теоретической фикции, полностью оторванной от реальности и оттого лишенной практического значения.
На самом деле интерпретация «невидимой руки», представленная в различных изданиях учебника Самуэльсона, очень далека от того, что имел в виду автор «Богатства народов». Самуэльсон по-своему переиначил его метафору, вложив в нее удобный для себя смысл. В его изображении Смит предстает как незадачливый экономист-неоклассик, а его «невидимая рука» – как синоним совершенной конкуренции. Трудно не согласиться с выводом Г. Кеннеди о том, что, по-видимому, именно П. Самуэльсон стоял у истоков «нынешней эпидемии ложных представлений по поводу невидимой руки» [Ibid., p. 251].
Метафора Смита и современная экономическая теория
В современной экономической литературе можно условно выделить две главные традиции в истолковании «невидимой руки» Адама Смита – неоклассическую и австрийскую.
Неоклассическая традиция. В публикациях мейнстримных авторов уже давно стало общим местом отождествление метафоры «невидимой руки» с понятием общего равновесия (выше мы уже имели возможность убедиться в этом на примере высказываний П. Самуэльсона). По-видимому, начало подобному подходу положили К. Эрроу и Ф. Хан, конструируя для теории общего равновесия солидную родословную в рамках истории экономической мысли. Они назвали метафору «невидимой руки» «поэтическим выражением наиболее фундаментального принципа равновесных экономических отношений», а ее автора объявили «создателем теории общего равновесия» [Arrow, Hahn, 1971, p. 1–2][23]. В мейнстримной литературе их слова затем повторялись и перефразировались бессчетное число раз. Некоторые авторы доходили до того, что начинали рассуждать о «теории невидимой руки» или даже, как Ф. Хан, о «чистой теории невидимой руки» [Hahn, 1982], приписывая эту «теорию» Смиту.
Переводя этот исходный посыл в более конкретную плоскость, многие экономисты склонны рассматривать идею «невидимой руки» как иное выражение одного из центральных положений общей теории равновесия, а именно – Первой фундаментальной теоремы экономики благосостояния. Как известно, согласно этой теореме, всякое общее конкурентное равновесие будет Парето-оптимальным. Это же, как предполагается, имел в виду и Смит, описывая в «Богатстве народов» благотворную деятельность «невидимой руки». У истоков подобной интерпретации опять-таки стояли Эрроу и Хан, по утверждению которых только теории общего равновесия оказалось под силу разрешить «головоломку Адама Смита», которую до этого не удавалось разрешить никому, включая и самого ее автора[24].
Отождествление «невидимой руки» с Первой фундаментальной теоремой экономики благосостояния можно встретить практически во всех публикациях современных экономистов (включая учебники), когда речь в них заходит об Адаме Смите. Ограничимся только парой иллюстраций.
Так, в ведущем учебнике по микроэкономике А. Мас-Колелла, М. Уинстона и Дж. Грина студентам сообщается: «Первая фундаментальная теорема благосостояния устанавливает условия, при которых любое ценовое равновесие с возможностью трансфертов и, в частности, вальрасианское равновесие будет оказываться оптимумом по Парето. В рамках экономической теории конкурентных рынков она обеспечивает формальное и чрезвычайно общее подтверждение наличия у рынка свойства, обозначенного Адамом Смитом как „невидимая рука“» [Mas-Colell, Whinston, Green, 1995, p. 549].
В книге с характерным названием «По ту сторону невидимой руки» известный индийский экономист Каушик Басу заявляет:
Теория невидимой руки оставалась всего лишь гипотезой на протяжении почти двух столетий после появления классической работы «Исследование о природе и причинах богатства народов», несмотря на многочисленные труды самого Смита и его последователей в политэкономии. Потребовалось создание всей машинерии математической экономики и появление исследований Кэннета Эрроу, Жерара Дебре, Лайонела Маккензи и др. для того, чтобы эта теория обрела форму и доказательство. Только в 20 веке были предоставлены формальные доказательства условий, при которых конкурентное равновесие существует и является оптимальным. То есть было формально доказано, что при некоторых условиях все индивиды, преследующие свои индивидуальные интересы, ведут общество к оптимальному состоянию. Это доказательство стало известно как Первая фундаментальная теорема экономики благосостояния и явилось первым официальным подтверждением гипотезы о невидимой руке. Я буду называть Фундаментальную теорему более неформально «теоремой о невидимой руке». <…> С одной стороны, формализация идеи Смита стала значительным прорывом в экономической науке. С другой – после «Богатства народов» вера в теорию невидимой руки превратилась в ортодоксию [Басу, 2014, с. 37, 55].
Число подобных высказываний можно было бы множить до бесконечности. Но насколько корректна – исторически и содержательно – эта интерпретация, ставшая, по сути, канонической для сегодняшнего мейнстрима?
Как справедливо заметил по этому поводу М. Блауг, чего Смит «определенно не имел в виду, так это так называемой Первой фундаментальной теоремы экономики благосостояния из современных учебников» [Blaug, 2008, p. 564]. Во-первых, предположение Смита о том, что владельцы капитала стремятся к наибольшей прибыли, никак нельзя считать математической теоремой. Во-вторых, смитовская свободная конкуренция с неограниченным входом в отрасль крайне далека от совершенной конкуренции неоклассиков, предполагающей, что существует множество мелких агентов, неспособных влиять на цены и принимающих их как данность. Еще важнее, что конкуренция понималась Смитом как активный процесс, а не как конечное состояние. Как и для других экономистов-классиков, для него она подразумевала соперничество между покупателями и продавцами с использованием всего арсенала ценовых и неценовых методов. Такая «процессная» концепция конкуренции ближе к взглядам современных представителей австрийской школы, чем к ортодоксальной концепции, в которой упор делается на конечном равновесном состоянии независимо от того, как оно достигается. В-третьих, конкурентная система рассматривалась Смитом как желательная для общества не из-за ее Парето-эффективных свойств, а из-за ее динамических эффектов в виде расширения размеров рынка и увеличения преимуществ от разделения труда, то есть из-за того, что она служит мощной силой, содействующей накоплению капитала и росту дохода. Отсюда общий вердикт Блауга: «Попытки современных экономистов заручиться поддержкой Адама Смита в пользу того, что в наши дни известно как Фундаментальные теоремы экономики благосостояния, представляют собой историческую травестию невиданного масштаба» [Ibid., p. 565].
Отмеченные Блаугом расхождения приобретают еще большую рельефность, если вспомнить, что составляет подразумеваемый (неявный) институциональный фундамент стандартных моделей общего равновесия. Речь идет о фигуре вальрасианского аукциониста, который занимается расчетом равновесных цен, сообщает информацию о них индивидуальным агентам и блокирует любые сделки до того момента, когда такие цены будут установлены. В рамках теории общего равновесия фигура аукциониста, опосредующего все сделки, служит олицетворением централизованного механизма формирования цен. Де-факто объектом изучения в ней выступает гибридная – рыночно-командная – система (образно говоря: «частная собственность плюс Госкомцен») [De Vroey, 1998]. В отличие от этого в «Богатстве народов» описывается чисто рыночная система, где цены формируются полностью децентрализованно.
Во-первых, в моделях общего равновесия цены своим декретом устанавливает центральный агент – аукционист, тогда как у Смита рыночные агенты назначают цены сами, меняя их, как и когда сочтут нужным. Во-вторых, в этих моделях разрешены сделки только по равновесным ценам [De Vroey, 1998], тогда как у Смита таких ограничений для участников рынка не существует: сделки возможны как по равновесным (естественным), так и по неравновесным (рыночным) ценам. В-третьих, в моделях общего равновесия все обмены совершаются мгновенно, в единый момент времени (все рынки расчищаются одновременно), тогда как у Смита, как и в реальной жизни, сделки никак не синхронизированы. В-четвертых, стандартные модели общего равновесия исключают прямые контакты участников рынка друг с другом – обмен информацией и выработка условий сделок ведутся исключительно через аукциониста, тогда как у Смита они общаются и заключают друг с другом контракты напрямую, без посредничества какого-либо центрального агента. В-пятых, в вальрасианском мире координация осуществляется ex ante – до реального совершения сделок, тогда как в смитианском ex post – методом проб и ошибок. В-шестых, в моделях общего равновесия рыночная информация централизована и совершенна – она целиком сосредоточена в руках аукциониста, тогда как в мире Смита она несовершенна и рассредоточена среди частных лиц.
В итоге едва ли будет преувеличением сказать, что в теории общего равновесия реальной координирующей силой выступает видимая рука аукциониста. Как ни парадоксально, но вопреки утверждениям Эрроу и Хана ее правильнее было бы считать не столько воплощением, сколько антиподом «невидимой руки» Смита.