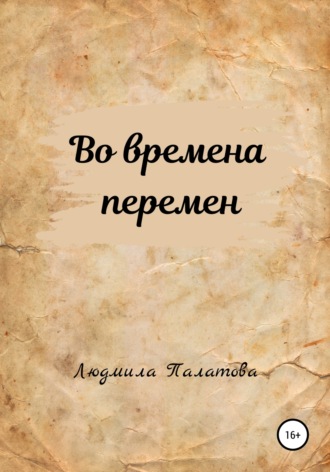 полная версия
полная версияВо времена перемен
На входе были небольшие сени, где стояли кадки с мочеными яблоками и обожаемой мною моченой сливой-терновкой. Под крышей был обязательно «потолок», где зимние сорта яблок сваливали гуртом, и потрясающий запах антоновки встречал вас у двери. Эти детские впечатления остались на всю жизнь, хотя мне больше не довелось побывать на своей прародине. В маленьких палисадниках цвели мальвы и золотые шары. Везде были вишневые кусты, с особенно вкусной черной вишней-владимиркой. На задах по той же технологии ставили сарай, только без окон. Там хранили все хозяйственные орудия, съестные припасы, там же и спали летом. Вся наша жизнь проходила днем в саду. Село стояло вдоль тракта – «большой дороги». А огороды были на краю обрыва, который спускался к речке Вороне. На спуске, довольно крутом, стояли сады с яблонями, вишней, сливами, грушами (дулями). Лещина росла по бокам. В саду у деда раскинулась большая яблоня-анисовка, которую мы начинали объедать с завязи. Там же был наш «штаб», и мы на этой яблоне проживали. Самый обильный сад был у бабы Наташи. Каких там только не было сортов! И огромные «титовки», и вкуснущие «толкачики», так мы их называли. Они росли, как орехи, по три вместе и были грушевидной формы. Я больше их нигде не встречала.
Наша орава любила играть в магазин и столовую. Из фруктов делали «пирожные», варили на костре варенье, а потом ходили в походы и купались в речке. Этим руководил Ванюша, наш кому двоюродный брат, а кому – дядя. Сейчас я удивляюсь, что заставляло 18-летнего мальчика столько внимания уделять 8 – 10 летней малышне. Мы звали его «дядяней» ( наверное, ласкательное от дяди Вани). Красивый, похожий на есенинские портреты, он учился в пединституте и работал пионервожатым. Это был уже готовый специалист, и судьба ему предназначила быть учителем. Он рано женился, родился сын Костя. И тут началась война. Естественно, что наш комсомолец в первых рядах добровольцев отправился защищать Родину. Был ранен, лечился в госпитале. Вернулся в строй. Был еще раз ранен. Лечился. В строй оказался негоден. Просился вернуться. Предлагали отправиться в Тегеран. Отказался. Как-то все же попал на фронт. Тут судьбе надоело его упрямство, и он погиб. Его сын стал военным. Он не носит фамилию отца. А мне он помог, не подозревая об этом, в одном трудном для меня обстоятельстве. Так Ванюша материализовался на помощь младшей родственнице. Спасибо тебе, Костя!
Мы очень любили деда. Он занимался нами, не ленился поговорить. Чаще всего общалась с ним я. Главной темой наших с ним бесед была астрономия. Я уже знала, что земля вращается вокруг солнца. Дед был убежден в обратном и приводил железный аргумент:
– Видишь подсолнух? Утром солнце слева. А вечером где?
Крыть мне было нечем. Опять же насчет пятен на Луне. Дед очень убедительно мне доказывал, что там Каин, убивший своего брата Авеля, отбывает наказание, назначенное ему Господом. На этот раз я не верила, но доказать снова ничего не могла. Однако идеологические разногласия никак не отражались на нашей взаимной любви. Я помню, как в 1937 году мы приехали с мамой рано лечить начинающийся у меня туберкулез, и я помогала деду украшать дом и иконы в Троицу. С какой любовью он укладывал сорванные мной цветы и веночки в избе и снаружи. А я впервые видела разнотравье в деревне, потому что к началу июня луга выгорали, и мы с пригорков катались по сухой траве в сандалиях, у которых были скользкие подошвы.
Из Перми мы уезжали каждое лето. И детство у меня ассоциируется с жарой, фруктами, любимой вишней, чудесной чистой с дивным запахом береговых трав речкой Вороной, ласковыми взрослыми, родными сверстниками. Даже повальная свинка, которой мы в одно лето по очереди переболели, вспоминается, как темная прохладная горница и Валька, который вопреки строгому запрету влез ко мне через окно, чтобы угостить вишней. Я была очень рада, но вишню есть не смогла – рот не открывался. А Валька заболел в положенный срок, заразившись от меня. Это к вопросу, стоит ли делать добро. Думаю, что все равно стоит. Хоть будет что вспомнить.
Как эндемическое заболевание в Карандеевке я помню кишечную непроходимость от закупорки кишки вишневыми косточками. Созрела вишня и пошло соревнование, у кого сколько фунтов достали на операции. Мне кажется. Что этим даже хвастались. На вопрос, нельзяли есть без косточек, ответ был: « а без них не наисся».
И еще одна беда была в Карандеевке – повальная малярия. На моих глазах половина населения сваливалась с температурой под 40 градусов, остальные носили им воду. Через день было все наоборот. Болели наши родные. Очень тяжело болела мама. И до сих пор не могу понять, почему она меня тащила каждый год в этот очаг. Самое удивительное, что я так и не заразилась, и никто не болел из отцовской семьи. В Перми до войны малярия тоже была. В маленьком свиязевском домике напротив теперешнего хирургического корпуса на улице Куйбышева в 1937 году был противомалярийный диспансер. Меня туда водили на осмотр. Я хорошо помню, как врач уложил меня на широкую гладкую лавку у стены и очень больно щупал мою селезенку. Приступы у мамы тогда стали ежедневными. Постоянно приезжала «карета скорой помощи» на лошадке, отвозила больную в инфекционную больницу, где у нее искали тифы, которыми она переболела еще в гражданскую войну, пока кто-то не догадался взять кровь на «толстую каплю». Был назначен акрихин, мама окрасилась в желтый цвет, но малярию вылечили, а тут и война началась, после нее мы уже никуда не ездили.
Каждое воскресенье из Карандеевки взрослые пешком отправлялись на базар в Инжавино за продуктами за 7 километров. Там покупали яйца, творог, сметану и пр. немного дешевле у наших же сельчан, которые в свою очередь тащили туда провиант на своем горбу. Логики этой не понять, как это часто бывает в нашем отечестве.
И память хранит своеобразный тамбовский диалект, тем более, что иногда он всплывал и в Перми. Даже когда я работала на целине, меня мгновенно опознал кузнец, которому попала железная стружка в глаз. На мое «здравствуйте, проходите, показывайте, что у вас?» он ответил:
– Дочка, а ты же тамбовская!
Это при том, что к Тамбову отношение у меня все же косвенное, в Перми меня дразнили за то, что я «акаю», а у деда величали пермячкой. В Карандеевке население не понимало, что такое средний род:
– Оньк! У табе полотенец-то иде? Он чистый? А яйцо уже готовая?
Слова тоже иногда имели другой смысл.
– А я вчерась кричала-то (плакала)!
– Ты в речку одна погоди, я сейчас разберуся (разденусь)!
– Гли! Манька-то уже растелешилася! (телешом – раздетый догола)
– Ты гляди, как бы Валька-то у табе не уходилси (не утонул)!
– Ой! А хлеб-то унесли! (украли). Кто унес? А ты глаза-то разуй!
– Леночка, у табе каструля люмЕневая или малИрованная?
– Эт куды ж я платок–то затутрила?
– Ты задохлик, табе Бог убил, так сиди, не питюкай!
– Намедни я так гОрилась (расстраивалась)!
– Эт чаво ты там гнЕздишьси (устраиваешься поудобней)?
– Эт каструля-то добре велика! Ты дюже-то не соли!
– А щи-то уже охварыздали?
– Вчерась у Петровны песни играли!
– Эт чтой-то наделали-то? Ни пришей, ни пристебай!
– Не буду это исть, гребую (брезгую).
– Чтой-то ты столько положила-то? Эт ведь ни в сноп, ни в горсть!
– А белье-то белое, прям кипенное.
О громком пении моя тетка говорила: «Ягодка! Эт чтой-то он сибе так мучаить?». Щи не сварить, а «собрать». Спрятаться – «схорониться». К девочке ласковое обращение «сынок», а ко всем – «ягодка». Черта поминали под именем «анчутки» или «нечистика», плохое пожелание «игрец табе возьми» или похуже – «паралик табе расшиби». «Бог с ними» звучало как «сынок, да они-то!». Щенка называли «кутек», а загон для овец «катух». Дед говорил тетке: «Оньк! Ты чай-то хрухтовый завари. От Высоцкого оставь на воскресенье. А в церкву пойдешь, платок надень кобеднишный».
По отношению к долгам:
– В пОлях не хлеб, по людЯм – не деньги.
– У тебе плачуть – просють, а ты реви, да не давай.
– Одна копейка звенеть не будет, а у двух звон не такой.
– Бывають дураки в полоску, а ты дурак во всю спину!
– Ты Ваську-то шумни (позови).
Про плохой инструмент дед говорил: «плохая снасть отдохнуть не дасть!», а про беспорядок в доме «чтой-то стулья-то у вас кадрель танцують!».
Своеобразное отношение было к падежам:
– А здесь Милы 5 месяцев. Пришли к сестры, стоим у сестре. – Вся орфография сохранилась в подписях на фото.
Еда в нашей деревне тоже была своеобразной. Там не признавали пельменей. Мама так их и не научилась ни делать, ни есть, и так и не смогла понять, как это в пирог можно положить рыбу. Полюбила только пермские шаньги. Зато борщ всегда был выше всех похвал. Овощное рагу называлось «соус». В Тамбове росли тыквы, дыни и арбузы. Вызревали великолепные помидоры. Все это требовало полива. Вода была только в колодце, очень глубоком, с журавлем. Тетка, придя с работы, добывала воду и таскала ее на грядки. Помню необыкновенный урожай всего в 1937 году, когда колхозные овощи и фрукты развозили по дворам, и все отмахивались – свои девать некуда, все ветки у яблонь обломались под тяжестью плодов. А в Пермь, поскольку никаких фруктов в те времена не было, везли с собой сухие.
Единственное воспоминание, которое отравляло мне впечатление от отдыха, это путь до Карандеевки и обратно. Не люблю всю жизнь поезда и навсегда ненавижу Москву. Сборы меня касались мало, хотя обстановка была всегда нервозной. Уже в плацкартном вагоне (о других я не подозревала) жарко, тесно, заставляют есть. А меня тошнит. Я терпеть не могу крутые яйца и холодную курицу. Мама обожает поезд. Она успокоилась и начинает завтракать. Ехать до Москвы двое суток. Спим с мамой на одной полке. Мне, конечно, невдомек, что сплю только я. Москва. Носильщик. Переезд на другой вокзал. Вещей полно. С собой постель (в плацкарте белье тогда не давали), еда, одежда. Долго хранился у нас мафраж с красными полосками для постели со специальным двойным ремнем. Мама уходит компостировать билеты. Я остаюсь сторожить «места». Их 7 или 8. Среди вещей большой эмалированный чайник, это моя ноша. Он обшарпанным краем царапает мне ногу до крови. Мама на остановках уходит с ним за кипятком, и я опять боюсь, что она отстанет от поезда. Я сижу, непрерывно пересчитывая пакеты и чемоданы, и реву в голос. Мне очень страшно. Мамы нет. Я одна в чужом городе. Подходит милиционер. Спрашивает, почему я плачу. Я отвечаю, что потеряла маму. Он обещает мне объявить по радио.
Тут появляется мама. Она ищет носильщика. Мы идем к поезду. Снова вагон. Из окон от паровоза летит сажа. Попадает в глаз, и тогда всем вагоном достают уголком платка антрацит. Очень боюсь пронзительных гудков. Еще одна пересадка на станции Иноковка. До Тамбова мы не доезжаем. Надо ждать до двух часов ночи. Меня укладывают спать в какой-то квартире. В кровати скачут блохи и очень больно кусаются. Ночью мы садимся на третий поезд и едем до Инжавино, там нас встречают на лошади. Я в сонном состоянии в полной темноте еду на телеге вместе с вещами до дедова дома. Наконец, среди ночи выгружаемся. Доехали через трое суток. А обратно домой еще и с жестяными банками топленого масла, которые умелец запаивал в дорогу, чемоданом яиц, бидонами с медом, вареньем и еще бог знает чем, в голодный край. Не ем сладкое. Не хочу видеть варенье, особенно потому, что моей обязанностью было доставать косточки из вишен. И может быть, не было у меня потом стимула навестить места моего детства из-за воспоминаний о тягостной дороге, или о том, как нас ошалевшие мамаши «питали» гоголем-моголем в жарищу с ремнем в руках. Мы ревмя ревели, и куры в это время клевали этот десерт из наших кружек, за что нам доставалось дополнительно. На дух не переношу этот самый «моголь» до сих пор. А все-таки тамбовщина – край благословенный, пусть процветает, изобилия ему!
Так до 10 ти лет я не видела лета на Урале. А в сороковом году мы не поехали в Карандеевку. Побоялись войны. Все знали, что она будет. Только Сталин делал вид, что не знает. В это первое на Урале мое лето я с моими степными генами впервые попала в уральский лес. Нас с мамой пригласили за малиной мои подруги – сестры Казаковы. Не помню уже, куда мы ездили, зато отлично помню, что из этого получилось. Мне было 10 лет. Мама всю жизнь тряслась, что я чем-нибудь заражусь и заболею. Меня к детям старались не подпускать, в трамвае не ездить. Если кто-то подходил близко, мама прижимала меня лицом к себе. Дома все обливалось кипятком, протиралось нашатырным спиртом. Результаты не замедлили сказаться. Как только я появилась в школе, на меня посыпались все детские инфекции, какие есть и каких и в природе-то не существует. Очевидно, усилилась и чувствительность. Я до этого никогда не была в настоящем лесу. А тут еще малинник, на который и привычные люди реагируют. День был жаркий. На голову я ничего не надела по тамбовской привычке. Домой я добралась с трудом. А дальше, отец носил меня на руках по двору, я орала своим, но нехорошим голосом от головной боли. Таблетку мне дать не догадались. Начался жесточайший поллиноз, и с этого времени на долгие годы я получила очень тяжелую мигрень. И до старости я не могла выехать в лес на один день без адаптации, приступ начинался немедленно, в том числе и на даче.
Наступило лето 1941 года. Пропустив год отдыха, родители решили, что перестраховались, и купили билеты на понедельник 23 июня. Мама пригласила тетю Катю Соловьеву с детьми. Та напекла пирогов в дорогу. А 22го началась война. Билеты сдали. Остались дома. Не застряли по дороге. Не попали под бомбежку. Пироги съели.
А вот мои бакинские родственники доехали до Карандеевки и остались там на всю войну с детьми и бабками. Сестра Тоня, учитель математики, оставив двухлетнего сына на попечение бабушки, пошла работать в детский садик. Остальные, кто мог – в колхоз. Дети болели малярией, в военное время не было возможности с ней бороться. Валя и Лида перенесли тиф. Оба заработали кучу болячек на всю оставшуюся жизнь. В Баку им удалось вернуться только после окончания военных действий и то не сразу. Тонин муж, тоже учитель, погиб на фронте.
Школа
В нашем детстве в школу принимали с 8 лет. Улица Пермская относилась к седьмой школе, но из-за перегрузки большинство ребят учились сначала в 29й четырехклассной, которая располагалась в приспособленном двухэтажном деревянном жилом здании недалеко от нашего дома. И в самой седьмой младшие классы тоже учились в «маленькой школе» на углу Большевистской (Екатерининской) и Долматовской (ул Попова). Это было одноэтажное деревянное здание с просторными высокими тремя классами, через коридор от которых располагались комнаты поменьше. Там жили уборщицы (технички) и были подсобные помещения. Когда мне посчастливилось попасть в музеи декабристов в Сибири, я не сразу сообразила, что они мне напоминают. Только позже вспомнила: дома Нарышкиных в Кургане и Муравьева-Апостола в Ялуторовске – точные копии нашей маленькой школы. Декабристы, выйдя на поселение, купили их у местных купцов. Вероятно, этот стиль был принят у «среднего класса» тех времен. Мой одноклассник Геннадий Валерьевич Иванов раскопал, что здание это принадлежало вначале священнику Рыжкову, а «большую» школу, как мы называли основное здание, построил на свои средства купец в шестом поколении Суслин. Школу «маленькую» нашу давно снесли. Даже место теперь угадать трудно, там теперь «Товары Прикамья», но когда проходишь мимо, обязательно что-то шевельнется в памяти.
В 29ю школу мама не хотела меня отдавать категорически. В конце августа 1938 года мы отправились в «большую школу № 7» к директору. Антонида Елизаровна Верхоланцева сидела в своем кабинете в одноэтажном пристрое по улице Луначарского. Мама обратилась с просьбой принять меня сразу в седьмую школу, и не в первый, а во второй класс. Прямо сказать, не очень скромно. А.Е. – человек исключительно интеллигентный в самом высоком значении этого слова – внимательно выслушала и поинтересовалась, откуда такие претензии. Мама объяснила, что я умею читать, писать и считать, поэтому в первом классе, где это только начинают, мне будет скучно, я могу «разболтаться». Я, сидя напротив директора на стуле, подумала, что «болтаться» не стала бы, но возражения оставила при себе, тем более, что меня до этого момента в известность ни о чем не поставили и мнения моего не спрашивали. Действительно, ежедневно за моим маленьким столиком я должна была написать, посчитать что-то, порисовать – вроде уроки поделать. Да в восемь лет ребенок уже осмысленный. Это теперь волокут беднягу в полтора года на развивающие, а в 5 лет – на подготовительные курсы, только бы в школу взяли.
Антонида Елизаровна, которая безусловно должна была отказать, подумала и сказала:
– Видите ли, ваш район относится к 29й школе.
Мама возразила, что очень не хочет туда меня отдавать. Она считает, что школа слабая (интересно, откуда бы это ей знать?)
– И потом – продолжала А.Е. – если мы примем девочку 8ми лет во второй класс, получится, что она пошла в школу семилетней, а это недопустимо! Нельзя лишать ребенка детства!
И в этот момент (скажите, что судьбы не существует!) в кабинет вошла тогдашний завуч Александра Ивановна Серебренникова. Она включилась мгновенно:
– Ну, а я пошла в школу шести лет. Так что, я дура что ли по-вашему?
Всю эту сцену я и сейчас вижу во всех деталях. Мы не знали в те времена, что они ближайшие подруги и много лет работают вместе: Александра Ивановна все годы нашего обучения в школе была завучем, а Антонида Елизаровна – директором. А тут мне показалось, что они спорят. Как-то безучастно я смотрела на происходящее и ждала, когда можно уйти. А.Е. протянула мне листок бумаги и карандаш;
– Напиши, пожалуйста, слово «мальчик».
– А, подумала я, наверное, они хотят узнать, надо ли поставить мягкий знак. Написала.
– Правильно! – с удивлением сказала А.Е.
– Да возьмите Вы ее! – Это снова вступила А.И.
Так решилась моя судьба в самом буквальном смысле. Все, что происходило потом, было следствием этого главного события в моей жизни. Мама поблагодарила, попрощалась, и мы пошли домой. А для меня ничего не случилось – подумаешь, в школу! Из нашего двора все учатся сначала в 29й, а я одна ходи за три квартала!
До начала учебного года произошло еще одно событие. Мама мечтала для меня о музыкальном образовании. Мы отправились в музыкальную школу, которая тогда помещалась в часовне Стефана Великопермского. Здание было замечательное, с прекрасным залом и классами, отличной звукоизоляцией. На экзамене я выполнила все задания. Мне поставили «отлично» и не приняли. Не было мест. Попросили оставить открытку с адресом, чтобы сообщить, если место вдруг появится. Приглашение мы получили через месяц, кто-то отказался от занятий. Я отправилась в музыкальную школу и там встретила девочку из нашего класса, Катю Казакову, с которой мы и проучились у одной преподавательницы, Сарры Марковны Лейзерах, все годы, а подругами остались на всю жизнь. Учить уроки по музыке мне было негде, первый год занималась у знакомых, а на следующий год мама продала свою единственную ценность – каракулевое манто – и мне купили пианино. На новое все равно денег бы не хватило, поэтому было получен с фабрики после реставрации инструмент марки «Циммерман». Когда я возвращалась из школы, мне навстречу во дворе прибежали мальчишки с криком:
–Милка! А вам гитару привезли!
Это был сюрприз. Теперь можно было заниматься нормально.
1 сентября 1938 года мама отвела меня в маленькую школу во второй «б» класс. С мамой – это был единственный раз, как и у всех моих сверстников. Дальше все самостоятельно. В школу я вошла в состоянии шока и не могла выйти из него месяца два. Ребята уже год отучились вместе. Все друг друга знают. Где сидеть – решили. Как учиться – тоже. А я, как истукан, встала и стою у стенки. И всех боюсь. И что делать – не знаю. Звонок. В класс входит средних лет скромно одетая женщина – наша учительница Анна Семеновна Тимофеева. Увидела мою перевернутую физиономию, взяла за руку и отвела за парту, где уже сидела девочка с роскошными рыжими кудрями. Хорошо, что А.С. назвала ее Шурой Ширинкиной, а то я бы побоялась спросить, как ее зовут. Ступор у меня не проходил. Я с ужасом ждала, что меня учительница о чем-то спросит. Но это была НАША школа. Очевидно, Анну Семеновну предупредили, что новенькая нигде раньше не училась. И это моей любимой учительнице я обязана тем, что не заработала тяжелый невроз. Только через месяц, дав мне адаптироваться, она задала мне первый вопрос. И еще. Я люто ненавидела свое детское имя «Мила» и предупредила, что если Милой назовут, в школу ни ногой. Анна Семеновна, конечно, об этом не знала, но сразу назвала Людой, что примирило меня на некоторое время со школьными буднями.
Вначале все шло через пень-колоду. Что-то не поняла я по арифметике. Спросить постеснялась. Пришла домой и заявила, что больше в школу не пойду. Тут родитель посадил меня за стол и внес ясность. Решение бросить школу пришлось отложить. Однако скоро я опять вознамерилась расстаться с образованием. На этот раз причиной было мое, взлелеянное мамой, полное неумение общаться с себе подобными. Мальчишки наши, как и везде, пройти мимо не могли, чтобы не дернуть за бантик, или не толкнуть. Однажды даже привязали мою чернильницу-непроливашку в мешочке к лампочке на потолке – как только и достали! А я с жизненной установкой «отходи» и «надо слушаться» только и могла забиться в угол. Тут опять на сцену вышел мой отец. Он вырезал из дерева большую крепкую линейку и подал мне ее с инструкцией:
– Если кто сунется, бей, куда попадешь.
И прикрепил линейку к портфелю. Его для меня к школе сделал какой-то умелец из старого отцовского и отдал со словами: «десять лет ходить с ним будет». Знал мастер, что говорил. С ним я проходила всю школу и первые два курса института. Его убойную силу оценил мой, теперь покойный, друг Левка Соломоник. Через много лет я, удаляя большую липому у него на спине, грозно вопрошала: «говори, кто мою чернилку привязал?». А линейка тоже сыграла решающую роль в становлении моей личности. По привычке Генка Головков сунулся было толкнуть меня, я закрыла глаза и со всего маху огрела его линейкой по голове. Больше любителей не нашлось. Поняли, что я дам сдачи. Вот после этого я оглянулась по сторонам и почувствовала, что пришла учиться в свой класс. Теперь можно было заняться делом. Очень мне в этом помогла Шурочка, сидя со мной на одной парте. Она долгое время заходила за мной по дороге в школу, и мы шли вместе. Это тоже примиряло меня с действительностью. А из Шурочки потом вышел превосходный преподаватель географии и работала она очень долго.
Бедная моя мама, прожив всю жизнь под прессом, никогда в школе не училась. Воспитывая меня в строжайшем послушании, она не могла понять, что на свете существует коллектив, а детский коллектив – особая статья. В нем идет закладка будущего характера, а значит, судьбы. Дети жестоки, и хотя им незнакомы еще многие особенности взрослого общества, они его хорошо предваряют. И школа – это тоже важнейший этап в жизни. Я сужу по историям классов сына и внучек. Какое поле деятельности для психологов (настоящих)! А мамино влияние как-то ослабло! Опять же, генетика без моего ведома проявилась. И я рано усвоила, что мое дело – работа. Дело свое надо знать. Для этого надо хорошо учиться. А чтобы тебе в этом не мешали, умей постоять за себя. Первой не лезь, незачем и некогда, но если тебя тронут – давай сдачи. Потом выяснилось, что по гороскопу я – лошадь. А кем бы мне еще-то быть с моей наследственностью? А лошадь, между прочим, обидчика может лягнуть, и еще как!
Обучение во втором классе было направлено на выработку почерка и грамоту. Писали в тетрадках в три линейки с соблюдением нажима и наклона. У меня с чистописанием было туго. Ребята целый год упражнялись, а я объявилась без навыков. Что-то похожее на почерк у меня появилось только в старших классах, когда пришлось записывать быстро. По другим предметам я успевала. Тут мама оказалась права. В первом классе было бы тоскливо. Несмотря на пропуски из-за полного набора детских инфекций, я не отставала. Писали мы чернилами при помощи деревянных ручек со вставным пером №86. Для красивого текста и заголовков было перо «рондо». В мешочке на веревочке носили с собой чернильницы-непроливашки. В каждой тетрадке ценой по 10 копеек была промокашка. Задачки решали в тетрадях в клеточку. Соблюдали отступы и интервалы. Хорошо помню первую на моем веку политическую кампанию. У нас были тетради с рисунком Вещего Олега на обложке. Кто-то ретивый рассмотрел на ножнах его меча буквы: «долой ВКПб». Мы тоже пытались их разглядеть, но очевидно, фантазии недоставало. Тетради из продажи изъяли, художника посадили. А в следующих классах в учебниках были замазаны черной тушью портреты и вымараны абзацы об очередных врагах народа.
Не помню уроков физкультуры в младших классах. В маленькой школе места не было. Учителя все были в годах. В каждом классе они у нас менялись. Особенно долго болела я коклюшем в четвертом. Зинаида Ивановна Гилева, строгая и немного суховатая, сказала мне:


