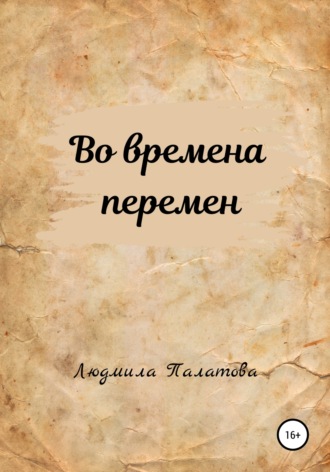 полная версия
полная версияВо времена перемен
А много лет спустя мама приютила на время окончания техникума их отвергнутую родными молоденькую девицу с новорожденным ребенком, которую угораздило стать матерью-одиночкой в самое неподходящее время. Она была как раз из спасенных из деревни девчонок, которые прошли путь от домашней прислуги. Дружба с ошмашинскими продолжается до сего времени. Мы много лет отдыхали в Ошмаши летом. И, сказать по правде, не знаю я мест прекраснее, чем окрестности Карагая. А недавно ко мне пришел пятидесятилетний дяденька с лысинкой и предъявил свою фотографию, где он в четырехмесячном возрасте у меня на руках. Это был тот самый младенец, которого моя мама пестовала, пока его родительница сдавала экзамены и писала диплом в техникуме. Еще он показал фотографию своего коттеджа в Ошмаши и пригласил в гости, за что ему большое спасибо.
Жили мы там обычно в амбаре, а позже – в новой избе. В этих краях, изобиловавших лесом, на стройматериалах не экономили, не то, что в Тамбове. Заборы были из бревен, а не плетни. Рядом со старой избой заранее ставили новую. Она стояла пустой до тех пор, пока не разрушалась первая. Тогда переходили в уже готовую. Удивила меня архитектура: одно помещение с печкой посредине. Полати. Лавки по краям. На них спали под шубами. Признаков белья не отмечалось. Летом ночевали на сеновале. Туалетов тоже не было. Все надобности справлялись с заднего крыльца – «с моста» – или в коровнике. Бани топились по-черному. Мыла после войны в деревне не было. Мылись «щелоком», т.е. настойкой золы. Нищета была отчаянная. Кормились со своего участка. Были куры, и выкармливали поросенка, петухи нападали на прохожих и пребольно клевались, а поросенок кусался. Набор овощей был тоже ограниченный: картошка, лук, редька, морковка, свекла и репа. Была грядка с огурцами и капустой. О помидорах не было и помину. Выращивать их не умели и долго не признавали. Ягодников около домов не было тоже. Ходили далеко за малиной и смородиной. Типичный вопрос того времени:
– Ну, которы из вас поедут на гомновозке в Поломишше по малину? (муж нашей хозяйки в колхозе возит жидкий навоз в ассенизационной цистерне).
Почему было не посадить кусты рядом с домом? Кстати, обязательно вырубали все деревья около избы, чтобы огород не затеняли. Удивляло, что к Пасхе никто не пек куличей, ели шаньги. И еще был один деликатес – рыбный пирог. Тесто было из ржаной муки грубого помола. В нем запекали непотрошеную рыбу целиком. Ели только рыбу, а корку бросали в окно на радость курам. Река Обва, тогда не загаженная, с настоящей речной водой и обильная рыбой, как магнитом привлекала к себе деревенских ребят. Они там пропадали с удочками. Улов был подспорьем в хозяйстве. Еще одно лакомство поставляла черемуха. Это тоже было ребячьей обязанностью. Моя благодетельница бабушка Прасковья, умница и воспитатель от природы, командовала внукам:
– Левонид, Аркадей (кондовые пермяки звались исключительно полными именами в любом возрасте)! Нате туеса, церемуху бруснуть! Хошь за час, хошь цельной день, набруснешь – слободний будешь. Можешь удиться!
Туеса наполнялись. Мальчишки 7ми и 9ти лет являлись, придерживая разорванные на дереве штаны, сдавали норму и мчались на речку. А из сушеной и размолотой черемухи пекли очень вкусные лепешки, похожие по вкусу на миндальное пирожное. Купить молоко у хозяев мы не могли. На шестерых детей и налоги молока не хватало им самим. Налоги были настолько грабительскими, что концы с концами не сходились. Так что наша плата за постой была тоже как нельзя кстати. Позже селяне ездили в город, покупали там масло в магазине и сдавали его «на налог», потому что накопить его в нужном количестве от одной коровы было невозможно. Все это остроумно, но не совсем нормативно, комментировала хозяйка Клавдия Васильевна Томилова. Диалект в Карагае тоже был оригинальным.
– Мама, тамо Танька Ванькина на Фонарике! (Татьяна Ивановна едет на лошади по кличке Фонарик).
– Ты куды с сеном? Давай ко мне. У меня наверху просто! (пустой сеновал, «слободний»).
– Там ребенок плачет!
– И че? Толше будет! Шкурка на заборе не повешатся! Ли-ко це! Ни одна шкура нету!
Надо заметить, что «повешай» неистребимо в Перми до сих пор во всех слоях населения. Так и режет ухо, когда разодетая дама говорит продавцу: «еще свешайте мне масла сто грам и рожков полкило».
– Какая погода сегодня будет?
– А которо-то одно: дож ли, ведро ли. Ободняет, дак видно будет. Этта зимусь надысь снегу-то чо было! А летось-то опеть дожжало. Дак сегоды, тожно, эк же будет. У нас бают: один год зима по лету, другой – лето по зиме, а третий – сАмо по себе. А вы тут че, зябете?
– Баба, тамо морок (туча).
– Айдате, почайпьем! – «чайпить» и в городе было глаголом («мы уже почайпили»).
Предпочтение какого-нибудь блюда отмечалось словом «уважаю». А если еда была «не очень», то утешали: «горячо сыро не быват!».
–Я уж больно губы (грибы) соленые уважаю, больше коровяк (белый).
Сидящим за столом говорили «приятный аппетит» и получали в ответ «нежевано летит». Чай пили подолгу, «впросидочку».
Глаголы употреблялись тоже своеобразно: «я стираюсь», «мы убираемся», «че на уроке жуешься?». Окончания произносили по написанному: «идем кататЬся, заниматЬся». И визитной карточкой пермяка было: «будешь Яички есть?» Остается неисправимым «лОжить», «болит коленкО», «вехотка» (мочалка), «резетка» (розетка) и точный термин для лентяев: «неработь». Неприбранную девицу величали «страминой». На рынке не торговались, а «рядились». В детском саду воспитательница командовала: «положте руки взад».
Семен Юлианович пришел в восторг, глядя на дедулю, который на пристани ногой пинал мешок с арбузами и безошибочно доставал подгнившие. Шеф спросил, как он определяет качество вслепую, на что эксперт ответил: «А по ём видно!». Через мешок.
В деревне был настоящий диалект:
– Нать-то, девки, я домой пойду. И вы полезайте в избу, (двери были низкими, чтобы не выпускать тепло, входить надо было согнувшись).
– Ну, гуляйте к нам! – приходите в гости.
– Гуньку-ту скидай (снимай одежду), и я стану разоболокаться (разденусь).
– Посидим посоветовам (побеседуем) с имя, да чё да.
– Не веньгай, давай! Болит – дак ко врачу ходи! Нет? Ну, тожно, сиди, не керкай.
– Ну, чё у вас, ребя? Эко место дров-от! Не горе! Напилим, беда делов! Двое-трое не как один! Надысь у Васьки шибко баскую (хорошую) поленницу слОжили.
– Эх ты, бесцетной! – (бестолковый, не знающий счета).
– Кольку-то погаркай давай! – (позови).
– Ты тамо ково робишь? Ково с него справляшь? – (что от него хочешь?)
– Поросенок-от за оградой (на улице)! Кто выганивал? Имайте давайте скорЯе!
– Тамо варнак (бродяга, разбойник) литовку (косу) насылал (предлагал). Нать-то ворованная! – (В деревне сразу после войны дома не запирали).
Меня снисходительно поправляли: не «за водой» ходить, а «по-воду» (за водой далеко уйдешь).
– Ты сбрендил, ли чё ли? Чижало ведь! Наджабишша! Чё кожилиться-то! (надрываться – в двух вариантах). Кольку-ту вовсе уханькали! И чё к чему?
– Не сепети! (не мельтеши, не суетись). Пропало уж, дак чё ереститься-то?
– Ты свое бери, не попускайся!
– Це-то ся, девки, пристала я! Седу, полежу маленько!
– Лихотит меня че-то! (тошнит). Ономнясь наелся, как дурак на поминках!
– Ты пошто Ваську-ту надысь стювал? (воспитывал, ругал).
– Дак с отцом этта зубатил! (спорил, дерзил). Воссе ровно дикошарый! От ума отставил!
– Это кто пилу эк-то изнахратил? (испортил). Отдай деду Ваське, он изладит.
Байка от моих соседок: молебен в маленькой деревеньке. Мужиков мало. Молодой парень звонит в колокола, снизу ему кричат:
– Слезай скоряе, давай! Пора иконы несть!
_ Вот ишо! Звонял, а теперя иконы неси! Нас …….л бы я на их! В более мягком варианте звучало бы «наплеваю я имям».
Как тут не вспомнишь пушкинское: «У нас мужик поминает имя божье, почесывая свой зад».
В городе во время застолья деликатно угощают: «получайте, давайте!». В ответ можно было услышать:
– Ну-к чё ты ему навеливашь!
– Эй! Пошамали уже? – в смысле, поели.
– Это чё он?
– Дак пал назад себя! Сколь ему говорено, дак ведь пишшит да лезет! Ну, и навернулся однова!
Сцена в клинике. Доктор докладывает больного:
– Пациент пал назад себя, получил сотрясение мозга. – Заведующий:
– Вы хотите сказать, что больной упал на спину? – Возмущение.
– Ну, знаете что? Я русский человек и буду говорить по-русски!
– Опеть ичет (икота)!
– Ну долго вы там вошкаться (возиться) будете? – А хорошо скоро не быват!
– А он полешки-те кидат, дак почем зря! Вы там робите ли нет ли? Мотор-от у вас уросливый (капризный).
– Ну че ты разостраивашься? Наплюнь! Все наромально! Не две горошки на ложку.
– Ты чё как та бабка? Ходила по рынку, хотела купить погано ведро, дак не продавали!
– Возьми и мне заоднем!
– Че-то ся вся не могу, всяко место болит и голову обносит!
– Сколь ты знашь, дак я столь забыла!
– С грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь!
– Ты просись к Нюрке на квартиру. Она шибко обиходная (чистоплотная).
Вместо «да» говорили «ну». Кондуктор в трамвае: «Чё, все усялися? – Ну!»
Бабулька на пристани, увидев толпу народа, изумилась:
– Ну я-то к доцерЕ еду, а эти-те куды потарашшилися?
Там я впервые услышала определение «расшеперилась». Оно относилось к курице, которую наша хозяйка привязала за ногу к гнезду, потому что она не желала высиживать цыплят. Кура растопырила перья и квохтала. В Тамбове сказали бы «раскрылилася». Кстати, термин этот, как и «наджабиться», прижился в нашем хирургическом арго:
– Расшеперь-ка мне вот здесь! Хорошо, теперь вижу! А у парня в третьей палате ребро сломано или наджабил только? Имей в виду, тебе операцию в третью очередь поставили. Не наджабишься?
Учащаяся молодежь вполне могла на полном серьезе сообщить, что «сначала ножницАми, а потом пальцАми выделяли». А один из орди наторов обратился ко мне с таким заявлением:
– Людмила Федоровна! Во-первЫх, у Вас на чушке (на подбородке) яйца (не стерла следы яичницы), а во-вторых, Вас внизу вызывают.
Мой однокурсник назначал микстуру по одной хлЁбальной ложке три разА.
Про человека, который держится за привычку, говорили:
– Привыкла собака за возом бежать, дак и за пустой телегой трясется.
Своеобразная культура была даже в самой глубинке. Уже взрослыми мы поехали в гости к родственникам наших друзей. Их двухэтажный дом стоял на берегу Камы около переправы у Оханска. Был какой-то праздник. Собралась родня. Когда все уже были за столом, в комнату вошла молодая женщина с двумя девочками 4 и 6 лет. Одеты они были чисто, но по-деревенски. Платочки завязаны под подбородком, длинные до полу юбки, самодельные сапожки. Девочки стояли как по команде. Мама тихо сказала: «здоровайтеся!» Дети хором завели: «Дядя Ваня здрасте, тетя Нина здрасте» и так ко всем по очереди. Затем последовала команда: «садитеся». Сели на отведенное им место, ели аккуратно, изредка поглядывая на мать. Та управляла только движением бровей. За все время застолья дети не сказали ни слова. Когда стали вставать из-за стола, родительница так же тихо произнесла: «обиходьте сами себя». Девочки вытерли рты платочками и снова по порядку проговорили каждому взрослому «спасибо». А еще говорят «деревенщина»!
Еще в Ошмаши был дивный по красоте, какой-то чистый и домашний, лес с изобилием грибов и ягод. Таких «мостов» из маслят, рыжиков, порослей красноголовиков, белых мне больше не приходилось видеть нигде. И такой мир и покой наступал в душе, когда удавалось пройтись по «голешнику» – косогору с чудесным видом на округу – и заглянуть под знакомую елку за белым грибком!
Теперь пора вернуться в тридцатые годы. Карточки первый раз отменили в 1935 году. Со снабжением лучше не стало, но на короткий промежуток времени кое-какие продукты в магазинах появились. В Центральном гасторономе на улице Карла Маркса (Сибирской) был колбасный отдел, где упоительно пахло настоящей колбасой. Мама водила меня гулять в Комсомольский сквер перед театром. Она иногда покупала мне кусочек чайной колбаски граммов на 50, укладывала его на хлеб и угощала меня во время прогулки. Хлеб я считала издевательством над моей личностью. Такой деликатес, как колбасу, есть с хлебом – это кощунство, в этом я была убеждена. Фруктов в Перми в эти времена в продаже не было ни в магазине, ни на рынке.
Конфет в доме у нас не было тоже. Средства были весьма ограничены. Много лет спустя я узнала, что мама до смерти любили сладкое. Когда я начала работать и нужда отступила, она конфеты есть уже не стала. Я была к ним совершенно равнодушна, и, на мое счастье, ела вообще очень плохо. Мама даже носила мой суп к соседке, тете Кате, и просила ее угощать меня им под видом своего. Впрочем, номер этот обычно не проходил. До сих пор я не переношу, когда детей пытаются кормить насильно. Как и мне, это выйдет им боком. Мама была тяжелой язвенницей, и некому было объяснить, что мой плохой аппетит был предвестником болезни, ею же мне по наследству подаренной. Организм укрепляли с помощью рыбьего жира, политого на корочку черного хлеба. Частые боли в животе объяснялись «засорением желудка» и лечились касторкой. Можно не объяснять, что я думаю по этому поводу? Впрочем, и очень хороший аппетит тоже не всегда признак здоровья.
Не могу не вспомнить сценку, рассказанную моей подругой-педиатром. Она приехала в Одессу с маленьким сыном. На пляже рядом с ними тетенька типа «что поставь, что положи» открыла чемодан, набитый продуктами, и начала кормить своего весьма упитанного дитятю без передыху. Когда она завела его в воду и там принялась совать ему виноград, сердце педиатра не выдержало.
– Вы бы дали ребенку хоть немного отдохнуть. – Дама обернулась и подбоченилась:
– Женщина! А это ваш ребенок?
– Да!
– Так он же у вас синий!
Всеобщее внимание пляжа. Собрались и ушли домой. Подобная гастрономическая ассоциация с тощим магазинным цыпленком у мамаши вполне закономерна. Только вот когда ее ребенок впоследствии начнет ходить по врачам разных специальностей, в том числе к диабетологу, она будет винить кого угодно и уверять, что уж она-то сделала для сына все, что могла. И будет абсолютно права.
Не помню, как я научилась читать. Во всяком случае, буквы я не учила. Мама на рынке завела знакомство в газетном киоске, и ей киоскерша оставляла вновь поступившие книжки из серии «Книга за книгой». Это были брошюрки толщиной в простую тетрадку за 10 копеек того же формата по той же цене. Издавалась вся доступная детям русская и зарубежная классика: рассказы Л.Толстого, Горького, стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Майкова и др. Я и сейчас ощущаю запах свежей типографской краски с мороза и вижу, как мама достает новую книжечку из сумки. Я сажусь к ней на колени. Она начинает мне читать, медленно, с запинками, остановками. Я смотрю в книгу. Шрифт крупный, картинки отличные. Вскоре я набралась глазной грамотности и стала читать самостоятельно.
Благоденствие продлилось недолго. Полки в магазинах скоро опустели и появились многоквартальные очереди за маслом, сыром, рыбой, мясом. На ладонях и выше писали чернильным карандашом номера. Брали с собой всех детей, своих и соседских. И знаменитое «больше одного кило в одни руки не давать!» стало девизом на многие годы вперед. За 200- граммовым брусочком сливочного масла можно была простоять целый день и прослушать все скандалы на тему: «вас тут не стояло». Это если отойдешь ненадолго. В войну очереди закончились, потому что стоять было не за чем. Ввели карточки, и всех прикрепили к магазинам. Однако и тогда мы подпирали стенки у своего «распределителя» в ожидании «чего выбросят». На «жиры», «сахар», «мясо» (талоны в карточках) – лярд (жир неясного происхождения) по ленд-лизу, старые пряники непонятно из чего сделанные, или, – великое счастье – американскую тушенку, которая, как я теперь думаю, посылалась в качестве гуманитарной помощи, но это было уже в конце войны. Очереди стали знамением нашего поколения. А проходя мимо бывшего распределителя, теперь это кафе в фельдшерском колледже на площади Уральских добровольцев, я каждый раз вижу себя двенадцатилетней на ступеньках до сих пор.
Социализм пополнил русский язык своей специфической терминологией. Товары были дешевы – ситец стоил 80 копеек за метр, а хлеб 15 – 20 копеек. Его тогда взвешивали, и всегда был еще довесок, который я называла «привесок», но ничего, кроме хлеба, в свободной продаже не было, и знакомые слова получили новое употребление. Вместо «продать» – «давать» или «выбросить». Вместо «купить» – «взять», чаще «достать», а карточки «отоварить». Вместо «зарплаты» – «получка». Обязательным предметом «на выход» стала «авоська» – сетчатая сумка по прозванию «нихераська». Она в сложенном виде помещалась в кармане (вдруг что-нибудь попадет по дороге), а при добыче приобретала достаточный объем. «Доставали» и продукты, и промтовары через «задний кирильцо», у кого был «блат».
Абсолютно типичный случай – покупка мною паласа. Мама очень хотела что-нибудь на пол. Напарник по работе попросил помочь мне свою кузину, которая была заведующей отделом небольшого универмага. Я получила приглашение приехать к определенному часу. Мама напросилась со мной – у меня вкуса нет, куплю не то. В магазине начальница отвела меня в сторонку, у кассы вертелся пенсионер – член общественного контроля. Когда он купил что-то тоже дефицитное и ушел, меня повели в подвал. Там на полу лежали два пакета в кордовой бумаге, плотно завязанные шпагатом. Дама попинала их и указала на тот, который был побольше. Мой муж, призванный вниз, взвалил его на плечи и вынес через черный ход во двор. Я поднялась в салон, оплатила покупку, забрала вконец обескураженную маму, и мы отправились домой, где, наконец, развернули добычу: синтетический палас на резине, значительно больший, чем надо, по размеру. Ну и на том спасибо!
Профессия продавца стала самой «почетной и уважаемой» (прямо по Райкину). Даже в театре на первых рядах восседали полнотелые дамы с прическами «бабетта» и в платьях с очень крупным рисунком в цветах. Так наряжались трудящиеся прилавка. Это продолжалось очень долго. Уже после перестройки я отправилась на рынок за перцем. Народу было мало. Продавщица сказала мне:
– Здравствуйте! Что вы хотите? – чем повергла в глубокое изумление. Обычно продавцы имели выражение крайней неприязни и давали понять, что им мешают и вообще «непонятно, чего тут ходют», все равно же на прилавке ничего нет. Я объяснила, что мне надо. Она вышла из-за стойки и сняла перец с витрины. Это что, настают новые времена, и покупателя отныне будут считать за человека?
– Вы, ведь в ресторане работаете?
Я поняла, что сейчас пакет с перцем вернется назад, но честно ответила отрицательно.
– Обозналась! Я еще подумала, как вы постарели! – сообщила тетка, но перец не отняла. Так, в состоянии полного недоумения я несла покупку домой и думала, что подобное раболепие перед «дающими» уже вошло в менталитет.
Увидев любую очередь, сначала занимали, а потом спрашивали, что дают, иначе подойдут другие и тебе не достанется: «как раз передо мной и закончилось!» Классический анекдот того времени:
– Скажите, что дают?
– РембрАндта (книги были тоже в большом дефиците).
– А, простите, это лучше, чем кримплен? (для непосвященных – это обивочный материал, который у нас приспособили для пошива костюмов)
– Не знаю, не пил!
Проблемы со снабжением не касались «слуг народа», начиная с инспекторов райкомов партии и трудящихся райисполкомов, правда, там была строгая иерархия. Моя подруга как-то сказала: «вчера в гастрономе видела секретаря обкома по пропаганде (второе лицо в области). Наверное, за спичками зашла». Ничего другого в магазине «лицу» понадобиться не могло – все привозили на дом. Товарищи пониже рангом снабжались в спецраспределителях. Ход туда простым смертным был воспрещен. Мне однажды повезло: пригласили поработать месяц в спецбольнице и облагодетельствовали спецпайком к дню Великой Октябрьской революции, кстати, невзирая на выраженное сопротивление остального персонала. Они тоже считали себя элитой в некотором роде. Утечки информации, конечно, происходили, например, наша доктор рассказывала, как экипировали делегатов на съезды партии в спецателье. Но в основном, «слуги» были достаточно изолированы от широких масс. Всем «чинам» запрещались контакты со старыми друзьями, чтобы лишнего не выбалтывали. Мой товарищ, получив должность, немедленно прекратил с нами всякое общение на весь период пребывания «на верху» и немедленно возобновил дружбу после ухода оттуда.
Перед финской, «незнаменитой войной» вдруг магазины заполнились товарами. В длинном здании около Окуловской площади (сквер Уральских добровольцев), на которой тогда проходили парады, где рядом в таком же доме потом была табачная фабрика, вдруг открылся универмаг «Уралторг». Мы ходили туда, как в музей. Теперь это называется «зыринг» по аналогии с «шопингом». На полках лежали невиданные нами товары: полотно, ситец, драп, сукно, шелк, катушки цветных ниток, мулине, белье, готовое платье.
Прошло полгода. Началась война с «белофиннами». Она быстро закончилась. Но еще быстрее закончилось «изобилие». И «Уралторг» закрыли. А там и до большой войны стало рукой подать.
Однако, «не хлебом единым». Что касается культурной жизни, то в Перми, по воспоминаниям старшего поколения, в среде интеллигенции жизнь протекала насыщенно. Компании собирались по интересам, часто из сослуживцев. Врачи устраивали домашние концерты, пели, играли на разных инструментах. Замечательно играл на фортепиано профессор Николай Михайлович Степанов, прекрасно пела жена профессора Селезнева Муза Петровна. Составился даже квартет. Обсуждали книжные новинки. Часто общались на дачах, которые снимали на лето в Верхней Курье и ездили на работу на речном трамвайчике. Это продолжалось какое-то время и после войны, пока живы были наши учителя. Когда мы студентами на симфонических концертах смотрели с галерки в партер, то видели там весь ученый совет института. Это стимулировало интерес ребят к искусству. Недаром в анкетах, присланных на встречи однокурсников, постоянное пожелание побывать в театре.
Театр, до войны музыкально-драматический, работал по принципу антрепризы и не баловал публику репертуаром. Меня впервые повели туда в 1936 году. Давали «Русалку». Мне очень понравилось, а мама ругалась. Она слушала Собинова и Шаляпина в Баку и не одобрила ни пермского исполнения, ни декораций. Кажется, спектакль был вообще в концертном исполнении. Зрительный зал и сцена были тогда значительно меньше. Амфитеатр и балкон были представлены маленькими ложами. Все это было перестроено позже.
Недостатки культурных развлечений жители Перми, как и везде в провинции, восполняли сами, кто как мог. У нас из культурных мероприятий было только радио в виде черной тарелки на стене, которое передавало народные ансамбли – преимущественно хор Пятницкого – и последние известия, часто прерываемые «по техническим причинам», как и электричество. Оно использовалось только как освещение. Пищу готовили на керосинках или керогазах, гладили утюгом на углях. Время от времени им надо было широко размахивать для поддержки горения. В отсутствие электричества зимой работать было нельзя. Темнело рано. Керосиновая семилинейная лампа свет давала довольно скудный. Тогда пели домашним хором, а через стенку отвечали «семейщики» тети Кати. Там был уже настоящий ансамбль с очень своеобразным уральским многоголосьем. И я постоянно вспоминаю звуки баяна, которые доносились из соседнего двора. Это играл молоденький парнишка, отдыхая после работы. Судить о мастерстве я не могла, но слушать очень любила. Источником музыки был и патефон. Его ставили на подоконник, чтобы во дворе тоже было слышно.
Карандеевка
При всей скудости существования мама каждое лето везла меня в Карандеевку «из этой дыры оздоравливать». К деду собирались многочисленные потомки со всех сторон огромной страны. Из Ленинграда – тетя Вера, жена маминого брата Ивана, с моим двоюродным братом Геной, а в последний раз и с племянником Володей. Из Баку появлялись Лида и Валя Палатовы с их мамой, а моей двоюродной сестрой, Маней. Эти мои кузены были мне по маме двоюродными племянниками, а по отцу – двоюродными братом с сестрой. Прикатывала из Баку Валя Жильцова. После учебы из Тамбова возвращались на каникулы Ванюша и Тоня Палатовы, тоже кузены, дети тети Лены, уже студенты пединститута. Мы являлись с Урала.
Тамбов находится в лесостепной, даже больше в степной, зоне. При нас до войны около деревни был небольшой посаженный сосновый перелесок, а кругом, сколько глаз глянет, поля подсолнечника и проса, которое так красиво переливалось волнами под ветром. Избы строили стародавним способом. Вкапывали четыре столба. Между ними делали подобие плетня. Затем ногами тщательно мешали глину с навозом и соломой. Тут я не устаю удивляться, как жители на этой «помочи» не помирали поголовно от столбняка. Может быть, у них вырабатывался иммунитет? Полученной смесью обмазывали плетеную основу и выкладывали стены. Покрывали избы соломой. В кухне ставили русскую печь. Даже в самой бедной избе отгораживали «горницу». Это было парадное помещение, где стояла железная кровать с шишечками у тех, кто побогаче, и деревянная у бедняков. На ней горка подушек с самовязанной кружевной накидкой, снизу тоже вязаный подзор. На кровати, естественно, не спали. Это была декорация. Окна были завешаны половиками. Летом в горнице было темно, следовательно, не было мух и было прохладно. Там можно было отдохнуть на полу на половичках. Еще стоял стол, покрытый вязаной скатертью. В правом углу божница с иконами и вышитое полотенце, Библия и Евангелие. Когда разоряли церковь, бабкам не препятствовали разобрать и припрятать иконы и церковную утварь. Большие иконы «хоронили» по кладовкам. Около избы стояли огромные ветлы. Эти деревья есть и в Перми – они мне греют душу своим красивым силуэтом, как привет от деда.


