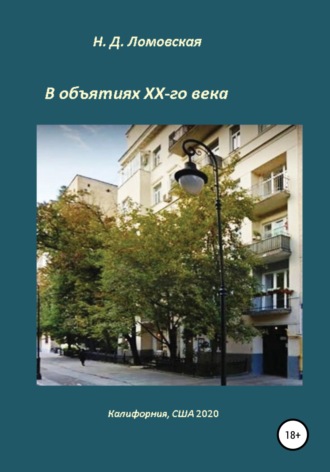 полная версия
полная версияВ объятиях XX-го века. Воспоминания
В. В. Бабков (1946–2006) упоминает моего папу в своей замечательной книге «Московская школа эволюционной генетики», которая многократно цитируется его российскими коллегами и историками биологии. Д. В. Шаскольский входил в эволюционную бригаду (впоследствии лабораторию) ИЭБ под руководством Д. Д. Ромашова, работающую в области эволюционной генетики. В книге помещена фотография, подпись под которой гласит: «Эволюционная бригада ИЭБ, ок. 1934 г. А. А. Малиновский, Д. В. Шаскольский, Д. Д. Ромашов».
Дмитрия Дмитриевича Ромашова (1899–1963), выдающегося популяционного генетика и папиного друга, я в последний раз запомнила по поездке к нам домой в одном троллейбусе. Это было сразу после войны между двумя его арестами. Мама пишет в письме папе в Германию (он после войны выпускал в Лейпциге Атлас «Промысловые рыбы СССР»), что Митрич опять уехал. С его женой Ксенией Алексеевной Головинской мои родители дружили всю жизнь. А. А. (Кот) Малиновский (1999–1997), крупный популяционный генетик жил, кажется, как и мы, на Малой Бронной и встречался с папой.
Главным направлением работы лаборатории, руководимой Д. Д. Ромашовым, было исследование мутационного груза в популяциях разных видов Drosophila, продолжающее работы лаборатории Сергея Сергеевича Четверикова, начатые в начале 1920-х годов.
Здесь просто невозможно не отвлечься и не описать хотя бы очень коротко историю возникновения в Советской России исследований по генетике и, в частности, пионерских исследований по популяционной генетике. В этом кратком изложении я использовала, главным образом, материалы воспоминаний Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900–1981), статью Николая Васильевича Глотова (1939–2016): «Сергей Сергеевич Четвериков, ученый и учитель», книгу Василия Васильевича Бабкова (1946–2006) «Московская школа эволюционной генетики» и другие многочисленные материалы, которые можно найти в интернете. Сейчас, когда я возвращаюсь к написанию своих воспоминаний после продолжительного перерыва, я хочу извиниться перед авторами, описывающими факты биографии С. С. Четверикова (1880–1959), которых я не упомянула раньше, а теперь уже не могу их найти в интернете. Продолжаю написанный ранее текст. Читать это все было настолько интересно, что я разрывалась между этим чтением и необходимостью все-таки продолжать что-то писать. Поэтому приходится сейчас выступать в роли айсберга, описывая здесь только верхушечку прочитанного.
В результате Октябрьской революции и гражданской войны связь русской науки, включая биологию, с мировой наукой была прервана. Русские ученые-биологи совершенно не были осведомлены об успехах зарубежных генетиков при изучении генетики плодовой мушки дрозофилы, позволившие открыть структурные основы наследственности. Немаловажным для начала генетических исследований в России был приезд в Москву в 1922 году уже тогда известного американского генетика Г. Мюллера (1890–1967), позднее ставшего Нобелевским лауреатом. Он привез с собой генетически маркированные линии дрозофилы и знаменитую книгу Т. Моргана, которая так и называлась «Структурные основы наследственности». В ИЭБ был организован генетический практикум по дрозофиле. Усилиями Н. К. Кольцова в институт стали поступать из-за рубежа научные журналы и была организована первая в стране лаборатория по генетике. Ее возглавил выдающийся ученый, человек энциклопедических знаний и кругозора Сергей Сергеевич Четвериков, уже тогда очень известный зоолог. С. С. Четвериков также организовал семинар по быстрому освоению достижений генетики. Все сотрудники лаборатории генетики были зоологами, прекрасно знающими объекты своих исследований и учениками С. С. Четверикова.
В течение непродолжительного времени было создано совершенно оригинальное направление генетических исследований – синтеза экспериментальной генетики с классическим дарвинизмом. Главная заслуга в этом принадлежала С. С. Четверикову. В 1926 г. была опубликована знаменитая статья С. С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики», которая сразу отвела ему роль создателя нового направления в биологии и сделала его основоположником эволюционной генетики. В этой статье был указан путь экспериментальной проверки, предсказанной С. С. Четвериковым гетерогенности природных популяций. Не могу не назвать имена сотрудников лаборатории генетики, которые предоставили экспери-ментальные доказательсьва гетерогенности природных популяций, развивали идеи С. С. Четверикова и большинство из них стали выдающимися генетиками, внесшими неоценимый вклад в развитие генетических исследований.
Вот эти имена: Д. Д. Ромашов, Е. И. Балкашина, Б. Л. Астауров, Н. К. Беляев, Н. В. и Е. А. Тимофеевы-Ресовские, А. Н. Промптов, П. Ф. Рокитский, С. М. Гершензон, В. П. Эфроимсон, С. Р. Царапкин, А. И. Четверикова, Д. В. Шаскольский (последний по собственному признанию С. С. Четверикова). Среди учеников и последователей С. С. Четверикова также знаменитые имена Н. П. Дубинина, Ф. Г. Добжанского и многих других (как же часто в поисках интересующих меня фамилий они оказываются в этой последней категории).
Блестящая карьера С. С. Четверикова прерывается его арестом в 1929 году, многолетней ссылкой и невозможностью возвратиться в Москву или в Ленинград, российские научные мекки тех и последующих времен. Аресты и ссылки не миновали и других сотрудников лаборатории и института ИЭБ. Дважды были арестованы и провели годы в сталинских лагерях Д. Д. Ромашов и В. П. Эфроимсон (1908–1989). В 1935 году сослали в Чимкент Е. И. Балкашину, навсегда прервав её карьеру генетика. Арестован и расстрелян в 1937 году Н. К. Беляев. В. П. Эфроимсон в период травли С. С. Четверикова на собрании был единственным, кто поднял голос в его защиту. По инициативе Н. К. Кольцова уезжают в Германию чета Тимофеевых-Ресовских, а в Америку Ф. Г. Добржанский. Работая там в области генетики популяций они не забывают цитировать работы ее основателя. Имя С. С. Четверикова в собственной стране на многие годы было предано забвению. С 1935 года после многолетнего отсутствия возможности работать по специальности и до его кончины он жил в городе Горьком и до 1948 года работал заведующим кафедрой генетики и деканом биофака в горьковском Университете. В 1948 году он был уволен «как не покаявшийся неисправимый морганист-менделист». В 1959 году незадолго до кончины он узнал о награждении его медалью «Планкета Дарвина» за развитие эволюционного учения и генетики. Этой награды Германской Академии естествоиспытателей он был удостоен в связи со столетием публикации книги Ч. Дарвина «Происхождение видов». Медаль вручили также Н. П. Дубинину и И. И. Шмальгаузену, который и привез медаль С. С. Четверикова из Германии.
Не буду останавливаться на тернистом пути возвращения имени С. С. Четверикова в советскую печать. Даже в книге В. В. Бабкова – образце, по моему мнению, труда по истории науки, вышедшей в 1985 году, не знаю, по каким соображениям цензуры, самоцензуры или по иным причинам ни словом не упоминается о трагической стороне жизни С. С. Четверикова и ряда его коллег. Сейчас в интернете и в печати очень много материалов, посвященных С. С. Четверикову – ученому и прекрасному светлому человеку. Спасибо людям, восстанавливающим поврежденную десятилетиями память. Можно также многое узнать и о работах и судьбах других генетиков прошлого века из самых разнообразных источников, порой совершенно неожиданных. Так, о судьбе Е. И. Балкашиной упоминается на сайте Восточно-Казахстанского краеведческого музея в период ее ссылки, жизни и работы в Усть-Каменогорске (автор и составитель сайта И. Григорьев). Единственное, что хотелось бы отметить не в связи с последним упоминанием, что приходится относиться к публикациям с осторожностью ввиду субъективности взглядов авторов, будь они даже историками науки.
Представляется, что папа в студенческие годы и в самом начале своей многолетней работы в ИЭБ хорошо знал С. С. Четверикова, которого считал своим учителем. У папы сохранилось письмо к нему С. С. Четверикова, посланное из г. Горького в 1948 году. Оригинал этого письма я передала И. А. Захарову перед нашим отъездом в Америку с тем, чтобы он передал это письмо в музей института общей генетики АН СССР. Привожу его полный текст:
Горький 1948. Х11.8. ул. Минина, 5, кв.6
Дорогой Дмитрий Владимирович,
Давно-давно получил Ваше письмо и вот все до нынешнего дня не отвечал. Не сердитесь на меня за это! Когда пришло Ваше письмо, я был безумно завален работой: я читал новый для себя курс (специалистам): «Новейшие задачи и последние достижения генетики». Вы представляете себе, какую адскую работу приходилось мне проделывать, рыться в журналах русских и иностранных, все это прочитывать, перерабатывать и излагать так, чтобы это было и понятно и интересно… Я был замучен в лоск, не спал ночи, голова трещала. При всем желании написать Вам я не мог урвать для этого и 1/4 часа. Сейчас моя жизнь качнулась в другую крайность: никаких лекций, никаких занятий, никакой работы вообще, свободен как ветер…
Далось мне это не совсем легко. 1-го сентября я получил увольнение из Университета, 10-го – с работы по Шелкопряду, над которым я работал 12 лет, а 13-го у меня сделался сердечный припадок (инфаркт), от которого я все-таки (к сожалению) поправился, хотя еще не совсем. Почти три месяца я пролежал пластом в постели, не смея даже приподняться. Сейчас мне разрешено вставать часа на 3–4, и вот я пишу Вам, сидя за столом.
Что-то Вы поделываете, как живете? Я тоже не раз вспоминал Вас за все эти долгие годы. Если встречаетесь с Квасовым или переписываетесь с ним, передайте ему мой самый сердечный привет, у меня осталось о нем самое светлое воспоминание.
Не смею просить Вас написать мне, но если бы я получил от Вас несколько строк, Вы бы очень обрадовали и утешили своего старика-учителя.
Искренне любящий и уважающий Вас С. ЧетвериковКвасов, Д. Г., (1897–1968) – крупный физиолог, зав. кафедрой физиологии в Ленинградском педагогическом институте.
Письмо написано в период после сессии ВАСХНИЛ – начала полномасштабного гонения на генетиков в нашей стране и не нуждается в комментариях.
Я хорошо помню, как папа часто вспоминал сотрудника кольцовского института, генетика и хорошего поэта А. С. Боброва, который был арестован в 1930-ые годы и навсегда сгинул в лагерях. У меня сохранился текст песни «Генетическая дубинушка», написанный А. С. Бобровым в 1929 г. Вот этот текст:
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДУБИНУШКАЕсли Рентген – мудрец изобрел икс – лучи,Если кто-то их ввел в медицину,То лишь мы в них нашли рычаги и ключи,Чтоб открыть генотипа машину.Припев:Эх, мутация, ухнем!Эх, летальная, сама пойдет,Подёрнем, просветим, да ухнем!Припев:И еще прозвучать не успели слова,Сделал Меллер работу с рентгеном,Как тотчас же в России нашлась голова,Чтоб начать расщеплнние гена.Припев:Кто бы мог ожидать, до какой высотыЭто дело поднимется сразу,Как бобы из мешка повалились скьютыАккуратнее, чем по заказу.Припев:Проложили пути и работать легко,Не смутит никакая помеха,На одной на семерке скьютов далекоБез сомнения можно уехатьПрипев:Удивительные подошли времена,Разгораются всякие страсти.Нынче сделать из мухи слонаУж вполне в генетической власти.А. С. Бобров (1929)Мне зачитали стихотворение Александра Сергеевича Боброва, вспоминает Владимир Павлович Эфроимсон, моего знакомого по университету, в связи с арестом которого и на меня набрали материал. Бобров был талантливым поэтом:
«За творчество, за мужество, за весь кольцовский стан, за крепкое содружество генетиков всех стран!» И задают письменно, в протоколе, такой вопрос:
«Против кого нужно мужество «кольцовскому стану» в стране победившего пролетариата»?
Папа входил в математическую группу при лаборатори эволюционной генетики (А. А. Малиновский, Д. В. Шаскольский, Д. Д. Ромашов при участии математиков А. А. Ляпунова (1911–1973) и директора института математики МГУ А. Н. Колмогорова (1903–1987) и других). В задачу группы входил математический анализ поведения хромосом в популяциях диких и домашних видов, а также анализ процессов, определяющих генетическую структуру вида.
Из папиного окружения тех лет я помню и была знакома с Валентином Сергеевичем Кирпичниковым, Верой Вениаминовной Хвостовой, Дмитрием Дмитриевичем Ромашовым и его женой Ксенией Алексеевной Головинской. Многих других бывших сотрудников кольцовского института, конечно, видела уже в ту пору, когда сама стала генетиком. С. Андреем Николаевичем Колмогоровым папа общался и в последующие годы. В. В. Бабков пользуется моим искренним уважением, как прекрасный специалист в области эволюционной генетики и историк биологии. В статье, опубликованной в журнале «Человек» (№ 6,1998) «Как ковалась победа над генетикой», он упоминает, что интересный сюжет сообщил ему Д. В. Шаскольский: «Пчеловод Б. М. Музалевский заявил небольшой доклад на сессии. Летом 1936 г. он был недалеко от Института Лысенко и заехал туда, чтобы получить подтверждение. Лысенко заинтересовался биологией пчелы, и в конце длинной беседы Музалевский спросил, как Лысенко удаются такие крупные дела. На что получил краткий ответ: «Я имею право входа». Речь шла о доступе к И. В. Сталину»
Следя из Америки за публикациями В. В. Бабкова, так печально было узнать о его безвременной кончине. Его книга «Московская школа эволюционной генетики» чудом сохранилась у нас при переезде в Америку. Я часто и с удовольствием ее перечитываю, гордясь крупными достижениями и открытиями советских генетиков 1930–х годов, удивляясь их невероятной трудоспособности, талантам и мужеству противостоять обрушившимся на них гонениям.
Во второй половине 1930-х Дмитрий Владимирович Шаскольский защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал в немецком журнале статью по генетике пчелы, которой очень гордился. В 1937 г. стал старшим научным сотрудником. В 1939 и 1940 гг. был приглашён заведовать кафедрой общей биологии Киргизского Гос. мединститута в г. Фрунзе. На современном сайте Кыргызской государственной медицинской академии упоминается, что организатором и первым заведующим кафедры, называемой сейчас кафедрой медицинской биологии, генетики и паразитологии был доцент Д. В. Шаскольский. Папа поехал туда сначала один, чтобы устроиться, а потом и вызвать семью. Через некоторое время он там тяжело заболел, отравившись угарным газом при закрытой печной задвижке. Пролежал двое суток без сознания, пока его не хватились. Его жизнь висела на волоске. Сильное повреждение центральной нервной системы сделало его почти неподвижным. Его мать Мария Николаевна и моя мама срочно выехали во Фрунзе (об этом городе мама тоже всегда вспоминала) и с большими трудностями привезли папу в Москву. Войну он встретил на костылях.
В конце этой главы не могу удержаться и не пересказать данные, найденные в интернете, о дальнейшей судьбе Сергея Сергеевича Четверикова, а также Елизаветы Ивановны Балкашиной, сотрудницы кольцовского института, сыгравшей выдающуюся роль как популяционный генетик и тоже совершенно невинно пострадавшую во времена сталинских репрессий.
Выдающуюся роль в разработке проблем популяционной генетики сыграл ученик С. С. Четверикова Н. В. Тимофеев-Ресовский. Работая в Берлине, он с 1926 по 1941 г. опубликовал большую серию работ в этой области науки. В 1927 г. в его статье, написанной совместно с Е. А. Тимофеевой-Ресовской, впервые в иностранной литературе было изложено содержание основополагающей статьи С. С. Четверикова (1926). Сходные работы в области популяционной и эволюционной генетики были выполнены зарубежными исследователями Фишером, Холдейном и Райтом в 1930-х гг. Один из виднейших исследователей в области популяционной генетики Ф. Г. Добржанский (1900–1975), США, в своих работах цитирует труды С. С. Четверикова и признает их исключительно важное значение для развития современной генетики и эволюционной теории. Он впервые в 1959 г. опубликовал сокращенный перевод на английский язык основного труда С. С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики».
Значение работ С. С. Четверикова в биологии, особенно в области популяционной и эволюционной генетики, соизмеримо с такими выдающимися открытиями, как установление законов Менделя и создание хромосомной теории наследственности.
Далее мне хочется процитировать отрывок из статьи А. Шварца «Крушение Сергея Сергеевича», опубликованной в журнале «Слово» /Word/, 2007, 55.
«Зимою тридцать седьмого года Четверикова неожиданно навестил ученый секретарь Наркомзема. Время было строгое, предвоенное, разговор короткий: нужна чесуча, парашютная ткань, мы не можем больше зависеть от Японии. И он предложил Сергею Сергеевичу приспособить дубового шелкопряда к средней полосе, попросту, заказал ему неслыханную породу южного червя. Четвериков сразу понял: задача почти обречена, тысячи колхозов от Молдавии до Татарии пытались приютить шелконосную Сатурнию, и везде полный провал. Слишком нежен, привередлив был китайский гость, правда, дуб наш ел охотно, но каждую осень болел, мерз и дох. Велик был риск, и Сергей Сергеевич знал, чем грозит ему срыв. Но, подумав, не отказался, на то был особый расчет.»
В. Марьиной роще, молодой дубраве близ Оки, он устроил небольшой опорный пункт, что-то вроде сельской фермы с лабораторией, и стал здесь приучать шелкопряда к русским холодам. Собственно, приучать он как раз собирался меньше всего. Иная задумка была у Сергея Сергеевича. Генетик, он лучше многих понимал, что никакие переделки, закалки и всякие перевоспитания тут не помогут, червь просто вымрет. И если заняться делом всерьез, надо исходить из одного несомненного факта: гусеница шелкопряда зимовать под Горьким никак не может.
Но на беду именно так и выходило: китайская порода была бивольтинной, давала два поколения в год, и второе приходилось как раз на октябрь… В. Японии это, конечно, удобное время, там тепло, сухо, солнечное, а у нас, в средней полосе, гусеница, едва выйдя из личинки, чахла на голубых дубах. И, не успев окуклиться, гибла. Что делать? Не заняться же ему, впрямь, яровизацией шелкопряда. Сергей Сергеевич нашел отличный выход, даже два – на выбор. Нужно вывести скороспелую породу червя, сжать, втиснуть оба поколения в наше короткое лето, или, наоборот, замедлить цикл размножения, так растянуть его, чтобы до октября шелкопряд приносил только один урожай и зимовал бы в стадии личинки или куколки. Так и решили: первую задачу Четвериков поручил ученице, за вторую взялся сам.
Из письма брату Николаю Сергеевичу, 1942 г…Вчерне моновольтинная порода уже получена, и я мог телеграфировать правительству, что имею 5.300 коконов. Это, конечно, пустяки, но по дошедшим до меня сведениям, в нынешнем году вследствие холодного лета и ранней осени погибли все выкормки дубового шелкопряда. Моя порода осталась единственным племенным материалом в Союзе, и, возможно, на этой базе суждено возродиться нашему шелководству…
Ему же, 1943 гМои дела с шелкопрядом идут хорошо. В нынешнем году вся выкормка в целом дала 95,8 % моновольтинных коконов…
Ему же, 1944 г…Живем не очень важно, – ждем, когда поспеет собственная картошка.
Жили как многие: капуста, горох, на третье – огурцы. Суп из лопухов жена декана готовила блестяще. И стирала, и тянула хозяйство, а по утрам мерила версты до опорного пункта. Ни зимой, ни летом не оставляли они шелкопряда.
Сергей Сергеевич, хоть и профессорствовал и заседал, а все старался улучить минуту для Сатурнии. Войдет в дубраву – тишина, палые листья шуршат под дубками, он на крыльцо, открыл дверь, и первое – не видит, а слышит своих червей: "Ах, как они едят! Войдешь в лабораторию, а там хруст, будто в стойлах лошади овес жуют!" И вывел-таки породу, приспособил южного червяка к среднерусской суровости. Сдал "Горьковскую моновольнинную" в испытание, получил правительственную(!) награду и тут же занялся новым делом: решил перевести гусеницу с дуба на березу. Березового шелкопряда задумал Сергей Сергеевич. И вывел бы! Вот уж начал он снова скрещивать, отбирать, поставил опыт сразу на девяти семействах. И ждет, приглядывается к червяку… Восемь линий не вынесли, погибли, но одна прижилась, на березе завила коконы. И числом не меньше, чем на дубе. Возликовал Сергей Сергеевич, и, верно, такого в природе досель не бывало. «Да еще, коконы-то оказались первоклассные, лучше дубовых! – писал он брату. – Теперь от этой семьи поведу линии и «березовая» порода у меня в руках. Ты только подумай: шелкопряда можно будет выводить и под Ленинградом, и под Пермью, а если захочешь, хоть в твоем Миассе.»
Осенью 1945 года, – вспоминает В. И. Сычевская, – я была у Сергея Сергеевича в Горьком, он уже плохо видел, но был по-прежнему полон интересных мыслей, энергичен, занимался шелкопрядом… В октябре 1945 он еще не знал, что случится через три года. Но теперь-то уж можно рассказать.
Четверикова вызвали к ректору.
– Мы высоко чтим вас, Сергей Сергеевич, – начал он, – и хотели бы сохранить в Университете… Но вы знаете… словом, надо отречься…
Профессор сидел прямо, молчал, и ректор округлил свою мысль:
– Это формальность, напишите, что вы отказываетесь от прежних ошибок, от морганизма и вернемся к делу».
Снова помолчали.
– Вы полагаете, это поможет? – усмехнулся Сергей Сергеевич. Ректор не понял, тогда он почти закричал:
– Да если я даже отрекусь, кто вам поверит? – утих и внятно добавил:
– Справедливо или нет, но меня считают одним из основателей современной генетики…
И ушел. А в приказе было: «неисправимого морганиста-менделиста уволить… отчислить…»
Неисправимый лежал в это время с третьим инфарктом и никогда уж больше не вернулся ни в университет, ни в Марьину рощу.
«Что для меня самое главное в любом научном исследовании? Это – ПРАВДА!! Не половинчатая правда, которая хуже открытой кривды, а настоящая, полноценная, чистая и честная правда.
Никаких кривотолков и никакой лжи, вольной или невольной. Так было и останется до последнего мгновения моей жизни; от этого я не могу отступиться, как бы обстоятельства ни складывались против меня…»
С. С. ЧетвериковБолью отзывается в сердце и когда подумаешь о судьбе младшего брата Сергея Сергеевича – Николая Сергеевича Четверикова (1885–1973). Спасибо интернету, о его жизни и работе сохранились подробные сведения. Он был человеком, преданным Советской власти и крупным ученым. Арестован в 1930 году и приговорён к 4-годам заключения. В 1937 году после разгрома медико-биологического института, в котором он работал, был вновь арестован. После войны в 1946–48 годах работал в радио-биологическом институте вместе с крупным генетиком С. Н. Ардашниковым по проблемам первичных механизимв ионизирующей радиации. (О С. Н. Ардашникове я упомяну в следующих главах моих воспоминаний.) В 1949 году Николай Сергеевич переехал в г. Горький, когда Сергей Сергеевич тяжело заболел, и принял на себя заботы о старшем брате. После кончины Сергея Сергеевича в 1959 году Николай Сергеевич переехал в Москву и продолжил интенсивную научную и научно-литературную деятельность. Н. С. Четвериков перевел книгу американского генетика К. Штерна «Основы медицинской генетики», 1965 г., под редакцией В. П. Эфроимсона.
Через много лет после кончины С. С. Четверикова, по инициативе его коллег по кольцовскому институту и других генетиков, было решено собрать деньги и поставить памятник на его могиле в г. Горьком. В то время студент кафедры дарвинизма Горьковского университета И. Ф. Жимулёв, где долгие годы работал Сергей Сергеевич, пошел разыскать его могилу после стольких лет забвения. Могила оказалась в заброшенной и грязной от мусора части кладбища. На палке, воткнутой в землю, была прикреплена крышка от консервной банки с фамилией Сергея Сергеевича. Гроб с его прахом студенты перенесли в другое место кладбища. Памятник на могиле Сергея Сергеевича поставили после долгих мытарств на деньги, собранные его коллегами по кольцовскому институту, генетиками других институтов и более молодыми почитателями его таланта. И. Ф. Жимулёв, который нашёл его могилу, потом сожалел, что он выбросил консервную банку с могилы С. С. Четверикова, а не сохранил её как память о том, как в не очень далёкие от нашего времени годы безжалостно стирали из умов и сердец людей имена, прославившие своими открытиями российскую науку.
В 1973 году в г. Горьком состоялись Четвериковские чтения, инициированные президентом В. ГиС академиком Б. Л. Астауровым и председателем Совета по генетике и селекции АН СССР Д. К. Беляевым. Родной брат Дмитрия Константиновича Николай Константинович Беляев был ближайшим учеником Сергея Сергеевича, погибшим в сталинских лагерях. Ведущую роль в организации чтений сыграли также сотрудники Института цитологии (ИЦ) и Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск) З. С. Никоро, которая проработала все годы с С. С. Четвериковым на кафедре генетики Горьковского университета и М. Д. Голубовский, бывший в то время ученым секретарем секции популяционной и эволюционной генетики при Совете по генетике АН СССР. Мой папа, Д. В. Шаскольский, тоже ездил в Горький для участия в этом симпозиуме. В 1983 г. в Новосибирске вышла книга С. С. Четверикова «Проблемы обшей биологии и генетики: (Воспоминания, статьи, лекции)», Отв. Ред. З. С. Никоро. Предисловие М. Д. Голубовского.

