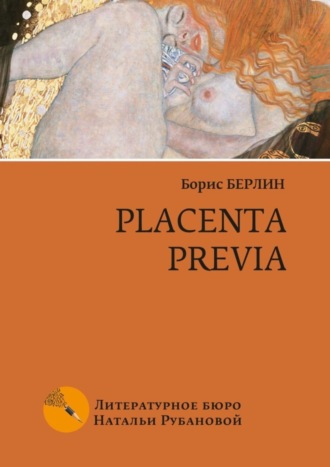
Полная версия
Placenta previa. Повесть и рассказы
– Дыши на меня, зайчонок, дыши, выдыхай свою болезнь, я заберу ее себе.
– Но ведь тогда ты заболеешь, – шептала она простуженным голосом, и я чувствовал ее горячее дыхание на своей шее.
– Я никогда не болею, разве ты не знаешь? Ну, скажи, ты помнишь, чтобы я болел хоть раз? Помнишь?
Она смотрит на меня и качает головой.
– Вот видишь, мне нельзя болеть. Совсем.
– Почему?
– Потому что у меня есть ты – мой Майчонок-зайчонок, моя дочка, а значит, я должен о тебе заботиться, защищать, лечить, как сейчас. Ведь так?
И она устраивалась поудобней, утыкалась мне в шею и засыпала. Я сидел, почти не шевелясь, иногда дремал вместе с ней, а когда она просыпалась, поил чаем с малиной и рассказывал подряд все сказки, которые умудрялся вспомнить или тут же на ходу сочинить. Однажды она никак не могла уснуть, и я придумал позвать на помощь барашков. Поначалу она удивилась:
– Каких барашков?
– А разве я не рассказывал? Есть такие барашки, очень добрые и ласковые, они приходят и помогают детям уснуть.
– А откуда они знают, что я не сплю? Они что, волшебные?
– Еще какие – самые волшебные барашки на свете. Ты только представь, как они пасутся и щиплют траву, у них кудрявая шерстка и очень симпатичные мордашки. Они подходят по одному и тычутся ими прямо в твою ладошку. Представила?
– Ага.
– Ну вот, а теперь закрой глаза и попробуй их сосчитать, каждого, кто подойдет.
– Но их же много, а я умею только до десяти.
– Не страшно. Ты, как дойдешь до десяти, каждый раз начинай сначала, вот и все.
Она зажмуривается, и губы ее начинают шевелиться. Она считает про себя, вдруг открывает глаза и говорит:
– Папочка, у меня не выходит. Они разбегаются, им скучно считаться просто так.
– Это бывает. Сейчас мы придумаем про них сказку, такую, чтобы они заслушались. Тогда они не разбегутся, и ты сможешь их сосчитать.
– Давай. Только я не смогу сразу и придумывать, и считать, придется тебе, ладно?
– Ладно, но ты лежи тихо с закрытыми глазками, и как только они соберутся вместе, сразу начинай считать.
– Договорились, – она закрывает глаза. – Начинай.
– Давным-давно, когда ты была совсем маленькая, а может, еще раньше, жили-были на свете волшебные барашки. Это были очень хорошие и добрые барашки, но вот беда, они все время разбегались в разные стороны. Поэтому, когда наступал Новый год и надо было собираться дома за праздничным столом, обязательно кого-нибудь не хватало.
– А дома – это где?
– Там, где они жили. Совсем недалеко.
– В соседнем доме?
– Гораздо ближе, – и я кладу руку на ее головку. – Вот здесь.
– Здесь даже один барашек не поместится.
– Поместится. Это же не обычные барашки, а волшебные, совсем крохотные. И потом, понимаешь, какое дело, они, если что, должны быть всегда под рукой.
– У кого?
– У тебя, конечно. Это же твои барашки.
– А как это – если что?
– Это… ну, как если вдруг.
Она морщит лобик.
– А у тебя такие барашки тоже есть?
– Мне они ни к чему, потому что у меня есть ты. Ну, а если что… если вдруг, ты же ведь поделишься со мной, правда?
Ее голос становится тише, речь все медленнее.
– Поделюсь… Расскажи, какие они…
– Они все в кудряшках и ужасно умные. Это главное.
– А что они… умеют делать?
– Выполнять разные желания. Все, что задумаешь.
Она уже спит, но все-таки успевает задать еще один, последний вопрос:
– А что задумаешь… ты?
– Я уже задумал.
– Что?..
Она спит, но я все-таки произношу одно-единственное короткое слово:
– Тебя.
Уже давно я произношу его и много других слов только про себя. Потому что есть часть жизни, над которой мы не властны. Потому что это моя Зая, моя единственная дочь.
И будь я проклят, если знаю, что с этим делать. Что делать с этой нежностью – до комка в горле, до судорог на кончиках пальцев.
Вдруг остро захотелось, чтобы все было как раньше: елка до потолка, запах хвои, Зайка и ее любимая пижама с барашками. Чтобы, так и не дождавшись двенадцати, засыпала у меня на коленях. Вот я несу ее, укладываю, снимаю с ног башмачки, укрываю одеялом. Усаживаю рядом с кроваткой пушистого белого зайца, чтобы обрадовалась, когда проснется, и чтобы можно было сказать ей наутро: «Ну вот, теперь у каждого из нас есть по зайцу, правда, здорово?»
И она забирается ко мне подмышку, прижимается всеми своими барашками, и мы просто валяемся и рассказываем друг другу новогодние сказки и все подряд.
И снег за окном, и жизнь еще никогда не кончится.
И я всего-навсего отец.
– Папочка, у меня все в порядке, не кричи так. Все хорошо. Я просто хотела поздравить тебя еще раз, по вашему времени. И, пожалуйста, не забудь сделать то, что ты обещал. Я про записку, помнишь?
– Конечно. Обязательно. Этот твой звонок… Я почему-то решил, что-то случилось, – я делаю Дюку знак, и он мгновенно исчезает, мы остаемся с ней один на один. По крайней мере, меня никто не слышит. – У тебя в самом деле все хорошо? Вот все-все, а? У Сереги, у Сержа твоего тоже?
– У него тоже. Наверное…
– Почему наверное? Что-то ты… Давай-ка рассказывай, в чем дело? Поссорились, что ли?
– Да нет, папа, не поссорились, не в этом дело. Просто… мы уже не вместе. Мы расстались.
– Но ведь всего несколько часов назад, когда ты звонила в первый раз, все было в порядке? Или ты не хотела говорить? Послушай, Майя, мне приходится тянуть из тебя каждое слово. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло? Если вы не вместе, значит, ты сейчас там одна, так? Или?..
– Одна без всяких или, не сомневайся. Я просто поменяла отель, и билет тоже. Завтра я наконец буду дома. Ближе к вечеру. Ты же рад, правда? Я ужасно соскучилась. Вообще, хочу домой, к тебе. К тебе, к тебе. Париж прекрасен, но у нас есть свой – у тебя и у меня. Вот и все. А Сережа… Ну, это было, как… у тебя с Анютой, понимаешь? Мне показалось, я думала, что можно и так тоже. А здесь я увидела столько счастливых лиц, счастливых по-настоящему, без и так тоже. Сказала ему об этом и ушла. Я знаю, я поняла, чего я хочу на самом деле. Вернее, кого. Давно, может быть, слишком давно, в этом все дело.
– Ты говоришь загадками, мне трудно понять.
– А мне очень трудно говорить об этом. С тобой. Но нам все равно придется. Я хочу, чтобы ты знал: мама оставила письмо, ну… перед смертью. Тете Жене. Там все про нас с тобой, кто мы друг другу на самом деле, то есть кем мы на самом деле никогда и не были, хотя… Я совсем запуталась, прости. В общем, там все написано. Мама хотела, чтобы, когда мне исполнится восемнадцать, я узнала. И я узнала, тетя Женя переслала мне фотокопию по электронной почте. Всего одна страница, я покажу тебе. Я долго пыталась убежать сама от себя. Пока не случился Париж. Ну вот, теперь ты знаешь, ты понял. Об остальном завтра, хорошо?
– Зая, я… скажи мне только одно, она… мама… написала – кто?
– Для нас с тобой это совершенно неважно. Его никогда не будет в моей жизни, а значит, и в твоей тоже. К тому же его нет на самом деле. Уже давно. Зато есть я и ты. Только я и ты. А маме я благодарна, потому что каждый имеет право знать. И что больше не надо притворяться – тоже. А мы притворялись – и ты, и я. А теперь… Пусть я не твоя дочь, но все равно твоя, и только твоя. До завтра… папа.
Нет, мне не стало легче, если вы так думаете. Потому что, скорее всего, не стало меня. Оттого ли, что я перестал быть собой, оттого ли, что только сейчас, в эту самую секунду…
– Питер!
Наташа, конечно, это она, кто же еще? А я-то думал…
– Питер, слышишь? Что с тобой? Что случилось? – она берет в руки мое лицо. – Что-то случилось? Отвечай!
Но я не могу. Не могу, и все. Потому что думаю о другом.
Только я и ты. И больше не надо притворяться.
Не надо притворяться.
Не надо…
– Наташа, моя дочь сказала сейчас удивительную вещь. Она сказала: «Только я и ты. И больше не надо притворяться», – понимаешь?
Наташа убирает руки и выдыхает:
– Уф-ф-ф… Слава богу, я уж подумала, что-то случилось, а всего-то-навсего девочка выросла. Теперь я спокойна, Питер. Спокойна за вас обоих.
– Знаешь что, Наташа, – я смотрю на часы. – Знаешь что? До Нового года всего ничего, три минуты, а мы так ничего и не успели – ни задумать желание, ни даже выпить.
– Мне показалось, что это самое желание ты только что произнес вслух. В любом случае разбираться с этим тебе, и никому больше. А выпить еще не поздно, я принесу шампанское и позову Дюка. Подожди, мы сейчас.
Она уходит, а я отворачиваюсь к окну и утыкаюсь лбом в ледяное стекло. За ним – океан. Я не вижу его, но знаю, что так оно и есть.
И три бесконечных минуты, чтобы не попросить о том, чего хочешь больше всего на свете.
То, чего желать ни в коем случае нельзя и не пожелать невозможно.
Всего три минуты.
Только я и ты.
И больше не надо притворяться.
Часть вторая.
Почему бы и нет
РОЖДЕНИЕ
В начале июня Кончита родила мальчика.
Выписали ее и малыша в четверг утром, и жара в этот день стояла такая, что плавилось все, даже птицы на проводах, а океан укрылся маревом до самого горизонта. А уже в субботу друзья, соседи, да и просто все, кто хотел, пришли поздравить родителей и увидеть долгожданного наследника. Шума в доме у Феличе было не меньше, чем в баре. Впрочем, бар на пару дней был закрыт, вернее, просто переехал на это время в этот самый дом.
Кончита восседает в кресле, как на возвышении, хотя никакого возвышения нет и в помине. Рядом с ней люлька с безмятежно спящим Гвидо – ему не мешает даже эта нескончаемая, шумная череда гостей. Зато Феличе все время в движении, иначе он просто не может. Он снует между гостями, подводит вновь пришедших к жене и ребенку и бесконечно улыбается – он счастлив, счастлив на самом деле. И с этим уже ничего не поделаешь.
Голос Густава от самых дверей:
– Показывай свое чадо, Knabe, и свою мадонну!
Едва Феличе подводит его к Кончите и малышу, тот просыпается и заходится плачем. Мать берет его на руки, а Густав наклоняется и слегка дует ему на макушку. Когда ребенок затихает, он улыбается.
– Ну вот. Это родничок. На него надо подуть, это щекотно. Детям это нравится.
Шесть лет назад он так же дул на Майю. На ее макушку.
Ее детский врач принял гнойный аппендицит за приближение месячных. К ночи, когда поднялась температура и стало совсем плохо, я позвонил Густаву, и уже через четверть часа он был у Майкиной постели. Положил руку на ее горячий, как ночной снег, живот, и произнес только два слова:
– Скорую. Быстро!
И пока не приехала скорая, держал ее голову на коленях и точно так же дул на макушку. Опоздай мы тогда хоть чуть-чуть… А может, и в самом деле – родничок.
– Ну что же, начало положено, но ведь это только начало, не так ли? – Густав смотрит по очереди на обоих. – Теперь вам обязательно нужна девочка. Пока, конечно, рано, но и затягивать не стоит.
Шум вокруг не утихает, но тогда откуда эта внезапная тишина, такая плотная и звонкая, что, кроме нее, ничего и не слышно. Кончита распускает шнуровку, обнажает левую грудь, подносит к ней малыша. Ее предплечье украшает синяк, еще один угадывается на левом плече, у основания шеи. Феличе глядит на них, и глаза его наполняются слезами. Но и от радости ведь плачут тоже.
– Конечно, Густав, мы знаем. Надеюсь, бог не оставит нас и на этот раз, а мы уж постараемся. Дочка нам очень нужна, очень. Вот и с Питером мы об этом говорили. Еще зимой. Помнишь, amico?
– А как же? – я стараюсь улыбаться как можно убедительней. – Хотя ты и так невероятно богат, ведь ты обладаешь мадонной, но две мадонны всегда лучше, чем одна, правда? Особенно, если они твои, и только твои, большая и маленькая.
Феличе радостно кивает, он не слышит окончания фразы, и в этом нет ничего странного – оно у меня внутри: «Но ведь маленькая вырастет и тоже станет большой. И тогда – что со всем этим делать?»
Лето на острове – это, прежде всего, краски. Все, даже мы сами, кажется пастельным, или положенным на холст, словно в зале импрессионистов Русского музея, или любого другого. Может, именно поэтому ни музея, ни галереи здесь нет – зачем? Вот пятно незабудок у дороги – будто само небо, развеселившись, плеснуло кобальтом прямо на землю. Океан, снисходительно-лениво поглядывает на все это разноцветье, он-то точно знает: лето будет недолгим, скоро, совсем скоро, осень, и вот тогда…
Майя теперь приезжает гораздо чаще, на все выходные, а иногда даже посреди недели. За эти полгода у нее изрядно отросли волосы, а больше в нашей жизни не изменилось ничего, сколько бы ни таращились галки, заглядывая с веток в наши окна.
За обедом она рассказывает мне, как прошла неделя, и все-все-все, а ближе к вечеру, уже в сумерках, мы выходим на берег и идем вдоль кромки до самых скал, и все это время говорим, говорим, говорим, чаще всего молча, о том, о чем говорить нельзя. Правда, сегодня она рассеянней и молчаливей, чем всегда, зато я рассказываю ей про Кончиту с младенцем и ее синяки.
– Давай присядем, – говорит Майя и тянет меня за собой. – Вон тот камень, видишь?
Большой плоский валун у самой воды, она кладет голову мне на плечо, долго молчит и вдруг задает странный вопрос:
– А ты мог бы меня ударить?
Я поворачиваю голову и утыкаюсь лицом в запах ее волос.
– То есть как? Зачем?
– Ну, вообще. Если бы мы жили вместе?
– А разве мы не вместе? Я не понимаю.
– Я хочу сказать, жили бы как муж и жена?
– Какая разница – во-первых? Мы с тобой не муж и жена – во-вторых.
Майя встает, делает несколько шагов в сторону, поднимает и бросает в воду камешек, еще один. Я не слышу всплесков, зато слышу ее голос.
– Ты так и не ответил.
– Не просто мог бы, а с большим удовольствием. Хорошая взбучка тебе точно не повредит.
Она подходит, опускается передо мной на колени – прямо на песок, на камни – и, глядя на меня снизу вверх, произносит:
– Чего же ты ждешь?
Полгода назад мы так и не произнесли слова «любовь» – по крайней мере, в том самом смысле. Майя просто вошла, бросила на пол дорожную сумку и кинулась мне на шею:
– Папочка! Я так соскучилась!
С тех пор она продолжает называть меня по-прежнему – папа. Все это время и несмотря ни на что. Тогда мы проговорили всю ночь, я прочел наконец то Маринино письмо. Мы говорили обо всем, только о любви – нет. В какой-то момент она подошла, обняла меня за шею, ее губы были уже совсем рядом, и я уже почти отвернулся, но тут она сказала:
– Ты знаешь, это вовсе не так легко, – и спрятала лицо у меня на груди.
Все, что мне оставалось, – это прижать ее еще сильнее, гладить непривычно короткие, мальчишечьи вихры и повторять:
– Все будет хорошо, обещаю. Откуда тебе было знать, что не притворяться – и есть самое трудное.
Она замотала головой.
– Дело не в этом. Нам нужно время, и тебе, и мне. Мы стали другими, но еще не привыкли к самим себе и друг к другу. Я знаю, что это случится, но не знаю когда. И ужасно жаль времени.
Под утро, когда желать друг другу спокойной ночи было уже поздно, мы все-таки разошлись по своим комнатам.
АГНЕШКА
Я очень хорошо помню, как исчезла Агнешка.
Всего за четверть часа до конца моего дежурства девятьсот одиннадцать сообщила о пропаже женщины, и это был адрес Дюка. Конечно же, я поехал. И потому, что остров – это семья, а он ее неотъемлемая часть, и потому, что именно они с Агнешкой поддержали нас в первое, самое нелегкое время, и просто потому, что это Дюк. Ну и люди не должны пропадать просто так, не должны, и все. Иначе для чего нужна муниципальная полиция?
Дюк встретил нас на улице около дома. Вид у него был усталый, покрасневшие, воспаленные глаза, но выражение лица даже спокойнее, чем обычно, хотя и обычно он тоже не слишком проявляет свои эмоции.
– Привет, ребята. Такое дело… Агнешка пропала. Еще вчера. Искал ее всю ночь и утром тоже, и вдоль берега, и в дюнах. Потом позвонил в девятьсот одиннадцать.
– Когда ты видел ее в последний раз?
– Вчера утром. Потом ушел на маяк, а оттуда к тебе, Питер. Но перед этим я ей звонил, предупредил, что зайду к тебе. Часа в четыре.
– Родственники, подруги?
– Сестра у нее есть двоюродная, но далеко, на материке. Они и по телефону-то редко, не чаще раза в месяц, говорят. Она ничего не знает. А подруги… Все мы здесь – друзья и подруги, народу-то… Поспрашивал так, навскидку, никто ничего…
– Записку, может быть, оставила, что-нибудь еще?
Дюк качает головой:
– Нет. Не видел. Ничего.
– Из дома что-нибудь пропало? Ценные вещи, украшения, ее одежда, белье, косметика? Проверял? Ее сотовый?
– Да какие у нас ценные вещи, Питер? Откуда? Уж ты-то знаешь. Телефон ее здесь, на кровати нашел, а одежда, белье? Вроде на месте, я, честно говоря, не очень…
– Ладно, Дюк. Мы сейчас все осмотрим и составим протокол. Ну и, – я смотрю прямо ему в глаза, – поговорим с Наташей. Кстати, когда ты ее видел последний раз?
Нет, взгляда он не отвел, вздыхает и тихо отвечает:
– Ну да, понятно. Работа у вас такая, чего уж там. Наташа вчера ко мне приходила на маяк. В полдень.
– Когда ушла?
– Часа в два. Она поесть приносила, мы с ней обедали.
Берег мы обыскали самым тщательным образом. Вообще, проверили все, что возможно, и что в таких случаях проверять полагается, вплоть до ее телефонных звонков. Агнешка словно в воду канула. Впрочем, может, так оно и было на самом деле. Но признаков похищения, смерти, а тем более насильственной смерти, обнаружено не было, и, когда все процедуры были завершены, дело отправили в архив.
Пропал человек, бывает и так.
Они прожили вместе почти двадцать лет. Детей не было, и Дюк никогда этой темы не касался, а я, разумеется, тоже вопросов не задавал. Агнешка не работала, смотрела за домом, за садом, вела хозяйство. У них была корова, которую Майя прозвала Незабудкой, и имя это прижилось, хотя, чтобы научиться правильно его произносить, Агнешке понадобился целый месяц. Зато сама Незабудка стала откликаться на него почти сразу – мычать, поворачивать голову и косить влажным глазом. Мы снимали у них небольшую пристройку целых полгода в самом начале, когда я, наконец, получил место в полиции, уже можно было брать в банке ссуду, и мы подыскивали свой собственный дом. Тот самый дом навсегда.
Трудно сказать, были ли они счастливы чуть больше или чуть меньше других, но то, что главным членом их семьи было молчание, я знаю наверняка. Оно усаживалось между ними перед включенным телевизором или за обеденным столом, и не заметить его было невозможно. О чем молчал Дюк, я могу себе представить, а вот Агнешка… Я думаю, их было две: одна до, вторая после появления Наташи, хотя кто знает. И можно, конечно, предполагать, рассуждать, догадываться – ну и что?
Я помню, как она встречала его на пороге, как он сбрасывал ей на руки одежду и шел мыться, как выходил после душа к уже накрытому столу. Может быть, ей просто хватало того, что это ее дом и ее муж, что ему тепло и уютно, что день катится к закату и скоро, совсем скоро, она будет лежать рядом с ним, слушать океан и его сонное дыхание. Наверное, она была ему хорошей женой. Повторяю – ну и что?
Всего лишь еще одна семья. Любовь? Кто сможет объяснить, что это такое, даже после стольких лет вместе. Почему она ушла, и почему она ушла так? Может, надеялась, что он хотя бы по ней заплачет?
НЕВЕСЕЛЫЕ МЫСЛИ
– Чего же ты ждешь? – повторяет она. – Ударь, ну. Может быть, тогда наконец ты поймешь.
– А ну-ка, вставай, песок влажный и уже почти ночь. Здесь тебе не итальянская Ривьера, простынешь, – я поднимаюсь сам и поднимаю ее. – Что я, по-твоему, должен понять?
– Что я твоя.
– Я и так знаю – моя. Для этого совсем необязательно вставать на колени, а тем более…
– Нет, что я твоя женщина. Все это время ты по привычке уговаривал себя и щадил меня – я ведь сказала, что не знаю когда. Сколько бы это ни продолжалось, ты никогда не сделаешь первый шаг. Ну вот, его сделала я. Я хочу не только знать, что я твоя женщина, а быть ею. Ударь меня, и я поцелую твою руку. Я хочу этого, папа, я готова, – она в самом деле берет мою руку, подносит к губам и целует – раз и еще раз, и еще.
И я не то, чтобы позволяю, но кто бы мог подумать, что у моего Зайца такие губы…
Словно со стороны, я слышу свой собственный голос:
– Зая, что случилось? Расскажи мне, это ведь не случайно, да? Именно сейчас? Я же вижу.
Она еще крепче сжимает мою руку и изо всех сил мотает головой:
– Нет, нет, нет! – и вдруг плачет. – Папочка, это было так страшно. И так… быстро. Вдруг – черный-черный дым, и уже ничего не осталось.
Тут у меня включается голова, и я начинаю сопоставлять события, факты и время. Во-первых, служебный мейл, во-вторых, утренние новости по радио, в-третьих, случайно услышанный разговор, в-четвертых, ее слова.
– Ты увидела, как он упал, да? Ах ты, – я обнимаю ее за плечи. – Как ты там оказалась, детка? Зачем?
– Случайно. Мы просто сидели в кафе, оно совсем рядом. Мы там почти каждый день завтракаем, и сегодня тоже, – она хлюпает носом. – Он был такой живой, улыбался нам, помахал даже. А потом…
– А потом? Расскажи, и тебе станет легче. На самом деле.
– Потом он сел в самолет, самолет взлетел и начал кувыркаться в воздухе прямо над аэродромом, почти над нами. Падал и опять взлетал, каждый раз над самой землей. И вдруг почему-то не успел, или не смог, и сразу из-за деревьев черный дым, и…
– Я понимаю… Ничего не поделаешь, теперь ты знаешь, что смерть бывает и такой.
Она качает головой:
– Нет, не то. Жизнь и смерть, та грань, которая между ними, она такая… Как будто ее и нет вовсе. И выходит, что наша жизнь или не имеет никакой ценности вообще, если ее так легко разрушить, или, наоборот, именно поэтому бесконечно дорога.
– Так и есть. Сегодня ты это поняла.
– Я поняла, что каждая секунда может быть последней. Раньше я об этом знала тоже, но как-то… абстрактно, и вдруг увидела, как это бывает на самом деле. Как это может быть со мной, с тобой, с каждым. А мы продолжаем жить так, словно времени нет вообще. Оно проходит – мимо, мимо, мимо, и мы даже не пытаемся его остановить.
– Ты уже совсем взрослая. И рассуждаешь…
– Я не рассуждаю, в том-то и дело. Рассуждаешь ты. Все расставляешь по местам, всему даешь название и ужасно боишься совершить ошибку. Так боишься, что…
– Вот-вот, я и говорю: совсем взрослая. И ты права – я на самом деле боюсь, и не ужасно, а еще больше, ты даже представить не можешь, как я боюсь тебя потерять. Потому что знаю, что это очень даже может случиться, если…
Мы возвращаемся домой, держась за руки. Как дети, как влюбленные – как кто?
Я привычно думаю о том, что, хотим мы или нет, времени остается все меньше и меньше. Ничто не может продолжаться вечно, и то, что между нами, неизбежно закончится тоже. Вот только как? И что потом? Почему в жизни так много вопросов, на которые нет ответа?
В эти далеко невеселые мысли неожиданно вторгается Майкин голос, совершенно обычный, как ни в чем не бывало:
– Как ты думаешь, Агнешка вернется?
Я делаю паузу, просто чтобы переключиться. Пожимаю плечами.
– Может быть. Скорее всего да – если жива.
– Почему ты так думаешь?
– У нее нет ни другого дома, ни другого мужа, ни другой жизни. Какое-то время без этого можно прожить, но недолго. Долго или совсем – это значит все забыть, начать жизнь заново.
– Ну и что? Думаешь, она не сможет?
– Не думаю, знаю. Сердце ее здесь, и это Дюк, а без сердца долго не проживешь. Все ее здесь, вся жизнь.
– Тогда почему она ушла?
– Потому что жизнь – это и боль тоже, и иногда она становится нестерпимой. Другой причины я не вижу.
– Что же делать?
– Есть вопросы, на которые нет ответа, во всяком случае, у меня. И с этим тоже ничего не поделаешь.
Теперь замолкает она, только ее пальцы еще крепче, еще плотнее обхватывают мои, и, может быть, поэтому я знаю, о чем она спросит сейчас. И она спрашивает:
– А Наташа? Что с ней? Ведь у них с Дюком…
– У них с Дюком то, что у них с Дюком. Знать об этом не дано никому и понять тоже.
– А я-то думала, любовь.
– Как бы ты это ни назвала, им от этого не легче – ни ей, ни ему.
– Почему? Мне казалось, они счастливы, когда вместе.
– Они не просто счастливы, они счастливы безумно, а это уже не просто любовь, или совсем не любовь.
– А что же?
– У нас сегодня игра в вопросы и ответы? Не знаю что. Может быть, рок.
– Это судьба, что ли?
– Нет, скорее зависимость, замкнутость друг на друга. Лабиринт, из которого выхода нет.
– Значит, ни один из них не сможет уйти, хотя бы как Агнешка, да?

