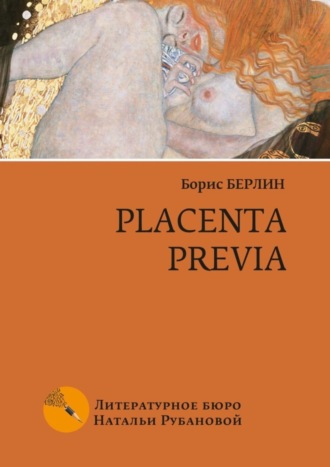
Полная версия
Placenta previa. Повесть и рассказы

Placenta previa
Повесть и рассказы
Борис Берлин
Литературное бюро Натальи Рубановой
Редактор проекта Наталья Рубанова
Корректор Инна Тимохина
На обложке картина Густава Климта «Даная»
© Борис Берлин, 2021
ISBN 978-5-0053-1329-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Placenta previa
…знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч!
⠀
Откровение св. Иоанна Богослова (15, гл. 3)Часть первая.
Больше всего на свете
СОЛНЦЕ НА ДВОИХ
Она вдруг решила постричься. Коротко, когда-то это называлось «под мальчика». Неужели для этого нужно было ехать в Париж?
– И для этого тоже, – голос в телефоне засмеялся и брызнул счастьем. – Вот фото, лови!
Ее, ставшие огромными, черные глаза, гладкий белый лоб, а еще угловатые плечи, выступающие ключицы и острые коленки – почти дитя. Не хватает лишь гривы темно-каштановых волос – и что же мне теперь с этим делать?
Хоть плачь.
– Сержу нравится, он говорит, что это стильно.
Почему-то, когда речь о нем, голос ее неуловимо меняется, чуть-чуть леденеет. И я это слышу.
Они с Зайцем знакомы уже полгода. Ему почти двадцать девять, и по мне он надежен, как скала, иначе сидела бы она сейчас дома в полной неприкосновенности – отец я или не отец?
Не отец.
Но про это никому.
Заяц – это Майя. Потому что моя.
Вот альбом ее фотографий, с самого детства. Я смотрю на них и… ну вот как земля, когда из нее дерево – с корнем. И на всех, слышите, на всех, она светится от счастья, а еще то, что не дает уснуть по ночам, – уверенность, что смотрит она на меня. Пусть в сторону, а все равно на меня – всегда. Ведь иначе и жить-то мне зачем? Вам же остается только одно: прочитать и забыть. И все, что я еще напишу, тоже.
Забудьте. Потому что это наше, только наше с ней солнце.
Одно на двоих.
Детство – самая короткая пора жизни, но и самая счастливая тоже, потому что она, жизнь, хоть уже и началась, но еще нет ничего, кроме любви к своему чаду, своему собственному чуду, постоянной, острой нужды друг в друге и упрямой надежды, что уж ему-то жизнь обязательно улыбнется.
Мы остались вдвоем, когда ей только-только исполнилось шесть. Произошло все как-то неожиданно, а может быть, слишком поздно спохватились и врачи, и мы. Марина, так звали мою жену, угасала очень быстро, но все-таки успела, все-таки успела признаться мне, что наша Майка на самом деле вовсе не моя дочь. Сказала, что не может уйти просто так. И я даже не успел спросить – чья?
Я простил ее, не сразу, со временем, но простил. Наверное, потому, что любил. А главное, со мной оставалось мое чудо, моя маленькая Зая, моя-не-моя-дочь, и о ней надо было по-прежнему заботиться, растить ее, любить. Оставаться ей отцом.
Парижская зима и не зима вовсе – праздник. Солнце, платаны, невозмутимо шагающие вдоль набережной, небо – самое прозрачное небо на свете. И над всем волшебное лицо ее, глаза бездонные и эта странная прическа. Черт его знает почему, но она мне нравится и такой, хотя, конечно, полное безобразие, да и холодно ведь ей на ветру – декабрь, как ни крути. А взгляд у нее, нет, не грустный, а словно дымкой подернулся, словно она этой дымкой от всего мира, даже от меня, отгородиться хочет.
– Оно и понятно, – бормочу я сам себе. – Влюблена она, вот и все. Первый раз у нее это серьезно, я-то знаю.
– Папа, я почти ничего не слышу. Что ты сказал?
– Ничего, это я так. Я фото разглядываю.
– Ну и как? Как я тебе? А Париж?
– Ты у меня лучше всякого Парижа. Не холодно там тебе? Смотри не простудись.
– Что ты, тут тепло. Представляешь, скоро Новый год, а снегом и не пахнет, не то что у нас.
– Все я представляю. Ты, главное, себя береги, не заболей перед самым праздником.
– Папа, да ты не волнуйся, этого просто не может быть, у нас слишком грандиозные планы.
– Ну да, в твоем возрасте других не бывает.
– А где ты будешь на Новый год? Это ведь впервые когда мы не вместе встречаем…
– Пока не знаю. В этот раз вроде бы Наташина очередь гостей принимать. Мне, правда, как-то не очень хочется. В общем, что-нибудь придумаю.
– Слушай, а если с нами по скайпу, а? Давай я позвоню тебе без пяти двенадцать?
– Так ведь без пяти двенадцать в Париже и здесь…
– Ой, вот я балда! Ну ладно, еще целых четыре дня, придумаем что-нибудь. Созвонимся, да?
– Обязательно. Береги себя. Сереге твоему привет.
– Хорошо, пап, спасибо. Ты у меня самый-самый лучший, вот самый-самый!
– Я не самый-самый, а единственный. Я у тебя, а ты у меня. В этом-то все и дело. Ну, целую. Пока.
Санкт-Петербург большой город, большой и красивый – живи и радуйся. Так оно более-менее и происходило: Майя пошла в первый класс, я ушел в частный бизнес и вполне себе неплохо зарабатывал. Наверное, все бы так и продолжалось, если бы, как сейчас принято говорить, меня не подставили.
Нет, я, конечно, повоевал – до того момента, когда стало очевидно, что угрожает все это не только мне, но и ей тоже. Дальше все покатилось само собой – и быстро: продажа всего, что еще оставалось, включая квартиру, и отъезд заграницу, то есть в никуда. Можете называть это бегством – выбора у меня не было, приходилось спасать мое собственное счастье, за которое я был в ответе.
Накануне отъезда, в пустой и уже не нашей квартире, где не осталось ничего, кроме эха и темнеющих в углу баулов и чемоданов, мы провели нашу последнюю ночь на брошенном прямо на пол старом матраце, даже не раздеваясь. Прошлого уже не было, а будущее еще не наступило. Мир сжался до тусклого пятна на потолке от уличного фонаря и ее сонного голоса.
– Папа, а мы надолго уезжаем?
– Надолго. Я думаю, навсегда.
– А навсегда – это сколько?
– Это… пока сердце бьется.
– А почему?
– Почему бьется?
– Нет, почему уезжаем?
– Как тебе объяснить… Ну вот, например, у тебя есть любимая игрушка?
– Да, которую мне Дед Мороз подарил на Новый год.
– Вот-вот, заяц твой. Ты же его любишь, а значит, хочешь, чтобы ему было хорошо, чтобы завтра ему было лучше, чем сегодня, правда?
– Да.
– А я люблю тебя гораздо больше, чем ты своего зайца, гораздо-гораздо больше. И поэтому увожу тебя в Завтра.
– А в этом Завтра где мы будем жить?
– Вот приедем, там и решим. Я тебе уже объяснял, помнишь?
– Помню, только мне все равно про это думается.
– А ты думай о том, что уже давно пора спать. Завтра у нас с тобой очень трудный день. Утром мы еще здесь, а вечером будем уже совсем в другом месте, даже в другом мире. В Завтра.
– А мама?
– Что мама?
– Мы ее здесь оставим?
– Ну что ты, конечно, нет. Она полетит вместе с нами.
– Так ведь она не знает куда. Мы и сами еще не знаем.
– Мы нет, а она – да. Она там, наверху, знает гораздо больше нашего, и куда мы летим, и что с нами будет.
– Даже больше, чем ты?
– Как тебе сказать… Кое-что, самое главное, я знаю тоже.
– А самое главное – это что?
– А ты спать собираешься? Вот это и есть самое главное.
– Ну ответь, и я сразу засну.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– Мы будем искать наш дом и обязательно найдем. Это и есть самое главное.
– И какой он будет? Такой, как этот?
– Нет, намного лучше. Нам же в нем долго жить предстоит, очень-очень долго.
– Расскажи про него.
– Он будет просторным, с верандой и плоской крышей, чтобы на ней можно было загорать, или чай пить, или принимать гостей. Вокруг трава и деревья, и совсем недалеко до берега.
– До берега? Там что, есть речка?
– Может, и речка. Слушай, а давай, чтобы море? Или, еще лучше, океан.
– А чем он лучше?
– Во-первых, он больше, а во-вторых, океан – это самое-самое. Океан – это океан, понимаешь? На него можно глядеть сколько угодно, и кажется, что больше ничего нет на свете.
– Получается, как на острове?
– Ты моя умница! На острове, да. А теперь спи.
Во всяком случае, мне это казалось тогда несбыточным, но ведь если очень-очень захотеть, то почему бы и нет? И знаете, с тех пор мое мнение совсем не изменилось, ведь мы на самом деле стали островитянами, без шуток. Остров наш маленький, не на всякой карте виден – каким ветром нас сюда занесло, отдельная история. Может, когда-нибудь я и расскажу ее, вот только приду в себя от неудержимо стремительного Майкиного взросления, смирюсь, что она уже никогда не моя – и расскажу. Про то, что эмиграция может быть просто путешествием, что любовь вовсе не быт и не секс, а непроходящий голод, что разлука – никогда не навсегда. Потом расскажу, не сейчас. Сейчас только про Зайца и Париж.
И, само собой, про остров.
ДЮК
Вот ведь, как только начинаю про Заю мою, про мое неродное дитя, выходит обязательно взахлеб и наперегонки с самим собой, и именно поэтому очень похоже на нее. Нет, не внешне – если бы так. Она у меня… ну вот застынет вдруг и начинает рассуждать о письменности у муравьев. Или прочтет что-нибудь этакое и тут же ко мне: «Послушай, как здорово: вечность – это просто у времени за углом». И улыбка, и сразу, откуда ни возьмись, солнце – а за окном дождь, ненастье, слякоть…
Я смотрю на нее и перестаю понимать себя, а может, наоборот, только начинаю. Что такое я? Что такое она? Что такое мы с ней вместе? Есть внутри нас мысли и желания, которых лучше и не осознавать вовсе, потому что стоит им выйти наружу, и, словно джинна из бутылки, обратно не загонишь. Когда они от ненависти – страшно. Не дай бог, угнездится в тебе такое и, пока не заберет тебя целиком, не прикончит, не остановится.
А когда – от любви?
Остров – это всегда океан и небо. Иногда, как сегодня, хмарь до самого горизонта, которого нет. Виден лишь берег и силуэты скал метрах в трехстах от него. Снегопад почти кончился, впрочем, и небу, и океану это все равно.
Сзади меня окликают, и я точно знаю, что это Дюк. В такую погоду и в это время здесь можно встретить только его.
– Привет, Питер!
Я уже давно привык к своему новому-старому имени, кроме того, оно напоминает мне мой родной город.
– Привет, Дюк! Как дела?
– Маяк горит, и слава богу, – он попыхивает трубкой. – Остальное ты знаешь лучше меня.
Вновь он закурил недавно, после того, как ушла Агнешка. Это я так говорю, потому что кто знает, что там на самом деле? Да и не люблю я этого слова: «умерла». Не люблю, и все. К тому же ведь никто не видел ее мертвой.
Мы молчим, пока в наше молчание не врываются криками чайки.
– Как дочка? – спрашивает Дюк. – Что-то давно я ее не видел. Все в порядке?
– Она сейчас в Париже. У нее каникулы.
– Ну да, она же у тебя вроде на врача учится, верно?
– На медсестру она учится, хочет с самого начала, снизу. Пусть. В любом случае ей решать, большая уже.
– Правильно, вот и мир пусть посмотрит, пора.
– Угу, потому и отпустил.
– А что, мог бы не отпустить? Послушалась бы тебя, если что?
– Думаю, да. Послушалась бы.
– Ну, значит, правильно воспитал ее. Тем более ты ее сам растил, один, так и не нашел себе ни жену, ни даже просто женщину, никого не нашел.
– Она моя женщина – главная и единственная. А больше и не надо.
Последнюю фразу я не произношу, а может, ее просто уносит ветром.
Вот уже полтора года, как я вижу ее, мою главную женщину, от силы раз в неделю, а то и реже. Потому что на нашем острове все по-настоящему, есть даже столица – небольшой, нарядный город с мэрией, больницей и даже аэропортом, где каждый год устраивают авиашоу, на которое съезжается и слетается довольно много народа. И конечно, университет, ведь именно там проходит сейчас большая и главная часть жизни моей дочери. Только одного не хватает ей – берега рядом.
Она всегда мне рассказывала, ну… почти все. Понятно, у девушки в ее возрасте не может не быть секретов. И все же я знал достаточно, чтобы о ней не беспокоиться, ну, а если уж беспокоиться приходилось, то, по крайней мере, всегда было известно о чем.
Когда появился он… в общем, мне стоило только раз увидеть их вместе. Язык тела может рассказать многое, а уж язык ее тела я понимал, как никто другой. Они просто смотрели друг на друга, а я… Сам не знаю, как я отпустил ее от себя. Да, я ждал, вернее, ожидал этого, я даже был готов, она не могла и не должна была оставаться со мной без конца. Или все-таки могла?
Кончается все и всегда, и детство тоже. И тогда что же это на самом деле – конец, начало?
Может, судьба?
Дюк всегда, сколько я его знаю, был вполне немногословен, да и с кем разговаривать смотрителю маяка – с чайками? Вот и сейчас мы с ним просто молчим. И молчим об одном и том же.
– Послушай, Питер…
– Ничего, Дюк. Пока ничего. Я бы сказал.
– Знаю. Я тут подумал… А если Интерпол?
– Интерпол ищет преступников, а Агнешка твоя разве преступница? Скорее уж… – я не сказал «жертва», но он, конечно, понял.
Я видел их свадебные фотографии – давно, еще и года не прошло, как мы с Зайцем оказались здесь, на острове. Он сам мне их показал – молодые, счастливые, беззаботные лица. Даже Дюк с его более чем сдержанным островным характером. Я не видел его таким никогда после. Хотя, может быть, с Наташей…
То, что началось между ними, скрыть было попросту невозможно, по крайней мере здесь, в таком тесном мирке, как наш. И не захочешь, а все равно… Вот и Агнешка – не хотела, не хотела, не хотела, а потом просто исчезла, видимо, не хотеть уже не осталось сил. Примириться, очевидно, тоже. Зато остались все ее вещи, даже белье, даже косметика. И ее сотовый телефон, посередине их аккуратно застеленной супружеской постели, он прямо бросался в глаза – случайно ли?
Основная и самая вероятная версия в таких случаях: муж и его любовница избавились от той, которая им мешала. То есть Дюк и Наташа от Агнешки. Скорее всего, так было бы и на этот раз, но в тот вечер, когда она исчезла, у обоих было алиби. Наташа играла с подругами в бридж, а Дюк оказался как раз тогда у меня дома, мы с ним играли в шахматы, пили пиво, смотрели хоккей.
– Я тут недавно беседовал кое с кем по службе, парень довольно долго занимался судебной психиатрией. Рассказал ему в двух словах, без подробностей.
Дюк смотрит на меня с прищуром – может, от ветра?
– Агнешка нормальная, нормальней нас с тобой.
– Дело не в этом.
– А в чем?
– Во-первых, в том, что ты говоришь о ней в настоящем времени, и это правильно, а во-вторых, в диссоциативной фуге. Слыхал о ней?
– Сейчас от тебя.
– Это такой особый вид амнезии, иногда как следствие непереносимых личных обстоятельств. Забывается все, что касается личности: имя, возраст, семья, прошлое. Человек выходит из дома и пропадает – дома-то нет. Ничего нет. Своего рода бегство от реальности. В остальном он остается вполне нормальным и способен вести обычный образ жизни. Длиться это может до полугода, иногда даже дольше.
– А потом?
– В какой-то момент происходит возвращение к реальности, к себе. Вот так, Дюк.
– Ну что же, я подожду. Вот так, Питер. Но это не значит, что перестану ее искать. А обстоятельства, они у нас у всех были непереносимые. Да не были, остались: ведь никому из нас не стало ни легче, ни проще – ни Агнешке, – он вздохнул, – ни мне, ни Наташе. Наташа, она ведь птица – ей летать, а тут никто вроде и не виноват, и все кувырком…
Фразы длиннее я от него не слышал никогда.
Из-за дюн движется к нам тонкая фигурка с копной летящих черных волос. Так легко, будто ее несет ветер.
Недаром говорят, помянешь дьявола, и вот он тут как тут.
НАТАША
Фамилия Дюваль досталась ей в наследство от мужа, как и дом, прилепившийся к скалам и сросшийся с ними настолько, что кажется просто еще одним утесом, таким же серым, как ее глаза, и слегка замшелым от прильнувшего к стенам плюща. Сам Дюваль, вернее, его портрет, висит теперь в гостиной напротив окна во всю стену и глядит на океан круглые сутки – ни штор, ни занавесей, ни жалюзи в доме нет. Наташа их просто не признает – даже в спальне.
– Мы с океаном давние любовники, – усмехается она в ответ на недоуменные вопросы. – Нам ли стесняться друг друга?
Ветер треплет ее волосы всегда, даже когда его нет, хотя таких дней в наших краях наперечет. Ей сорок вот уже лет восемь, по крайней мере, насколько я помню, но время от времени я ловлю себя на мысли, что они с Зайцем ровесницы. В ней польская кровь, и заносчива она бывает как настоящая полька. В таких случаях я делаю серьезное лицо и обращаюсь к ней: «вельможная пани». И она смеется.
Любовников у нее не было никогда. И Дюк тоже вовсе не любовник – он любовь, любовь всей ее жизни, пусть даже вы думаете, пусть вы абсолютно точно знаете, что так не бывает, но с этим уже давно смирились все – и покойный муж, и окружающие, и даже сам Дюк. Я, честно говоря, думал, что и Агнешка тоже.
Ветер в нашу сторону, и Дюк узнает ее сразу – по звуку шагов ли, по запаху – не знаю, – и еще до того, как она появляется у него из-за спины, каменеет лицом, но не оборачивается. Глаза у него делаются, как у больной собаки.
Не вынимая рук из карманов, Наташа встает на цыпочки, на долю секунды прижимается щекой к моей щеке:
– Привет! – и тут же поворачивается к Дюку. – Как ты? – ее рука ложится ему на грудь. – Как ты? – она поправляет ему шарф. – По-прежнему ничего?
Он качает головой и все-таки поднимает на нее глаза.
И хотя оба не произносят ни слова, я слышу:
– Прости, ты же знаешь, я ничего не могу с этим поделать.
– Да. Если кто-то и виноват, то я.
– Никто не виноват, милый. Никто, и ты тоже.
– Так не бывает, так не может быть… Я не знаю.
– Бывает все, это просто жизнь, а она такая, какая есть.
– Значит, мы никогда не будем вместе, она все равно окажется сильнее.
– Мы уже вместе. Просто ты никак не можешь с этим смириться. Все еще не можешь.
– Может быть. А может, не хочу. Хотя какая разница?
– Нет, я знаю. Я знаю про нас все, даже то, что еще не наступило.
– Тогда расскажи, помоги мне.
– Не сейчас, еще рано.
– Почему?
– Будущая боль заслонит нынешнюю, а так не может быть. Так просто не должно быть, понимаешь?
Сколько раз эти слова так и не были сказаны? Или были? И если да, то, может, они не только про Дюка с Наташей, или даже совсем-совсем не про них?
Неужели я все это выдумал?
– Ну ладно, – и, чуть помолчав, Наташа обращается ко мне: – На Новый год обязательно приходите вместе с Майей, Питер. В этот раз моя очередь, ты ведь не забыл? Так давно я ее не видела, соскучилась.
– Я тоже. Только нет ее, улетела. Вернется уже после праздников.
– Да? Ну тогда тем более приходи, чего тебе одному дома? Одному одиноко, особенно в праздник. Вот и наговоритесь друг с другом наконец – ты и Дюк. Ну, или намолчитесь. Вы же у меня первые молчуны на острове. А я уж рядом с вами себе место найду. Сольвейг я тебе, конечно, не заменю, но и скучать не дам. Договорились?
Она машет рукой и мне и Дюку сразу и уходит, не оглядываясь и унося с собой ветер, который послушно забирается к ней в капюшон просто потому, что это вошло у него в привычку. Мы с Дюком смотрим ей вслед и расходимся тоже. Они остаются вдвоем – океан и небо. Они все видят и все знают. Вот пусть и расскажут – хотя бы друг другу.
Сольвейг – так Майю назвал Дюк как раз в прошлый Новый год. Она хозяйничала: раскладывала приборы, расставляла закуски, рассаживала гостей. Дюк наклонился ко мне и ткнул локтем:
– Ишь как расцвела она у тебя. Красавица. Сольвейг. Гляди, уведут.
– Знаю, что уведут. Но так ведь и должно быть, – я словно слышу себя со стороны, и голос мой бесстрастен. – А почему Сольвейг?
– Говорю же: красавица. К тому же Сольвейг по-древненорвежски еще и хозяйка, – он подмигнул, или мне показалось, – а она ведь у тебя не просто хозяйка, верно?
Уже давно, и я довольно точно помню когда, я понял, что правда и ложь всего лишь изнанка друг друга, впрочем, как и все в жизни. Именно поэтому так легко лгать даже себе. А уж кому-то еще…
И я пожимаю плечами.
– Главное, – говорю я, – чтобы она была хозяйкой самой себе, а я уж… – и ловлю на себе Наташин взгляд с другой стороны стола.
И даже догадываюсь, о чем он. Может быть, даже знаю. Лгать на самом деле легко, но лишь до тех пор, пока вдруг не замечаешь, что это уже и не ложь вовсе, а значит, и выбора – нет.
После исчезновения Агнешки Наташа стала попадаться мне на глаза в баре. Не слишком часто – два-три раза в месяц. Иногда мы болтали, впрочем, не особо откровенничая друг с другом, и возможно, как раз потому, что было о чем. К тому же польская кровь давала о себе знать – она умела пить. Но однажды мы с ней все-таки изрядно набрались. Она вошла, увидела меня, подсела, и как-то все само собой закрутилось. Каждый из нас думал и пил о своем, мы и не разговаривали почти, пока ее не развезло. И не понесло.
– Хлопчик, ну ты-то меня должен понять! Кто же еще? Ты, конечно, молчун, но думаешь, я не вижу? – она прищурилась и вздернула подбородок. – Думаешь, я пью? Вовсе нет. Я просто хочу забыть. Только не то забыть, что было, а то, чего так и не было, понимаешь? Не случилось.
– Наташа, тебе больше не стоит, честное слово. Пойдем, я тебя отведу домой, и сам тоже… Мне пора, завтра она приезжает. Ну, идем же.
– Она? А, ну да, Сольвейг, кто же еще? Ты только молчи, слышишь! Молчи! Пусть они все говорят, а ты – молчи. И не верь. Врут. Про любовь что ни слово – ложь. Потому что про нее вслух нельзя, – взгляд ее сделался вдруг совершенно трезвым и чуть насмешливым, – уж ты-то знаешь, – она заплакала.
– Знаю, конечно, знаю. Ну, идем.
– Она вернется, не может не вернуться. И тогда наконец все закончится, по-другому просто не может быть.
– Этого никому не дано знать. Пока что пусть она просто вернется, и все, а дальше будь что будет.
– Будь что будет? Да если бы я только захотела…
– Не надо об этом, Наташа. Я этого не слышал.
– Ты хороший, Питер, только это не поможет, – она шмыгнула носом, – ни мне, ни тебе. Тебе тоже, слышишь? А говорить об этом и в самом деле ни к чему. А тогда о чем же? Больше-то все равно ничего нет.
Назавтра она попросила прощения.
– Расклеилась я вчера, прости. В самом деле ни к чему это все, просто иногда ужасно хочется быть слабой. Спасибо, что не бросил, Питер, и вообще… Ну, ты сам знаешь. Я у тебя в долгу, а долги я возвращаю. Всегда.
ФЕЛИЧЕ
Феличе небрит с итальянской тщательностью, кроме того, я всегда засматриваюсь на его руки. Они, как у любого хорошего бармена, постоянно в движении, но Феличе не просто хороший бармен, он бармен от бога, и его руки танцуют – то джайв, то пасодобль, то бог его знает что – в зависимости от напитка и его неуемного темперамента.
Он видит меня и улыбается.
– Chao, amico!
– Привет, Феличе!
Феличе означает счастье.
На острове два официальных языка – английский и французский, но чаще всего мы говорим на невообразимой смеси обоих, а Феличе к тому же постоянно вставляет родные итальянские словечки, так что выходит нечто совершенно непередаваемое.
Вместо обычной он ставит передо мной изящную коньячную рюмку с золотым ободком и наливает туда «Meukow» почти до краев. Я удивленно поднимаю на него глаза.
– Это мой самый дорогой коньяк, Питер. Для особых случаев. Выпей, я угощаю.
– А по какому поводу? Не припоминаю, чтобы ты когда-нибудь вот так, за здорово живешь…
– Это только для друзей, ты ведь не просто посетитель. Выпей за здоровье маленького Гвидо, Питер! За здоровье моего сына!
– А разве… Ведь у вас с Кончитой нет детей. И, насколько я знаю…
– Знаем только мы трое: я, Лука и Густав, а теперь еще и ты, – что Кончита беременна. У меня будет сын, и я назову его Гвидо, так же, как звали моего деда. Поздравь меня, ну!
– Поздравляю, amico! – я хлопаю его по плечу. – Это в самом деле замечательная новость. За здоровье маленького Гвидо, и за вас с Кончитой! – я поднимаю рюмку и опрокидываю в себя содержимое. – Отличный коньяк, Феличе! А где Кончита? Надо ведь поздравить и ее тоже.
– Вон она, – он указывает в окно. – Вон она, моя Кончита.
Я оглядываюсь. Снаружи, неподалеку, там, где ветер лижет розовеющий снег, Кончита кормит чаек.
Кончита, закат и чайки…
– Это нам бог помог, – Феличе следит за ней влюбленными глазами и, кажется, вот-вот заплачет. – Мы так долго пытались. Скажи, ведь правда, она похожа на мадонну?

