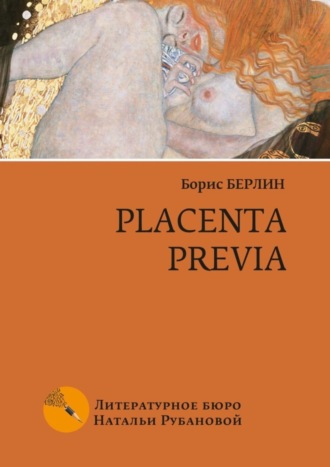
Полная версия
Placenta previa. Повесть и рассказы
Я согласно киваю. Ну вот, скоро и он станет отцом не своего ребенка. Бог, разумеется, помог бы, если бы не этот плотный крепыш с курчавыми волосами и совершенно человеческим именем Лука. Он, конечно, младший брат Феличе, и все такое, но когда он берет Кончиту выше локтя за обнаженную руку и та поднимает на него глаза… Это видят все, кроме самого Феличе, хотя – кто знает…
И при чем здесь любовь?
Есть весна, есть боль, есть разлука, но никто и никогда не сможет соединить несоединимое: запад и восток, солнце и луну, отца и дочь. Разлучить – да, а вот соединить…
О любви вслух действительно нельзя, потому что я и сам не понимаю, кто же я моей дочери на самом деле. Да, солнечные затмения тоже иногда случаются, ну и что? От пустой надежды только хуже: и рад бы забыть, да не можешь. И какая разница, когда я понял это в первый раз?
Иногда по вечерам она подходит и усаживается ко мне на колени – просто так. Обнимает за шею. Последнее время это происходит нечасто, и только если она хочет сама, я стараюсь избегать этого как могу. Потому что теперь от нее пахнет морем, и не замечать этого с каждым днем все труднее.
Я отворачиваюсь от Кончиты и уходящего солнца. Моя рюмка уже полна снова, а Феличе говорит:
– Конечно, Питер, еще слишком рано, я знаю, но я просто уверен, что будет мальчик, я чувствую, и все тут.
– Само собой, но, поверь мне, и девочка – это тоже замечательно. И в следующий раз, кто знает, быть может, у тебя будет еще одна маленькая Кончита, еще одна маленькая красавица. Твоя, и только твоя. Разве это не прекрасно? – я делаю крохотный глоток.
Феличе провожает взглядом мою руку, смотрит в окно, и его глаза темнеют. Помолчав, он произносит:
– Моя, и только моя, да, ты прав. И вообще, семья – это главное. Дети, братья и сестры – одна кровь. Нет ничего важнее этого, ведь правда? Вот хотя бы мы с Лукой, он на целых двенадцать лет младше, а мы с ним с самого детства не разлей вода. Потому что – кровь. Вообще-то, пора уже и ему остепениться, только где сейчас найдешь хорошую итальянскую девушку, скажи?
– Обязательно итальянскую?
– Почему же, можно сделать исключение, и одно я знаю точно. Как там, кстати, твоя дочка, Питер? У нее с этим… Сержем все на самом деле серьезно?
Я едва не роняю рюмку – как?
– Откуда тебе это известно? Про Майю и… про этого парня?
Он улыбается – одними губами.
– Это остров, Питер, а он всегда все про всех знает, ничего не скроешь, как ни старайся. Вот так, amico!
БЛИЗНЕЦЫ
Я выхожу на улицу, и пока, стоя у дверей, раздумываю, идти ли домой прямо сейчас или дождаться, когда Кончита закончит, наконец, кормить чаек, из-за угла появляется Густав – высокий, сутулый, немного нескладный. Я до сих пор не понимаю, почему он называет меня Knabe – единственным немецким словом, которое я когда-либо от него слышал, потому что немецкого он не знает. Собственно говоря, он называет так всех лиц мужского пола, к которым испытывает симпатию. Кроме того, Густав, как и всякий доктор, обожает порассуждать о смысле жизни, добре и зле, а также сортах виски – в этом он и правда кое-что понимает. Каждый раз, когда я вижу его – на пороге ли своего дома или в любом другом месте, – он произносит одну и ту же фразу: «Привет, Knabe! Ну, как там моя крестница?» Именно так он называет Майю с тех пор, как однажды спас ее от перитонита, и, по-моему, таких крестников у него каждый четвертый или даже каждый третий в округе. У него есть сестра-близнец, похожая на постаревшую Офелию – не только прозрачностью кожи и голубыми жилками на худых запястьях, но и именем Амалия, – по крайней мере, так мне кажется. С кем бы и о чем бы ни говорила, она размахивает руками, как крыльями, словно вот-вот взлетит. На самом деле лететь ей некуда, она живет, прилепившись к Густаву, как мох к стволу дерева – не отодрать. Да и поздно уже, обоим ведь за шестьдесят.
Феличе прав, остров и в самом деле все про всех знает – непонятно каким образом, но это так. Я благодарен ему в том числе и за это. Чужие истории бродят тут, как тени, – у каждого своя. Вот и у них, Густава и Амалии, тоже – их, и только их. Именно они, эти истории, отвлекают меня от моих собственных теней и моего собственного счастья. Вернее, от невозможности его.
– Привет, Knabe! Ну, как там моя крестница?
Я жму протянутую руку.
– У нее зимние каникулы. Она…
– В Париже, я знаю. И еще кое-что знаю.
– Видишь ли… В общем, меня это уже не удивляет.
– И правильно. Ты не беспокойся за нее, все будет хорошо, и даже еще лучше.
– Это как?
– Увидишь, все сам увидишь. Ты сейчас домой?
– А куда же? Только вот дождусь Кончиту…
– Так ведь это может быть долго, очень долго. Ты же знаешь, да?
– Потому и не хочу мешать. Чайки слетаются к ней так, будто она одна из них. Она словно говорит им: «Мы одной крови – вы и я». И они верят.
– Вот-вот. Кончита, она такая. Слушай, Knabe, можно напроситься к тебе в гости? Здесь шумно, а мне сегодня тишины хочется. Заодно и Амалия проведет вечер в одиночестве, это бывает полезно.
…Как только мы усаживаемся у камина, ветер наконец успокаивается. Снежные хлопья сплошной белой стеной, лишь время от времени какая-нибудь особо любопытная снежинка прилипает на секунду к стеклу, заглядывая в окно, и тут же исчезает. Снега – словно на всю оставшуюся жизнь.
– Как обычно? – я вопросительно смотрю на него, держа в руке бутылку виски. – Или, может…
– Ни в коем случае. В моем возрасте не изменяют самому себе, слишком непредсказуемыми могут оказаться последствия, вернее, как раз предсказуемыми, – он смотрит, как я наливаю виски, тянется к стакану, делает глоток. – Хорошо! За то, что шотландцы придумали скотч, я готов простить им даже то, что они одели мужчин в юбки, – и, пожевав губами, добавляет: – Скажи, Питер, тебя не слишком утомит, если я немного пофилософствую? Наверное, это снегопад на меня так действует. Тебе даже необязательно отвечать, просто слушай, и все. Кстати, знаешь, почему ты так быстро стал тут своим? На острове ведь не все приживаются, не всех он принимает, а вот вас – тебя и твою дочь – сразу.
– Ну и почему?
– А вы похожи – остров и ты. Во-первых, потому что ты молчун. Но этим тут многие отличаются, местная, так сказать, особенность. Тот же Дюк, например, приятель твой. А ты… ты слушать умеешь. Слушать и слышать. Таких раз-два и обчелся, да и не только тут, я думаю. Потому-то я сижу и разглагольствую сейчас здесь у тебя, а не где-нибудь еще.
– Допустим. Но Майя ведь совсем другая. Совсем.
– Ну и что? Она же твоя дочь, кровь от крови, плоть от плоти, – он делает еще глоток и поднимает на меня глаза. – Ничего удивительного. Хотя, конечно, все бывает. Вернее, чего только не бывает. Ты, кстати, не забудь задумать желание на Новый год, тебе ведь есть о чем просить, правда? Чего желать?
– Как и каждому из нас, Густав.
– Вот я и говорю – не забудь. Желания, бывает, и сбываются, Knabe. До такой степени, что я про себя называю остров – ты никогда не догадаешься – Стеной Плача.
Это наша здешняя традиция или привычка, не знаю. Каждый раз в новогоднюю ночь мы вкладываем в пустую бутылку из-под шампанского записки с нашими тайными желаниями, запечатываем ее и бросаем в океан. И они исполняются, по крайней мере, в это верят все, включая и меня самого. То ли потому, что чудеса случаются на самом деле, то ли потому, что мы слишком хорошо знаем, чего ни в коем случае нельзя желать и о чем нельзя просить. Хотя иной раз ужасно хочется попробовать, сил нет, как хочется.
Виски в стакане ведет себя как сонный щенок – переваливается с боку на бок и никак не хочет просыпаться, но даже во сне так и норовит лизнуть тебя прямо в губы…
– Амалия моя что-то хандрит. Похудела. И к Наташе не хочет идти. Не потому, что именно к ней, а… Я и сам не знаю почему. Конечно, может быть, возраст.
– Еще целых три дня, можно и передумать.
– Посмотрим, – Густав выливает в себя остатки виски, удивленно смотрит на пустой стакан и замолкает.
– Может, чаю? – говорю я, чтобы что-то сказать. – У меня есть очень хороший чай. Хочешь?
– Нет, спасибо. Терпеть не могу эти пакетики.
– Я тоже, поэтому завариваю сам. Так хочешь?
– Все равно нет, – он смотрит на бутылку. – Лучше плесни-ка мне еще, а? Такой скотч грех разбавлять. Спасибо, Knabe, теперь и разговор легче пойдет. Впрочем, я же сказал, отвечать необязательно, я буду говорить за двоих, – он откинулся в кресле и вытянул ноги к огню. – Так, да… Не знаю, известно ли тебе, что мы с Амалией сироты. Женщина, которая нас родила, шестьдесят два года назад, умерла при родах, и я даже не знаю, кто из нас ее убил. Кто из нас младше на те несколько минут, которые стоили ей жизни. Я никогда не говорил об этом ни с кем, и с Амалией тоже, потому что лучше, если она не будет об этом задумываться вообще – я знаю, что говорю. Так вот, женщина эта, как я полагаю, была созданием легкомысленным и несовершенным, к тому же обойденным жизнью – ни мужа, ни каких-либо родственников у нее, по-видимому, не было. Мы так никогда и не узнали даже ее имени, но поверь, Knabe, я люблю ее и почитаю ее память, ведь она дала мне жизнь, и, более того, она дала мне Амалию. Это ведь непросто – расти без родительской любви, а если ты еще и одинок… И все-таки, как ни странно это звучит, нам повезло. Сначала потому, что нас не разлучили – мы росли в одном приюте и поэтому остались братом и сестрой. Когда нам исполнилось пять лет, нам повезло снова: из приюта нас, сразу обоих, взяли добрые люди, которые, как могли, заменили нам отца и мать. Их звали Грэг и Сьюзен, у них была небольшая пекарня. Кроме нас с Амалией, там было еще четверо детей, и ни одного общего, так уж получилось. Вообще-то, это отдельная история. Может, я тебе ее когда-нибудь расскажу, а может, и нет, не знаю. Но верно одно: в их семье, в нашей семье, царила настоящая любовь. Я уже долго живу на свете, Knabe, но больше такого не встречал ни разу. Тебе еще не надоели мои излияния, скажи? – Густав снова делает большой глоток. – Выслушивать такие истории удовольствие маленькое, но иногда и они помогают, правда? Я ведь не ошибаюсь?
– Нет, ты не ошибаешься, – отвечаю я. И потому, что именно такого ответа он ждет, и потому, что так оно, черт возьми, и есть. – Продолжай, Густав, я слушаю.
– Амалия росла резвой и шаловливой девочкой, мне почему-то кажется, в этом она очень походила на нашу мать. Я же, наоборот, был не по годам серьезным и ужасно привязчивым. Иногда я думаю, что мне следовало стать не врачом, а священником, чтобы обратить это качество на служение богу. Но вышло так, как вышло. Впрочем, я не жалею, нет, – он смотрит за окно. – Что-то не припомню я такого снегопада, Питер. Снова будет не проехать. Пока расчистят дороги… Боюсь, в ближайшие дни у меня будет много работы.
– Тебя этим не испугать, это я знаю точно. И какой ты врач, знаю тоже, и не я один. Так что ничего, Густав, перезимуем.
– Перезимуем, да. И не испугать, ты прав. Да и боюсь я уже мало чего – с возрастом количество возможных потерь все меньше и меньше. Остается лишь опыт, который никому не нужен. Ничего нового, Knabe, ничего нового. Вот только Амалия, она единственное, что меня беспокоит. Моя единственная женщина, – взгляд его делается отстраненным. – Случись что-то со мной, это будет концом и для нее. Я знаю, что ты подумал, но нет, она никогда не была для меня женщиной в обычном смысле. Никогда. Да и что это такое, в конце концов, плотская любовь? Разумеется, у меня она была тоже, и немало. Но это было… черт его знает… Как таблетка от головной боли или стаканчик виски, не больше. Ни с одной из этих женщин мне не хотелось просто поговорить, мне было с ними неинтересно, понимаешь? Мне было скучно. И всегда тянуло побыстрее вернуться домой, к Амалии, принять пищу из ее рук, рассказать, как прошел день. И за все время ни одной греховной мысли, веришь?
Я согласно киваю, хотя, скорее всего, он меня сейчас даже не видит.
– Это лишний вопрос, Густав.
– Что же, хорошо, если так. Хотя, повторяю, чего только не бывает, верно?
Я просто пожимаю плечами – а что же еще…
Он опускает голову и молчит. Долго, минуты две, не меньше, пока я снова не подливаю ему виски, на этот раз совсем немного.
– Правильно, Knabe. Ты ведь знаешь, я умею пить. Просто сегодня снегопад и ты умеешь слушать. То, что я рассказал тебе, я не рассказывал никому и никогда. Но и это не все. Когда-то давно – мы оба были молоды, я только что получил диплом врача и лицензию, – Амалия влюбилась. Наверное, она очень сильно влюбилась. Впрочем, иначе просто не могло быть, я слишком хорошо ее знаю. И она забеременела. Отец ребенка бросил ее, как только узнал об этом, – она оказалась похожа на нашу мать и в этом тоже. Я испугался, я не хотел, чтобы судьба наказала ее еще раз и убедил избавиться от ребенка. Думал, что убедил, пока она не попыталась покончить с собой. Она наглоталась снотворного. Ее спасли потому, что я вовремя вернулся домой. Ее, но не ребенка. И мы с ней остались вдвоем снова, как оказалось – уже навсегда. В конце концов она оправилась, хотя это было нелегко и долго. Правда, стала молчалива и начала курить, но со мной была ласкова и заботлива, как никогда прежде. Пожалуй, даже слишком. И пусть не сразу, но я понял причину. Не знаю, как и почему это случилось, но она видит во мне свое нерожденное дитя. Я убил его, Knabe, чтобы занять его место, так выходит. И какая разница, почему я это сделал. Да, я хотел, как лучше – без грязи, без страданий, без боли… Ну и что? Ну и что?
Мы молчим. Мы молчим очень долго. Я не могу его утешить, может быть, только понять, но ведь и это не поможет. Ничто не поможет. И все-таки я обязан что-то сказать – хотя бы.
– Густав, – говорю я, – такова наша человеческая природа: мы уверены, что лучше наших любимых знаем, что для них хорошо, что плохо. Гораздо лучше, чем они сами. И делаем, как считаем нужным. Мы их охраняем – от холода и ветра, от несправедливости мира и даже от самих себя. Но есть то, что называют судьбой. У нее всегда два лица: черное и разноцветное – то, что мы привыкли называть счастьем. Эта самая судьба очень своевольная дама, она любит тех, кто не боится. Она любит смелых. И только им – иногда – открывает свое счастливое лицо. Но ведь все это тебе давно известно, правда?
Он смотрит на меня совершенно трезвыми неподвижными глазами и вдруг усмехается.
– Знаешь, Knabe, тебе надо бы написать книгу. Ведь вы, русские, все писатели. Все, как один. А мне пора домой, Амалия уже заждалась. Снега, конечно, навалило, ну да ничего, не впервой…
НОВЫЙ ГОД
Тридцать первого после обеда позвонила Майя. У них в это время было уже без пяти полночь, и, судя по шуму, вечеринка была хоть куда. Я ее едва слышал.
– Папа, папочка, ты здесь? Ты меня слышишь?
– Конечно, слышу. Хотя у вас там шумно, празднество в самом разгаре, да?
– Да. Место просто шикарное, прямо на крыше, и весь город как на ладони. Папочка, я тебя поздравляю! Я желаю тебе много-много счастья! С Новым годом!
– Спасибо, моя хорошая. И тебя с Новым годом! Мое счастье – это ты. А елка у вас там есть?
– Еще какая – выше неба! – смеется она в ответ. – Я хочу тебя попросить. Я подумала… Пожалуйста, напиши записку с желанием одну на двоих, и за себя, и за меня, вместе. Пусть ее бросят в океан именно так. Ладно?
– Но как же? Ведь, кроме тебя, никто не должен…
– Тебе можно. А еще лучше, если ты просто напишешь свое, и все. Одно-единственное.
– И что?
– Ничего. Оно просто окажется и моим тоже.
– Ну, если ты так хочешь… Хорошо, обещаю.
– И чудесно! Спасибо! Барашки в восторге, передают тебе привет.
– Спасибо, милая, им от меня тоже. Они очень славные ребята.
– Обязательно. Целую тебя. С Новым годом!
На воротах Наташиного дома развешаны гирлянды – будто ветер запутался в звездах. Почти одиннадцать, наверное, уже все в сборе. Внутри негромкий гомон голосов и запахи еды. Столы с закусками и напитками еще почти нетронуты, все только-только начинается.
Ко мне подходит Наташа – легкое, вежливое объятье, такая же улыбка.
– Привет, Питер! Рада тебя видеть.
– Я тоже. Чудесно выглядишь.
– Спасибо. Оказывается, ты способен делать комплименты. Почему я не знала этого раньше?
– Все когда-нибудь случается впервые. И это не комплимент вовсе, ты сегодня на самом деле…
– Что?
– В общем, я слегка завидую Дюку.
– Лет двадцать тому назад я, скорее всего, поверила бы, но все равно приятно. К тому же сегодня у тебя будет гораздо более благодарный объект для приложения своих способностей. И не делай удивленное лицо, я знаю, что Сольвейг все еще в Париже.
– При чем тут она? И почему ты все время называешь ее Сольвейг?
– Потому что красиво и ей идет. Разве я неправа?
– В любом случае я не буду с тобой спорить. Так про какой объект ты говорила? И где ты прячешь Дюка? Сегодня нам точно никто не помешает, я даже на всякий случай оставил дома телефон, чтобы не вызвали на службу если что.
– И правильно. Ты всех увидишь, Питер. И Дюка, и остальных. Идем, надо проводить старый год, выпить за него – на по-со-шок. Так, кажется, да? У вас, у русских?
Я оглядываю стол с напитками, прикидывая, к чему меня больше тянет. Вообще-то, тянет поскорее присоединиться к Дюку, уединившемуся в самом дальнем углу. Издалека вид у него довольно мрачный. Внезапно я слышу из-за спины:
– Как поживаешь, милый? – и, обернувшись, вижу копну рыжих волос, белую, очень нежную кожу и по-прежнему озорные глаза. Вот только чуть добавилось морщин – Мария Магдалина бальзаковского возраста, а на самом деле Аня, вернее, Анюта, причем, на местный лад, с ударением на последнем слоге.
– Ты? Откуда?
– Ты же сам всегда говорил, что мой излюбленный способ – взять и свалиться на голову. Значит, с неба, откуда же еще? Прилетела еще днем. Ты рад?
– Разумеется. Разумеется, я рад тебя видеть, – я, не скрывая, оглядываю ее всю. – Если замужество красит женщину, значит, это счастливое замужество. Ты по-прежнему чертовски хороша.
– Ну, слава богу, а то я уже хотела обидеться. «Разумеется, рад тебя видеть…» Ледяной душ, да и только. Я и так знаю, что ты это умеешь. Ты хоть изредка меня вспоминал, скажи? Или совсем нет?
– Ну почему же? Только ведь это ничего не меняет. Ты замужем, а я…
– Милый мой, я очень хорошо помню: «Мой колодец пуст и жарок, и ни одна птица не залетает в него». Еще когда я услышала это в первый раз, то поняла, что на самом деле ты поэт и, значит, безнадежен. Может быть, поэтому все вышло именно так.
– Ты всегда любила преувеличивать. Это всего лишь фраза, не больше.
– Но и не меньше. Неужели так до сих пор и не залетает?
Я пожимаю плечами и улыбаюсь.
– Если даже у тебя не получилось…
– Потому что в твоем колодце, Питер, уже живет птица. И она не залетела туда, она там родилась. Не пора ли ей его покинуть?
Анюта глядит на меня молча, не мигая и не отводя взгляд – как кошка. Потом, видимо что-то про себя решив, произносит совсем тихо:
– Я почти готова попытаться еще раз. Знаешь, я ведь до сих пор не могу забыть твой запах. Ты пахнешь…
– Чем же?
– Океаном. Ты пахнешь океаном, милый. Именно этот запах – твой запах – всегда сводил меня с ума.
– Анюта…
– И еще. Ты уже бог знает сколько времени разговариваешь с абсолютно свободной женщиной, да-да, свободной, и до сих пор не предложил ей выпить. Это, между прочим, праздник, и у меня уже совершенно пересохло в горле.
В этот момент раздается хлопок – Густав открыл шампанское.
Я машу ему.
– Привет! Ты один?
– Нет. Амалия там, – он показывает куда-то в сторону. – Вышла проветриться. Сейчас вернется.
Я беру два исходящих пеной бокала, один отдаю Анюте. Справа от нас, у торца стола, Дюк и Наташа. Он мрачный, большой и чуть неуклюжий, она затянута в серое платье, тонка и беззащитна. И смотрит на него как на ребенка, по-матерински. Анюта берет меня под руку.
– Не думай о них, Питер, они сами, им никто не нужен, и ты тоже. Я всего полдня здесь, а уже все знаю – остров ведь не терпит тайн, – она поднимает лицо, и почти касается им моего. – И про твою дочь я знаю тоже, не только, где она, но и с кем. Все одно к одному, Питер, все неслучайно. Давай выпьем за это, а? За то, что еще, может быть, не поздно. Не поздно… – она поднимает бокал. – Ну, давай же!
– Не могу. Очень жаль, но нет.
– Но почему?
– Пить стоит лишь за то, за что имеет смысл пить. Иначе – зачем? Прости, Анюта.
Она замирает на секунду, глядя на меня, делает глоток, еще один, и, уже повернувшись, чтобы уйти, говорит:
– Я ошиблась, Питер. Ты пахнешь не океаном, ты пахнешь одиночеством…
Кончита, сидя в кресле, поглаживает свой, пока еще совершенно обычный, живот и тихо улыбается в себя, словно рассказывает кому-то о своем счастье. Кому-то, кого здесь нет. Гостиная полна людей, но пространство вокруг нее заполнено пустотой. Лишь Феличе, пошептавшись с Густавом, подходит к ней с бокалом шампанского – если немного, то можно, даже полезно. Ведь когда она выпьет, то делается такой ласковой и такой его, какой никогда и не была. Хоть на вечер, хоть на час, хоть на минуту, что из того? Пусть. Все равно никто не знает ее, как он. У него своя Кончита: ни громкого слова, ни смеха, даже улыбается она редко, но как она улыбается! Он плачет каждый раз, когда видит эту улыбку. Плачет и молится всем богам на свете. А главное – она родит ему сына, подарит ему вечность, разве можно желать большего?
Она берет бокал, медленно подносит к губам, пробует золотистую жидкость, делает глоток, другой. Морщится.
– Больше не хочу. Устала, – она произносит это почти шепотом, но он слышит. – Я просто посижу. Просто так.
Наконец я подхожу к Дюку. Он глядит в окно, в котором, кроме наших лиц, не видно ничего.
– Старый год уходит, – он говорит так тихо, что я едва слышу. – Как там она?
Я не удивляюсь, хотя эти же слова одновременно с ним я произношу про себя.
– Где – там?
– Там, – он кивает в окно. – Она вернется, Питер. Не знаю, скоро ли, но вернется. Так и будет.
Пока я раздумываю, что ему ответить, рядом с нами распахивается дверь на террасу, входит Амалия, а вместе с ней врывается холодный воздух и чуть-чуть метели: снежинки сверкают и переливаются в свете люстры, опускаются на лица, на волосы, на плечи. А она… На ней лиловое платье с широкой юбкой и белые кружевные перчатки по локоть – наряд, который она надевает на все праздники, ни в чем другом я не видел ее ни разу. Вместо сумочки аккуратный холщовый мешочек, в котором она держит сигареты, ключи и помаду. Курит Амалия немного и очень быстро, две-три затяжки и сигарета летит в снег. Она, конечно, старомодна и чудаковата, но не более чем эта метель и хоровод снежинок, и музыка, и облачка пара от дыхания танцующих.
Густав с Анютой кружатся в вальсе, Феличе, хоть он совсем не умеет танцевать, виртуозно ведет Наташу в медленном фокстроте, Кончита – эта маленькая, чужая и совершенно неземная женщина – покоряется рукам Луки в латино, и шепот ее заглушает музыку: «Что же ты делаешь? Что же ты делаешь со мной, мальчик?»
Агнешка и Дюк почти не двигаются, она прижалась к нему – не оторвешь.
Где же Зая? Я ведь обещал, я должен…
…пижамка с барашками уже давно тебе мала, а гостиная превратилась в огромную снежинку и легла короной прямо на твою стриженую детскую головку.
…Анюта, болтая ногами, сидит на облаке, смеется и кричит оттуда одно и то же: «Она все равно улетит, Питер! Все равно улетит!»
…Густав в килте и гольфах с кистями, вертясь перед зеркалом, задумчиво изрекает: «А вроде ничего. Амалии должно понравиться, как ты считаешь?»
…Дюк улыбается и хлопает меня по плечу: «Я же говорил, что она вернется. Она просто не могла дозвониться».
…я тянусь, я хочу дотронуться до этих слов, до этой фразы, но она вдруг падает и разбивается на слова-осколки: это тебя-это тебя-это тебя…
– Это тебя, – одной рукой Дюк трясет меня за плечо, в другой у него телефон. – Майя. Она не могла до тебя дозвониться, поэтому позвонила мне, на мой, слышишь? Догадалась. Да возьми же трубку, наконец!
Я выхватываю у него телефон и почти кричу:
– Зая, это я, я! Говори! Говори же, ну! Что?
Почему мне кажется, что случилось что-то непоправимое?
ЗАЯ
Лет до пяти она очень часто болела. Бывало, выздоровеет, только в садик пойдет и тут же снова. Тогда нам с Мариной приходилось работать в разные смены – я брал себе ночные дежурства, чтобы днем мы с нашей малышкой могли «поболеть вместе» – так это у нас называлось. Я доверху наполнял термос свежезаваренным чаем, мы запасались малиновым вареньем и забирались на наш старый и продавленный, до последней вмятины знакомый диван. Я укутывал ее в одеяло, брал на колени и в самом прямом смысле начинал ею дышать.

