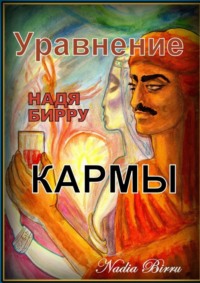Полная версия
Прощальная прелюдия, или Прогулка под дождём
Начала не помню. Клянусь тебе! Тогда это было так неважно. Ты – это было неважно. А конец…
В комнате царил полумрак, горела красная лампа. Он печатал фотографии, хотел успеть до её отъезда. И что-то говорил, «важное», наверное, но её это совсем не касалось. А он был увлечён, но потом заметил и сказал грустно, однако, старательно пряча свою грусть: «Опять ты из каких-то глубин. Ну, и как впечатление?» – «Никак». – «Не хочешь поделиться?» – «Нечем. Я – как сосуд без дна: всё, что падает, тут же исчезает, только по стенкам течёт, да и то – не внутри, а снаружи». Ей хотелось поскорее закончить, всё: и разговор, и печатанье, и саму эту встречу. Просто хотелось спать. И как-то не очень верилось, что ему это может быть интересно. Он просто исполнял однажды принятую на себя роль и… пытал, тянул из неё последнее.
«Ты почему-то любишь всё разделять на внутреннее и наружное. Ты придаёшь этому какое-то особое значение?» – «Конечно, в связи с собой» – «То есть? Ты, по-моему, и внутри, как снаружи, и, если б сделать наоборот, ты б ничуть не проиграла» – «Ошибаешься, миленький. Что ты знаешь? Внутри у меня всё изрезано, искорёжено, всё в шрамах! Если б случилось так, как ты говоришь, люди бы шарахались от меня, как от прокажённой, и это было бы справедливо».
И это был последний разговор! О чём говорили! Неправда! Она хотела его спасти! Или себя – от ещё одного шрамика? от царапинки?
Он успел крикнуть только имя и: «Я здесь!»
«Лиза, я здесь!» А потом… всё! дышать-то хотя бы можно? Пошли вы все вон. Надоели, вот что…
Какой тяжёлый, тёмный бред, как эти выси мутно лунны. Касаться скрипки столько лет – и не узнать при свете струны. Кому ж нас надо?…
– Что это вы шепчете?
– Доктор? Как вы подкрадываетесь! Я… молюсь.
– Вы? Это интересно. И о чём?
– Всё, что должно быть, да сбудется – и поскорее! Надоело ждать! – произнесла она замогильным голосом, а в конце рассмеялась.
– Та-ак, – Владимир Николаевич снял очки, повертел их в руках, исподлобья рассматривая её. – Что-то ты стала много улыбаться.
– Так уговор же!
– Какой уговор? Не припоминаю.
Лиза обнаглела окончательно и, как мальчику, лукаво погрозила ему своим костлявым пальцем.
– Ай-я-яй, доктор, нехорошо!
– Ты когда-нибудь будешь называть меня по имени-отчеству?
– А вы когда-нибудь отпустите меня погулять? и переведёте в общую палату!
– Ага, вот как раз по поводу палаты. Тебя ожидает один сюрприз. Спасибо, что напомнила.
…кто зажёг два лика жёлтых, два унылых. И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то…
И везде этот кто-то! А я-то его видела – не часто, всего несколько раз. Это было жутко. Нет, сам он совсем не страшный – красивый, молодой и такой нестерпимо уверенный в себе и в тебе – если он захочет. Наглый такой! Всё время со своей улыбочкой и напоминает… я никак не могу понять кого, но что-то очень близкое, нестерпимо знакомое. Кажется, ещё немного, и станет ясно, но я никак не могу, не могу вспомнить, только голова болит, просто раскалывается, если я об этом думаю, точно я нарушаю какой-то запрет. Он не желает быть узнанным, встречается в людных местах, за чьими-то спинами, растворённый в чьих-то улыбках…
– А ты могла бы его нарисовать?
…и всегда он стоял на дороге прощальной – из полуночной смуты, из мути зеркальной выходил с потемневшим лицом.
А если один на один? О, чур меня! Тогда это конец! Я боюсь его. Он дерзок и циничен, но непонятно до какого предела. Ведёт, ведёт за собой через толпу, потом бросит, подстроив какую-нибудь каверзу, а когда кажется, что погибель и нет возврата – неожиданно появится вновь, проявляя великодушие, и спасёт. Но на него нельзя положиться!.. Просто какой-то мальчишка, вечный… Нет, уйти и от него, и от всех. Неужели нельзя хотя бы раз оставить его в дураках? Хотя бы раз, пусть и последний в этой жизни. Последний… Я жгу последнюю свечу. Шепчу последнее проклятье… Да, я не знаю, кто он, но я точно знаю, как его зовут, этого мальчика. У него очень простое имя, всего три буквы. И это… это всё из-за него, это из-за него у меня ничего не получается с другими! Я даже сначала не поняла, что он – не человек. Когда увидела его первый раз…
– А когда это было, Лиза?
Когда-нибудь – наверное, уже очень скоро! – я увижу его так близко, как это уже было однажды… вы знаете, он вдруг вошёл и сел, он был немного пьян и очень весел, и взгляд его из отдалённых кресел пугающе-восторженно блестел…
– Ты очень любишь стихи?
– Я? Люблю?? Стихи??? – она начала безудержно смеяться, и доктору пришлось оставить её в покое.
11
– Кого-кого? – переспросила нянечка и просунула голову в маленькое окошко, – повторите-ка ещё, что-то вас совсем не слышно.
– Ни-коль-ску-ю!
– Да разве у нас есть такая? Вот Максимова, знаю, есть, в третьей общей, а вот… как этого?
– Никольская Лиза, мне сказали, что у вас, что её на скорой…
Нянечка просунулась обратно, задумалась, с головы до ног оглядывая стоящую перед ней женщину, и вдруг как озарилась:
– Ах, Лизу! Смеральду нашу… то-то! К ней же никто не ходит. А вы не сестра? Что-то с лица похожи.
Нянечка – невысокая и нескладная, как старый бабушкин сундук, однако резвая на своих коротеньких кривоватых ножках – впустила женщину в приёмную для посетителей, где стоял обтянутый чёрной кожей, похожий на гроб диван и два таких же мрачных кресла, а сама скрылась за белой массивной дверью. Дверь захлопнулась глухо, будто навсегда. За ней – тишина. Женщина сняла перчатки, поправила воротник и волосы, выбившиеся из-под белой вязаной шапочки. Движения её были скоры и суетливы, как будто она боялась, что вот-вот появится кто-то, застанет врасплох, но никто не шёл, и белая дверь по-прежнему оставалась закрытой.
Из записок доктора: «Всю свою сознательную жизнь я искал длительных циклов, дальних целей, деятельности, стимулы которой лежат во мне самом, а не во внешнем мире. Эти поиски выражались и в хобби – занятия альпинизмом; теория медицины, программирование, исследования природы гениальности; цвет и свет – психологическое влияние, мистический и символический смысл, наконец, цветотерапия – как практический метод. Человек живёт и действует только собственными стимулами, даже когда жертвует жизнью для других. Он не может иначе. Он будет несчастен, если иначе. Несчастен до несовместимости с жизнью. Поскольку…»
В дверь постучали.
– Да-да!
– Владимир Николаевич!
– Что там?
– Пришли к этой… к Лизавете-то.
Через минуту посетительница уже сидела в кабинете главврача.
– Ну, как вас зовут?
– Оля… Ольга Александровна.
– Я вас, Ольга Александровна, старше порядком, так что, если не возражаете, то будьте просто Оля, согласны?
Она кивнула, с некоторым удивлением разглядывая сидящего перед ней мужчину в белом халате. Седой, в очках, а такой красавец! Она улыбнулась, свободнее располагаясь в удобном кресте и уже не жалея о предпринятом путешествии.
– Так. А кем вы ей приходитесь?
– Лизе? Подруги. Вернее, раньше были. Я её давно не видела.
– Как давно?
– Ну-у, – Ольга сморщила лоб и принялась водить по нему пальцем как-то по-детски и довольно беспомощно. Доктор видел, что она просто не может сосредоточиться, и решил помочь.
– Пять лет, вот сколько, – тут же выпалила Оля и удивлённо взглянула на доктора. Тот рылся в бумагах.
– Да? А что же вы теперь надумали… Простите, сколько вам лет?
– Мне? Двадцать семь… двадцать восемь!
– А Лизе?
– Тоже около этого, она немного помладше.
– Ясно. Что же вы – пять лет не виделись, а теперь решили посетить? И как вы узнали…
– Она мне записку прислала. А что с ней? Что-нибудь серьёзное?
– Оля, – Владимир Николаевич снял очки. Большие карие глаза в окружении сеточки морщин смотрели не строго, но со значением.
– Да? – откликнулась она, почему-то сразу проникаясь доверием и сознанием того, что этого человека надо слушаться.
– Давайте пока решим так: вы сейчас ни о чём не спрашивайте, а сами как можно откровеннее отвечайте на мои вопросы. И подробнее, не стесняйтесь – всё важно, ведь речь идёт о жизни человека. Вы сказали, что получили записку. О чём она?
После разговора, который продолжался с глазу на глаз около часа и изредка прерывался телефонными звонками или минутным погружением доктора в его записи, Владимир Николаевич лично проводил Олю до двери бокса и попросил:
– Потом опять ко мне, так?
Та кивнула и толкнула дверь.
– Сильнее, – посоветовал Владимир Николаевич.
За дверью голос был услышан и узнан.
– Доктор, кого вы там ведёте?
Дверь отворилась, и в палату, близоруко щурясь, вошла Оля.
– Ты? Вот так-так! Привет, не ожидала! Сколько ж мы с тобой не виделись?
– Год и два месяца.
– Серьёзно?
– Нет, просто так сказала.
– Врёшь?
– Вру.
– Но ты сама надумала прийти?
– Сама. А ты рада?
– Ну, я рада, да.
– Ещё бы! Не скажешь же ты, что не рада, если я уже пришла?!
– Ну, и что рассказывать?
– Что хочешь, а можно ничего. Я и так всё знаю. Я слежу за тобой.
– Следишь?
– Да, и веду на тебя досье.
– Опять врёшь?
– Не знаю.
12
Из записок врача:
«Поскольку открытий в ближайшее время не ожидается, то меня интересуют только вечные вопросы: что есть истина? разум? взаимодействие человека и общества, человека и природы. Нарушение этих значимых связей – с обществом, природой – является, по моим наблюдениям, факторами риска – к проблеме суицида. Жизнь и смерть… переходный процесс – старость.
Ещё – познание самого себя. Это тоже вечная тема.
Обратимся к сиюминутной жизни. Наконец-то объявился человек из прошлого. Это я опять о Лизе. Оля. Она меня спросила:
– Скажите, а как я должна с ней разговаривать?
– Да так, как сочтёте нужным.
– Нет, я имею в виду – наедине? без свидетелей?
– А вам нужны свидетели? (кстати, этот бокс – под постоянным наблюдением, но об этом в моей клинике знают только трое; в нашем деле без секретов нельзя).
– Нет, просто… может, так положено.
– Нет. В данном случае – нет. Но если вы хотите…
– Ну, что вы! Я просто поинтересовалась.
Однако мне показалось, что она чувствует себя неуверенно. Колеблется или даже чего-то боится. Для себя: я не должен безусловно доверять её словам. Она показалась очень старательной, но интуиция и опыт говорят мне, что такое поведение более характерно для человека, который знает больше, чем намерен сообщить. Впрочем, пять лет, и свидание в таком месте, – могу и я ошибаться!
Ольга расхаживала по небольшой палате, избегая смотреть Лизе в глаза. Разговор не клеился, да и не было желания его «клеить» у обеих сторон. Лиза просто лежала, наблюдая, как её подруга с наигранным оживлением хватается за различные предметы, извлекает какие-то бумажки, что-то говорит, говорит…
– Ой, а это что? – вдруг спросила Оля.
Лиза приподнялась, взглянула – в руках у Ольги была фотография, извлечённая из книги. Щурясь, она поднесла её к глазам.
– Ой, это же Пашка! Пашка, да? Как он?
Ольгино лицо оживилось, стало девчоночьим, милым, совсем таким, как в юности, как тем особенным летом. Лиза улыбнулась в ответ, как и Пашка – с фотографии.
– А вот всё время глядит на меня и улыбается.
– Ну, это ясно, – усмехнулась Ольга. – Сам-то он как? Где? Чем занимается? Ну и вообще…
– Его уже нет.
– Что-о?!
– Не кричи. Нет. Он умер пятнадцатого декабря от заражения крови.
В Олиных широко распахнутых глазах показались слёзы. Всё отошло. Не было уже этих пяти лет не-вдвоём, так чувствовала Лиза, но Ольга странно смотрела на неё.
– Ты? – произнесла она, наконец.
– Наверное.
Ольга сжала побелевшие губы и, схватив сумку, выбежала из палаты.
«Нечего было притворяться всю жизнь», – устало подумала Лиза, опять устраиваясь на кровати. В виски безжалостно стучало, ломило, как будто там билось в предсмертных судорогах сильное змеевидное существо, запертое в тесном пространстве и страстно рвущееся на волю. И ведь вырвется когда-нибудь. Она заломила руки за голову. Взгляд упал на фотографию. Пашка по-прежнему смотрел на неё и улыбался.
«Ничтожества! Ничтожества! Ничтожества! Я себя так иногда ненавижу, что начинаю всех вас презирать!»
Кто-то вошёл. Перед глазами качнулось белое, но внутри происходила такая свистопляска, что она не могла различить.
– Лиза…
Доктор. Узнала по голосу.
Всё бешенство, вся ненависть, вся эта живущая внутри тёмная сила собралась в маленький свинцовый шарик – ядро, готовое к запуску. Неуправляемая стихия сейчас легко поддавалась ей. О, в такие минуты она умела отлично владеть собой. Теперь эта сила была не боль, а оружие, потому что имела цель. Эта цель мелькала перед глазами, сучила ручками и ножками, что-то пищала.
– Какое у вас было любимое занятие в детстве?
– В детстве? Гулять по кладбищам, останавливаться около старых, заброшенных могил, читать остатки сохранившихся надписей и думать о тех, кто этих надписей никогда не читал.
– Да? А врать вы не любили? Это что? – доктор взял в руки фото.
– Это? – она странно усмехнулась, глаза порыжели, вспыхнули зловещим жёлтым огнём. – Доктор, вам хочется жить?
– Разумеется, дитя моё, разумеется! – он даже протянул в воодушевлении руки, но услышал тихое, как скрип двери дома, где давно никто не живёт:
– Тогда оставьте меня… Уйдите!

Часть II Весна
Каждый человек имеет историю своего развития.
И страшно, и легко, и больно.
опять весна мне шепчет: встань!
– Да, сначала дело шло очень туго. Я не любитель насилия, к тому же этот метод требует большого напряжения и энергозатрат от врача, а у пациента оставляет чувство опустошённости. Это была экстренная помощь, но пользоваться гипнотическими методами и дальше было опасно. Лучше, если б она начала открываться сама. Но говорить она по-прежнему не хотела, и мы решили попробовать арт-терапию. Дали ей бумагу, краски… правда, вначале она довольно упорно пользовалась только простым карандашом. Но как мастерски! Я любил наблюдать, как из-под её руки рождались мимолётно странные, иногда страшные, но всё равно прекрасные в своей гениальности и технически совершенные образы. Казалось, она даже не задумывается, а карандаш сам собой скользит по бумаге, точно обводя уже ранее нанесённые линии. Такое завораживающее зрелище, поверьте. Правда, сама она не любила, чтобы за ней наблюдали.
– И что, что он дал вам, этот метод?
– Во-первых, мне было интересно взглянуть на её рисунки с чисто медицинской точки зрения. Мы работаем в такой области, когда действительное отклонение, болезнь бывает трудно выявить, трудно отличить от временного расстройства… Простите, отвлекусь. Вы когда-нибудь задумывались об этимологии и семантике этого слова: «расстройство»?
– Об этимологии?.. Ну, да, конечно. Рас-стройство. Три.
– Да, в этом слове содержится понятие о троической структуре человека: дух-душа-тело. В здоровом человеке все они должны действовать сообща в правильной иерархии сверху вниз, как и было названо. Но когда они рас-страиваются, то есть действуют разобщённо, как разлаженный механизм, мы приходим на помощь. Но одно дело – расстройство, какой-то сбой в работе. Другое дело – поломка. Тогда каждая из означенных составляющих требует своего специалиста. Терапевты работают с телом, мы и священники – с душой, а Господь Бог…
– Священники?
– Гм-гм, ладно. Не будем отвлекаться. Рисунки пациента дают столь обширную информацию, что я даже не берусь вам сейчас назвать все грани. Но: первое – они помогают выявить повреждение психики и, отчасти, степень этого повреждения, а в дальнейшем, как следует из самого названия, являются и одним из средств лечения… А, знаете, ведь Виктор был прав: мы оба действительно видели её раньше…
1
Всё выглядело каким-то необычным или казалось таким, потому что поезд был дополнительный, но ещё больше он походил на военный эшелон, заблудившийся во времени. С первого взгляда, как и со всех последующих, он не вселял радостных чувств, но вызывал уважение своими помятыми в боях боками и облупившейся от почтенного возраста краской.
Из всего поезда седьмой вагон был самым уникальным – с разбитыми стёклами, подвыпившей проводницей и всего одним занятым купе, в котором, как и в остальных в этом вагоне, не было занавесок, и не закрывалась дверь. Наверное, поэтому пассажиры чувствовали себя сродни потерпевшим кораблекрушение и выброшенным на малопригодный для проживания островок. Но именно вследствие этого между ними сразу возникла симпатия, породившая потребность в общении, и в наступившей темноте, под стук вагонных колёс, они вдруг почувствовали такую благодарность… к кому? друг к другу? или к случаю?
Пассажиров, как и полагается, было четверо: молодая женщина-преподаватель, ездившая навестить своих родных; представительный мужчина средних лет, возвращающийся из командировки, и мать с одиннадцатилетней девочкой.
Не было никакого знакомства, всё произошло само собой. Конечно, этому способствовала необычность обстановки и присутствие ребёнка.
Девочка – крепенькое, жизнерадостное существо с глазами, как весенние лужи, проявила редкую для своего возраста общительность, не имеющую ничего общего с навязчивостью или дурным воспитанием. Напротив, она легко включилась в поначалу беспредметную дорожную беседу, и вскоре все четверо разговорились, как старые добрые знакомые.
На столе появился чай, принесённый мужчиной из соседнего «трезвого» вагона, женщины достали свои сумочки и свёртки, откуда с типично русской щедростью стали извлекаться ароматная нежно-розовая ветчина, первые в этом году свежие огурчики, свежий, почти ещё тёплый хлеб, ряженка в маленьких баночках, яйца, печенье, конфеты…
– Мне, право, неудобно, – признался мужчина. У него был очень красивый, низкого тембра глубокий голос, да и внешность замечательная – высокий, кудрявый, волосы чёрные, с кое-где мелькавшей благородной проседью. – Думал, схожу в вагон-ресторан, как обычно, а тут ни вагонов, ни ресторанов.
– Подумаешь, – сказала девочка, – нам всё равно всего этого не съесть. Даже хорошо, что вы ничего не взяли, а то мама любит всех кормить. А когда всех нет, так меня одну. Теперь вот пусть вас кормит!
Все засмеялись, а мама девочки пожаловалась:
– Тебя накормишь! Маленькая ещё, а уже не справиться. Как что-нибудь взбредёт в голову, так и всё. Хоть караул кричи. А вы кушайте, кушайте!
– Вы у нас за добытчика, чай вон принесли, – поддержала молодая женщина.
– Так это же хорошо, характер, значит, есть, – подытожил мужчина, крупными ломтями нарезая хлеб, и подмигнул девочке. Та тоже попробовала подмигнуть в ответ симпатичному дяде, но огромный глаз её не закрылся до конца, а соседняя бровь лихо подпрыгнула вверх. Она рассмеялась и пожаловалась:
– Вот всё уже умею: свистеть, на велике гонять – даже без рук, обруч крутить, по канату лазить и то научилась, а подмигивать не умею!
– Как же так?
– Ничего, научишься, было бы желание, – обнадёжила молодая женщина. – Я вот в школе работаю и заметила: желание всегда главное, надо очень хотеть – и тогда всё получится.
– Трудно вам в школе? – спросил мужчина. – Не слушаются?
– Нет, ничего. Только дети теперь пошли… циничные какие-то. Я старшие классы веду – физику, астрономию. Хотя если откровенно, мне их просто жаль – слишком много они всего знают.
– Так уж и много? Даже двойки ставить некому?
– Нет, я не о том. Двоек как раз хватает, но вот знаете, не было у меня телевизора. Я одна живу, получаю не так много, да и времени на телевизор нет. А подруги на работе заладили: как это так, современный человек, да ещё учитель – и без телевизора!? Ты ж от жизни отстанешь, будешь не в курсе, дети тебя засмеют! Ну, и всё такое.
– Убедили?
– Вот в том-то и дело. Взяла я этот телевизор напрокат. Как ни включу, передают то про ядерные испытания, то что кто-то опять довооружается, то какое-нибудь ЧП… или фильм – то всё равно бегут, стреляют, убивают.
– Ну, это вам просто не везло!
– Может быть. Я ж в основном информационные программы смотрела, а там каждый день – война, убийства, катастрофы, теракты. Лягу спать – и во сне то же. Просто страшно. Мне и жизнь стала не мила, аппетит пропал. Вот и дети мои: Наталья Сергеевна, зачем нам ваша физика, всё равно скоро ядерная война начнётся, и все погибнут. Пока у меня телевизора не было, я с ними спорила, была стопроцентной оптимисткой, и они мне верили, а тут я их слушаю, глазами хлопаю и не знаю, что отвечать. Выходит, вроде они правы, и двойки ставить жалко.
– Нам бы такую учительницу! – мечтательно произнесла девочка.
– А разве ты плохо учишься?
– Я? Нет. Вообще-то на пятёрки, но тогда бы можно было поменьше учить и сколько бы у меня было времени на мои дела!.. а так только чем-нибудь займешься, приходит мамочка с работы и сразу: «Как уроки?»
Она так артистично изобразила сценку, что все опять рассмеялись. Только учительница пояснила сквозь смех:
– Да, но теперь я телевизор сдала и живу спокойно.
– И опять ставите двойки?
– А как же – тем, кто заслужил.
– А какие это у тебя «свои дела»? – поинтересовался мужчина у девочки. Та неожиданно потупилась, и за неё ответила мама:
– Вы знаете, чем только ни занимается. Она у меня в двух школах – в общеобразовательной и в музыкальной. А в музыкальной – и скрипка, и фортепиано, и на том, и на другом инструменте заниматься надо. А она ещё рисует – приглашали в художественную школу, но – куда ещё третью! Вот она и рисует дома каких-то кукол из бумаги, вырезает и играет с ними – про всё забудет. Книжек начитается и разыгрывает… потом, куда ни ткнёшься, везде эти её уродцы. Танцует с пелёнок всё цыганочку – как цыганскую музыку услышит, так и пошла! Да и вообще музыку. И сама сочиняет – стишки, песенки. Всё? – мать благодушно взглянула на своё чадо, но та насупилась, спряталась в тёмный угол и оттуда пробурчала:
– Ещё пишу.
– Ах, а я не сказала? Да, что-то пишет по ночам в толстой тетрадке, это точно. И не показывает никому.
Мужчина смотрел всё внимательней.
– И при таком разнообразии интересов кем же ты собираешься стать?
Девочка не отвечала.
– Наверное, актрисой? – не утерпела учительница, с любопытством рассматривая маленькую пассажирку, с которой вдруг произошла такая разительная перемена: из улыбчивого, открытого и милого ребёнка она превратилась в замкнутую безголосую тень. И опять мама ответила вместо неё:
– Да вы знаете – удивила всех нас. Она ещё в детсадовском возрасте всё решала вопрос: кем быть? Но всё обыкновенные детские мечты: то воспитательницей, потом вдруг балериной, потом – милиционером, потом – отшельником с домом в лесу и кучей животных, потом – цыганский табор, художником, скрипачкой… ну, я уже и не помню, кем ещё. А тут вдруг заявила нам с отцом: я буду кинорежиссёром – и точка. И теперь она у нас режиссёр и так вдолбила это себе в голову – просто не знаем, что делать! У меня, знаете, тоже профессия не женская – главный механик крупного предприятия, сто восемьдесят мужчин в подчинении. Думала, хоть дочка поживёт спокойно. Да у нас в семье все с техническим уклоном. Даже не знаю, откуда она это себе выдумала!
– Я не выдумала, ма. Это само пришло. И так будет!
Слова девочки, прозвучавшие с неожиданной убеждённостью, заставили всех на время замолчать.
Первым заговорил мужчина – спокойно и очень благожелательно:
– Это хорошо, когда есть желание и уверенность. Но ведь и мама права! Представь: ты вырастешь, у тебя будет семья – муж, дети, да, не улыбайся, так обычно и случается со взрослыми людьми. Так уж заведено. А ты будешь всё время занята, будешь нервничать, мало бывать дома – так и мужу будет тяжело, и дети не могут расти без материнской заботы и участия. Разве это для тебя неважно? Ты подумай, подумай. Я ведь тебя не отговариваю.
– И правильно делаете: всё равно ничего не выйдет. Любовь Орлова, например, тоже занятым человеком была, и Лариса Шепитько, а мужья их вон как любили!
– А-а, Любовь Орлова! Вон что…
Опять всем стало весело: смеялась и девочка, и её мама, и молодая женщина-учитель, вспомнив себя такой же.
– Тогда, значит, с нами в купе едет будущая знаменитость? Надо мне тебя запомнить. Гладишь – и впрямь!