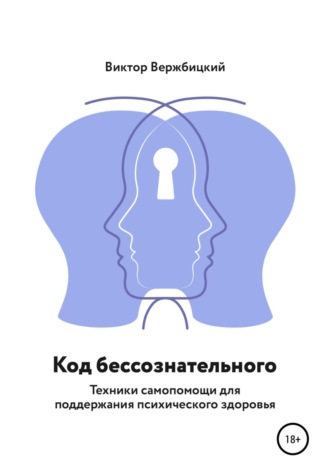
Полная версия
Код бессознательного
АТОМАТИЗМЫ
Итак, мы выяснили, что информация в океане нашего бессознательного имеет свою структуру, которая определяется установившимися между единицами этой информации устойчивыми связями. Именно по этой причине пути распространения возникающих в бессознательном психодинамических колебаний в значительной степени уже предопределены наличием сложившихся информационных взаимосвязей внутри системы. Иными словами, мы думаем то, что мы думаем вовсе не потому, что мы проделали грандиозную интеллектуальную работу по сбору и анализу данных, а потому, что в нашем мозге уже прописаны соответствующие ассоциативные связи и готовые алгоритмы решений. И менять эти решения мы ой как не любим! Ведь тогда мозгу придётся потрудиться и заняться целенаправленным мышлением, а это дело весьма энергозатратное.
Бόльшую часть своих решений мы принимаем «на автомате» даже не задумываясь о том, насколько мы действительно компетентны и насколько объективно мы подошли к сбору данных, на основе которых эти решения были приняты.
Но автоматизмами пронизаны не только наши мысли, мнения и решения, но и действия. До сих пор, говоря о психодинамических колебаниях мы имели в виду образы, мысли и готовые интеллектуальные конструкции, которыми заполнен сервер нашего интеллекта. То есть, мы вели речь об объектах и их взаимосвязях. Но кроме информации и её статичных конструктивов в нашем бессознательном есть ещё представления о действиях.
А+В может быть =С, где А – это нитка, В – иголка, а С – заплатка.
Но это уравнение может быть дополнено и другими производными:
А+B+D+F=C, где А – это нитка, B – иголка, D – действие по вдеванию нитки в иголку, F – шитьё. И только после совершения этих действий появляется C – заплатка.
Наше бессознательное есть грандиознейший банк данных, в котором хранятся образы, мысли, интеллектуальные конструкции и представления о действиях, которые мы автоматически совершаем в течение дня. Мы не озадачиваемся, стоя перед лифтом, каким пальцем нажать кнопку – мы делаем это на автомате. В течение дня мы автоматически совершаем десятки тысяч действий, даже не задумываясь о том, как мы это делаем. Мы чистим зубы, вытираемся полотенцем, ведём машину и идём по улице в соответствии с прописанными в бессознательном динамическими стереотипами, и крайне редко размышляем о том, почему мы делаем что-то именно так, а не иначе.
По сути, мы живём на автопилоте, и все наши действия, идеи, мировоззренческие установки, моральные принципы, представления о культуре, религии и нравственности являются лишь автоматизмами нашего интеллекта. Это просто рефлекторные реакции, которые нам только кажутся «сознательным выбором», но осмысленность наших решений и действий предопределена сформированными мозгом автоматизмами.
Наши автоматизмы – это и есть набор наших привычек. Привычек мыслить определённым образом, привычек действовать определённым образом и этот набор привычек снова и снова приводит нас к одним и тем же результатам.
И я вместе с вами проделал весь этот путь по страницам этой книги, чтобы привести вас к одной единственной мысли: всё, что мы имеем – мы имеем благодаря нашим привычкам. Всё, что мы не имеем, мы не имеем также благодаря нашим привычкам.
В нашем бессознательном нет ни плохих, ни хороших привычек. В рамках этой книги мы вообще не мыслим в категориях «хорошо» либо «плохо». Давайте будем вести наш разговор только в категориях «эффективно» либо «не эффективно». И если сформированные в нас автоматизмы приводят нас к нежелательным результатам, то нам стоит задуматься об эффективности наших ментальных концепций, эффективности наших динамических стереотипов и их осознанной корректировке. Этим, собственно, мы и будем заниматься во второй части книги.
ПРИНЦИП ДОМИНАНТЫ
А теперь давайте поговорим о том, как наш интеллект осуществляет выбор между нарастающими психическими процессами и принимает решение, что именно выводить в сознание и какой из процессов стоит преобразовать в действие, а какой так и оставить ментальной конструкцией.
Внутри океана бессознательного ежесекундно протекает множество информационных процессов и вполне естественно, что в единицу времени сознание может воспринять ограниченное количество образов, а тело совершить ограниченное количество действий. Это означает, что существует механизм, благодаря которому интеллект определяет степень важности мыслей и действий. Как это происходит?
Ничего нового. Мозг выбирает о чём думать и что делать на основе сравнения уровня энергии протекающих в бессознательном информационных процессов. Надо ли говорить о том, что выбор всегда осуществляется в пользу более высокоэнергетического процесса?
Ещё на заре XX века выдающийся русский физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский сформулировал так называемый принцип доминанты. Но давайте совершенно чётко определим, чем доминанта отличается от нарастающего психодинамического колебания.
До сего момента мы говорили об интеллекте, как о самоорганизующейся системе, делая акцент на физике протекающих в ней информационных процессах, как если бы мы хотели сконструировать интеллект в лаборатории. Но функционирование интеллекта человека предполагает его жёсткую корреляцию с физиологическими и эволюционными потребностями, в этом-то и вся соль.
У человека, в отличие от киборга, есть обусловленные его биологией потребности и неудовлетворённость этих потребностей предопределяет развитие очагов возбуждения в структурах головного мозга.
Пока потребность не удовлетворена, наши мысли и действия будут направлены на поиск путей и способов её удовлетворения. Таким образом, нарастающие психодинамические колебания, связанные с неудовлетворённостью какой-либо потребности, приводят к формированию устойчивого очага возбуждения внутри информационной системы. Этот очаг устойчивого возбуждения и есть доминанта.
В океане бессознательного постоянно происходит борьба различных доминант и только одной из них суждено победить в конкретную единицу времени. Все наши действия предопределены развитием соответствующих доминант. Мы делаем выбор между тем, чтобы лечь спать либо продолжить смотреть фильм, когда доминанта сна побеждает. Мы думаем о еде, когда хотим есть, откладываем супер-важную работу и идём на обед если уже совсем голодны по той же причине победы доминанты голода над доминантой работы. Один человек создаёт компанию и открывает собственный бизнес, потому что в его мозге была сформирована соответствующая доминанта, завязанная на удовлетворение его социального инстинкта. А другой человек постоянно думает об извращённом сексуальном контакте, всё по той же причине, что в его бессознательном когда-то возник определённый очаг возбуждения, который случайным образом его интеллект связал с удовлетворением полового инстинкта. Всё это информационные доминанты!
И вы, наверное, уже догадались, что, как и динамические стереотипы, наши доминанты могут продуцировать как эффективные так и неэффективные модели поведения. Но что важного нам ещё надо знать о принципе доминанты?
У любой доминанты есть два возможных варианта своего завершения: экзогенный – когда какой-то сильный внешний фактор провоцирует возникновение новой доминанты, и эндогенный – когда доминанта разряжается при совершении вами определённого действия. Третьего не дано.
К примеру, вы сидите за компьютером и заняты созданием какого-либо выдающегося произведения. Все системы вашего мозга погружены в этот замечательный творческий процесс. Но вот, вы получаете от своего мочевого пузыря сигнальчик, что неплохо бы было сходить в туалет. Но разве можно думать о каких-то примитивных потребностях, когда мысль бьёт фонтаном, вдохновение снизошло и вы творите историю?! Доминанта творчества побеждает и вы продолжаете работу. Но проходит ещё какое-то время и сигнальчик от переполненного мочевого пузыря становится назойливым колокольчиком, который дзинь-дзинь – начинает серьёзно отвлекать вас от созидания великого. В общем, разрешение этой ситуации видится только при сбросе психического напряжения путём совершения акта мочеиспускания. Доминанта нашла свой эндогенный выход и разрядилась.
И второй пример: допустим, вы познакомились с замечательным человеком и у вас завязались отношения. Вы договорились о встрече вечером и вот, вы шагаете по городу в нетерпении и с предвкушением, что сегодня случится то, о чём вы так давно мечтали. Ваш нереализованный половой инстинкт нагнетает мощный очаг доминантного возбуждения и вам уже вообще сложно думать о чём-то другом. Но вдруг, в небе появляются военные самолёты, которые начинают сбрасывать на город бомбы. Вокруг взрывы и паника. Вы пускаетесь в бегство в поисках ближайшего укрытия. От доминанты, сформированной половым инстинктом, не осталось и следа. Новый экзогенный фактор – угроза жизни, моментально сформировал другую доминанту, в основе которой теперь лежит инстинкт выживания.
Итак, мы делаем то, что мы делаем только по одной единственной причине – доминантный очаг возбуждения требует от нас совершения какого-либо действия, успех которого мы связываем со сбросом психического напряжения. Но два предыдущих элементарных примера не раскрывают в полной мере всего многообразия вариаций работы интеллекта, который испытывает влияние возникшей в нём доминанты.
Представьте, что нам удалось создать киборга – механическую модель человека, который обладает способностью воспринимать визуальную, аудиальную, ольфакторную и тактильную информацию в том же спектре, что и человек. Допустим, мы взяли какую-то конкретную личность, скажем, здорового мужчину сорока лет и смогли переписать всю хранящуюся в его мозге информацию на жёсткий диск нашего воображаемого киборга. При этом мы придерживались чёткого воссоздания карты бессознательного человека в виртуальной реальности искусственного интеллекта киборга. Каждому нейрону мозга человека мы назначили соответствующий бит информации на жёстком диске компьютера. Мы создали точную копию пространственно-информационного каркаса нейронных сетей человеческого интеллекта на серверном пространстве киборга. Теперь, киборг и его живой прототип имеют одинаковый опыт и одинаковые вероятностные каналы распространения психодинамических колебаний. Иными словами, когда мы говорим о каком-то предмете, образ этого предмета вызывает у человека и его кибернетической копии одни и те же воспоминания и ассоциативные связи.
Но! Как бы мы ни старались, после того, как мы выпустим нашего киборга из лаборатории на свободу в его искусственном интеллекте и в бессознательном его прототипа-человека будут формироваться совершенно разные доминанты и, осознав принцип работы этого механизма мы сможем существенно продвинуться в понимании одного из главных законов работы интеллекта.
Представим, что наш киборг и его прототип участвуют в посиделках весёлой компании, в которой есть несколько хорошеньких женщин. Одна из них приглянулась нашему герою-человеку. В его мозге сформировалась соответствующая доминанта, которая не просто начала оказывать влияние на его действия, но и продуцировать формирование целого каскада мыслей и фантазий, связанных с удовлетворением полового инстинкта.
Дело зашло ещё дальше. Возникшая доминанта стала причиной значительных изменений в поведении нашего прототипа. Будучи до этого скучным и необщительным, он вдруг стал весёлым, активным и чувственным. Зануда неожиданно превратился в интересную, яркую личность. Он изрекал мудрые цитаты, блистал остроумием, читал стихи и проявлял себя истинным джентльменом. Его интеллект всё поставил на карту, чтобы произвести впечатление на понравившуюся женщину и всему виной стала завязанная на половой инстинкт так внезапно возникшая доминанта.
А что же происходило в этот момент в интеллектуальной системе киборга? Боюсь, что он просто поддерживал беседу и никаким образом не мог испытывать того влияния, которому оказался подвержен его прототип-человек. Почему? Да потому что у киборга нет полового инстинкта и в его бессознательном не могла сформироваться завязанная на этот инстинкт доминанта, предопределяющая его дальнейшее поведение. В информационной системе киборга может возникнуть только одна доминанта-вопрос: как ему расширить свои вычислительные мощности и добиться полного интеллектуального превосходства над человеком. Несмотря на свою системную идентичность у человека и киборга будут совершенно разные источники мотивации. Но это уже совсем другая история. А пока, давайте сделаем очередные выводы:
– Психодинамические колебания – есть физическая основа работоспособности интеллекта. Это способ передачи информации внутри системы.
– Информационные взаимодействия внутри океана бессознательного протекают по проторённым каналам, существование которых предопределено сложившимися -нейронными связями.
– Развитие любого информационного процесса внутри нашего бессознательного протекает в рамках базовой матрицы представлений о норме.
– Наш интеллект – это компьютер, который постоянно занят вычислением уравнений типа «что если».
– При изменении в бессознательном представлений о произошедших событиях, происходит изменение реакций нашего интеллекта и нашего тела на эти события.
– Наши мыслительные и динамические стереотипы = наши привычки. Всё, что мы имеем – мы имеем благодаря нашим привычкам. Всё, что мы не имеем, мы не имеем также благодаря нашим привычкам.
– Все наши действия предопределены развитием соответствующих доминант.
Глава 5. Вся правда о мотивации
«Нам лгут о природе человека,
о мотивах его поведения,
и о том, что мы есть на самом деле».
Андрей Курпатов (Красная таблетка).
Один из самых известных и высокооплачиваемых бизнес-тренеров России – Владимир Герасичев убеждён, что мотивация – это самообман и какое-то время я также придерживался этой точки зрения.
Когда на моих тренингах, уже в «разогретой» аудитории, я говорил с участниками на тему мотивации, я часто применял следующую связку вопросов:
– Сергей, – обращался я к одному из участников тренинга, – скажи, что такое мотивация?
Наблюдая за тем, как человек погружался в раздумья, не дожидаясь ответа, я задавал ему следующий вопрос, – Сергей, я спрошу тебя по-другому. Зачем лично тебе нужна мотивация?
После этого вопроса, как правило, я слышал набор стандартных ответов: построить дом, заработать денег, стать начальником, начать заниматься спортом, бросить курить, отправиться в путешествие и т. д.
Затем следовала следующая цепочка коучинговых вопросов: – Сергей, скажи сколько килограмм мотивации тебе нужно получить чтобы начать заниматься спортом с сегодняшнего вечера?
После этого вопроса, Сергей, на пару секунд «подвисал».
– В чём измеряется тот объём мотивации, который тебе необходим для того, чтобы начать заниматься спортом? – продолжал я атаку вопросами уже порядком потерявшегося Сергея.
Далее я обращался к следующему участнику:
– Марина, скажи, у тебя не найдётся для Сергея пару килограмм мотивации, чтобы он сегодня записался в спортзал и прошёл первое занятие?
На этом моменте, зал обычно смеялся.
– Марин, – не умолкал я, – посмотри, пожалуйста, под твоим стулом, быть может всё-таки там завалялось пару кило мотивации для Сергея?
В общем, вся эта игра в вопросы заканчивалась тем, что я доносил до участников тренинга мысль о том, что мотивация – это самообман. Если ты целостен в том, что ты делаешь, если у тебя есть чёткая цель в жизни, прозрачные договорённости на работе о результатах и оплате, то мотивировать тебя дополнительно не нужно. Когда человек говорит, что ему нужна какая-то мотивация, он обманывает сам себя и на практике, если ты ищешь мотивацию, то это означает, что у тебя нет конкретной цели либо нет чётких сроков достижения этой цели, либо твоя цель существует только теоретически, а практически ты ни черта не делаешь, чтобы идти к своей цели и объясняешь себе это тем, что у тебя сейчас не хватает какой-то мифической мотивации.
И, надо сказать, все эти манипуляции с вопросами-ответами о мотивации всегда магически действовали на аудиторию. Мои ученики бросали курить, записывались в спортзалы и начинали наконец-то реально заниматься теми делами, которые они считали для себя важными, но, по каким-то причинам, на долгие годы откладывали «на потом».
Таким образом, будучи сторонником этой тренерской методики, я был убеждён, что мотивации и в самом деле не существует. Мотивация – это просто модное слово, под которым каждый понимает бог весть что и даже толком не может объяснить, что это такое.
Однажды я встретился в кафе с известным в Минске специалистом по мотивации персонала Татьяной Елисеевой. Мы говорили об одном совместном проекте и во время нашего разговора я признался, что придерживаюсь точки зрения о том, что мотивация – это миф. Помню, как в следующий момент я поймал недоумевающий взгляд Татьяны. Будучи психологом по образованию и автором собственной методики по диагностике мотивации, Татьяна явно решила, что перед ней очередной новоиспечённый бизнес-тренер, который нахватался каких-то модных американских прикладных концепций и теперь вещает об этом всему миру.
Собственно говоря, так оно и было и я не сильно заморачивался по поводу того, что на самом деле мотивирует человека совершать либо не совершать какие-то действия и что думает по поводу мотивации нейрофизиология. Только через какое-то время, пройдя сложный и тернистый путь, я осознал, что бизнес-тренер, который не опирается в своих учебных программах на последние достижения науки о мозге, мало чем отличается от балабола-политика, мотивирующего толпу посредством манипуляций на основе воссоздания образа счастливого будущего.
Тема мотивации оказалась значительно более сложной и многогранной. Владимир Герасичев был безусловно прав, когда утверждал, что с практической точки зрения искать для себя мотивацию в повседневной жизни – это абсолютно бестолковое занятие. Мотивация – это лишнее звено в цепи рассуждений и действий человека по достижению собственных целей. Для того чтобы тебе утром встать на 15 минут раньше и начать делать зарядку мотивация не нужна, нужен выбор. Для того, чтобы выучить иностранный язык, который тебе нравится и на котором ты хочешь разговаривать мотивация также не нужна, нужен выбор. Для того, чтобы отказаться от курения мотивация и здесь не нужна, нужен выбор, выбор того, что с сегодняшнего дня ты перестаёшь брать сигарету в зубы, поджигать её и затягиваться дымом. А сейчас, давайте попробуем разобраться какие именно нейрофизиологические механизмы лежат в основе того, как мы делаем либо не делаем тот или иной выбор и может ли этот выбор быть предопределён нашим мозгом.
ТРИ ТИПА МЫШЛЕНИЯ
Главное, что делает жизнь на этой планете нескучной – так это необычайная вариативность человеческого поведения. Все мы разные и все мы выглядим и ведём себя по-разному. Общество одинаковых людей в одинаковых одеждах с одинаковым менталитетом, мировоззрением и набором психических проявлений – вот что такое настоящая скука. Никакого эталона психической нормы не существует, все видят этот мир по-своему и, наверняка, среди ваших знакомых найдутся как занудливые, замкнутые в себе бубнилки-мечтатели, так и эксцентричные, требующие публики и восхищения позёры. И те и другие привносят в нашу жизнь прелестное разнообразие форм поведения, благодаря чему нам есть о чём поговорить с друзьями за столом и есть кого обсудить.
Но что именно делает наше поведение столь разнообразным? Как выяснилось, причудливое сочетание всего нескольких компонентов психики способно создавать невероятное богатство поведенческих форм и психических феноменов, наподобие тому, как сочетание всего четырёх азотистых оснований в спирали молекулы ДНК порождает всё многообразие биологических видов.
И дело не столько в причинах, предопределяющих особенности нашего характера и темперамента, сколько в психофизиологических предпосылках зарождения разных способов нашего реагирования на одни и те же ситуации. Именно эти особенности лежат в основе формирования разных подходов к процессу сборки мозгом сложных интеллектуальных объектов. Мы видим мир по-разному не только потому, что в нашем бессознательном одинаковые образы имеют различные взаимосвязи и эмоциональную нагрузку, но и потому, что при всех равных условиях и в одной и той же ситуации в основе поведения разных людей лежат совершенно разные мотивы.
Казалось бы, такие простые вещи, как реакция на прикосновение, болевой порог, потребность в объятиях – это какая-то мелочь, незначительные психические особенности. Но именно эти мелочи предопределяют тип нашего мышления и непосредственно влияют на наше поведение и судьбу.
Итак, существуют три базовых типа мышления, три способа сборки сложных интеллектуальных объектов и три подхода к анализу данных, поступающих из внешней среды на серверное пространство нашего мозга. Давайте на конкретных примерах разберём проявления и особенности формирования каждого из этих типов.
ЦЕНТРИСТ (НЕВРОТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛ)
Виктор Семёнович появился на свет прелестным крепким мальчуганом. Ему повезло родиться в семье инженера и служащей министерства юстиции, так что с младенчества он был обеспечен всем необходимым и был перевезён из роддома прямо в отдельную трёхкомнатную квартиру, одна из комнат которой была специально переоборудована под детскую. В то время и в том месте где родился Виктор Семёнович далеко не многие дети проживали в таких шикарных условиях. Но маленькому Витеньке было нужно совсем другое.
В силу некоторой, надо сказать, абсолютно нормальной физиологической особенности строения своего мозга маленький Витя весьма болезненно реагировал на уход матери из комнаты. Его бы больше устроила жизнь в общежитии, чтобы мама находилась всегда рядом. Присутствие матери его успокаивало и внушало чувство безопасности. Но нет! Мать то и дело отлучалась, то в ванную, то на кухню и, бывало, на целых 20 минут оставляла Витю в его кроватке, предоставленным самому себе.
Всё дело в том, что префронтальные области коры правого полушария мозга Вити были развиты несколько лучше, чем левого. Именно в правом полушарии рождаются отрицательные эмоции (страха, тревоги, печали), и ему же – правому полушарию, надлежит сыграть первую скрипку в развитии социализации Вити, по мере его взросления. Когда у Вити в полной мере сформируется дефолт-система мозга, ответственная в том числе за его социальные связи, то образы других людей из его внутренней стаи будут активно «подхватывать» из коры и подкорковых структур свою эмоциональную нагрузку. Витя обладал природной способностью хорошо идентифицировать чувства и эмоции другого человека, и для Вити было важно находиться в контакте с окружающими его людьми.
В силу этой особенности устройства своего мозга Витя расстраивался, когда оставался один. Центрист как никто другой нуждается в социуме, и остро ощущает эту потребность уже с младенчества. Именно благодаря такой маленькой специфичности работы мозга, когда Виктор Семёнович станет взрослым, он будет выбирать для себя занятия, связанные со взаимодействием с другими людьми и станет испытывать определённый дискомфорт, когда будет вынужден заниматься чем-либо в одиночестве.
Виктора Семёновича всегда окружают какие-то люди и, если их вдруг не оказывается рядом, он начинает им названивать и зазывать к себе, чем часто бывает недовольна его супруга Виолетта. Пригласить в пятницу вечером соседей в гости, а на выходные привезти на дачу друзей для Виктора Семёновича обычная история и дело не в том, что ему нужны зрители и аплодисменты и даже не в том, что он ощущает острую потребность в общении, как-раз таки долгие разговоры его напрягают. Просто, когда рядом есть кто-то ещё, кроме членов его семьи, Виктор Семёнович чувствует себя в безопасности и комфорте.
Но на формирование невротического радикала Вити и развитие его социальности повлиял ещё один физиологический фактор. С самого раннего возраста у каждого ребёнка проявляется его индивидуальная склонность к такой форме социального взаимодействия как объятия. Одни дети любят, чтобы их постоянно тискали и с удовольствием поддаются на обнимашки, а другие наоборот, сторонятся лишних физических контактов.
Маленький Витя постоянно испытывал потребность в объятиях со значимыми для него людьми. И понятное дело, что ребёнок, заинтересованный в том, чтобы его частенько обнимали и гладили будет весьма эмпатичен и сможет интуитивно угадывать чувства и настроение близких, чтобы заслужить их внимание и похвалу. Именно эта особенность предопределила формирование в нейронных сетях Виктора Семёновича целого каскада механизмов, обеспечивающих возможность реконструкции в пространстве его мышления точных образов других людей, а главное возможности реконструкции их чувств, мотивов и эмоций.


