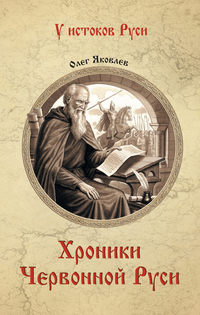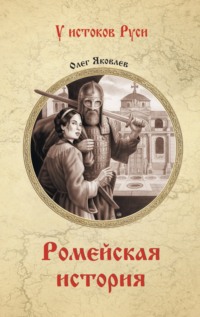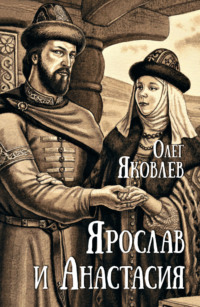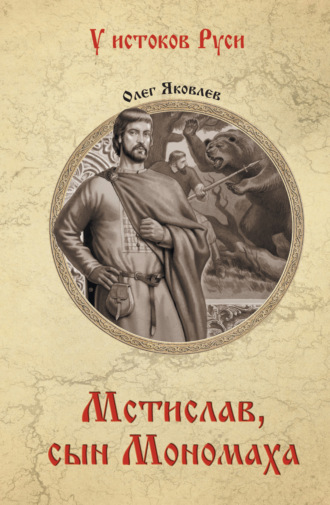
Полная версия
Мстислав, сын Мономаха
Высокий боярин в дорогом кафтане с золотой прошвой, перехваченном широким кожаным поясом, в тимовых сапогах с боднями[76], в парчовой шапке, с саблей в серебряных ножнах на боку поклонился князю, одетому ещё по-дорожному, в грубый вотол[77], и торжественно промолвил:
– Княже! Велено передать: завтра поутру ждёт тебя князь великий Святополк Изяславич в палатах своих. И бояр новгородских, и старост купеческих, и посланника от владыки такожде[78].
Мстислав с надменным видом выслушал боярина, согласно кивнул ему и коротко отрезал:
– Передай великому князю: завтра буду.
…Просторная горница освещена была десятками толстых восковых свечей. В углу, под образами, горела тонкая лампада. Мстислав, с трудом скрывая волнение, почти не смотрел на одетого в голубой зипун[79], важно восседающего в высоком, обитом парчой кресле Святополка. Взгляд молодого князя прикован был к иконе Спасителя. В жгучих чёрных очах Христа искал он поддержку, помощь, наставление.
«Помоги, Боже! Не погуби, не отдай Новгород на растерзанье хищнику! Уйми ярость его! Не допусти, Господи, раскола, разоров, крамол новых в земле Русской!» – молил Мстислав, в мыслях обращаясь к Богу.
Отвесив великому князю глубокие поклоны, бояре и старосты купеческих сотен, держащиеся солидно, с достоинством (как-никак послы от Великого Новгорода, не иначе), рассаживались на лавки за высоким и длинным дубовым столом.
Мстислав, не решаясь ни сесть, ни подойти ближе к Святополку, в каком-то нервном оцепенении застыл посреди горницы, судорожно сжав в руках отцову грамоту. Гюрята тихонько подтолкнул его в спину, и этого было достаточно, чтобы Мстислав встрепенулся, шагнул к Святополку и, протянув ему грамоту, осведомился:
– Звал, княже великий?
– Звал, – хищно, как ястреб на свою жертву, уставившись в лицо молодому князю, прохрипел Святополк.
Мстислава пронизала дрожь, когда грозно взглянули на него чёрные Святополковы очи, но он усилием воли заставил себя успокоиться и, стараясь придать голосу твёрдость, продолжил:
– Уговаривался ты, княже, с родителем моим о Новгороде прошлым летом. Ныне готов я передать тебе стол новгородский. Взамен же дай мне Владимир-Волынский. Вы с отцом моим, князем Владимиром, о том толковали.
– Лепо, Мстиславе. – Святополк затряс своей длинной седеющей бородой и улыбнулся. – Поезжай во Владимир. Волынь – край богатый, урожаи там каждое лето славные: пшеница родится, гречиха, ячмень. Люду много, ролья[80] велика. Доходы казне твоей, мыслю, немалые будут.
«Кабы доходы велики были, не отдал бы Волынь ни за что, собака! – подумал с ненавистью Мстислав. – Забыл сказать, что над полями теми лишь вороньё кружит да вместо живых людей кости всюду белеют!»
Мстислав сел на скамью, и тогда поднялся боярин Гюрята Рогович.
– Дозволь, князь Святополк, сказать тебе от всего новгородского люда, – молвил он. – Не хощем мы тебя, не хощем и сына твоего у себя иметь. Аще же две головы у твоего Ярославца, что ж, посылай его нам. Мы же сами себе князя вскормили. – Он указал в сторону опустившего голову смущённого Мстислава. – А ты ушёл из Новгорода. По своей воле, никто тебя не гнал.
В горнице воцарилось молчание. Обескураженный Святополк подался всем телом вперёд, не выдержал, вскочил с кресла, заходил по скрипящим половицам и, размахивая руками, гневно заговорил:
– Вольность почуяли, гляжу! Я вот вам задам! Погодите. Не возьмёте князя из моих рук, места живого от вашего града не оставлю! Ишь, осмелели! Али забыли ряд Ярославов?! Моему отцу Новгород даден был, моя се вотчина!
– А ты сам чего ж со своей вотчины ушёл? – прищурив око, спросил купеческий староста Иванко. – Видать, не по нраву град наш вольный. Мы тебя не звали, сам пришёл, сам и ушёл. А ныне князь у нас есть, люб он нам, иного не хощем.
– Зря грозишь, князь Святополк, – вмешался в беседу посланник владыки протоиерей Иоанн. – Погляди окрест. Поганые землю Русскую грабят, людей в полон уводят, сёла, нивы жгут. Зря прю[81] с нами затеваешь, напрасно с мечом на Новгород идти измыслил. И ты, и мы – христиане, помни се.
– В последний раз по-доброму прошу, – с угрозой изрёк Святополк. – Примите князя из моих рук. Ярославец мой – не последний в княжьем роду. Хоть летами он и моложе Мстислава, мыслю, вам по нраву будет. Сказываешь, Божий человек, с мечом я на Новгород идти измыслил. Ложь молвишь. Коли покоритесь воле моей, никто вас не тронет.
– Не будет в Новгороде иного князя, окромя Мстислава, – снова вступил в разговор Гюрята. – Новгородский люд так порешил, а Новгород, князь, – сила великая. Сам ведаешь.
– А ты, Мстиславе, что скажешь? – стиснув зубы, процедил Святополк. Лицо его передёрнулось от злобы.
– Я, стрый, слово своё уже здесь сказал, – тихо вымолвил Мстислав. – Готов езжать на Волынь, как ты и велишь.
– А мы тебя не пустим, княже! – перебил его Иванко. – Вот сейчас возьмём и уведём на своё подворье. Не о чем боле толковать.
– И верно, пойдём, княже. – Гюрята положил руку на Мстиславово плечо.
Мстислав встал, поклонился Святополку в пояс и, разведя руками, со слабой смущённой улыбкой сказал:
– Извини, стрый, что получилось так. Ведаешь ведь, лихой в Новгороде народ. Я и рад бы уступить, да не всё в воле моей.
– Ладно, ступай, – сокрушённо махнул рукой раздосадованный Святополк. – Тебя не виню ни в чём.
Мстислав почувствовал, что с души его словно упал камень.
Глава 10
В то время как Мстислав с новгородскими мужами пребывал у великого князя, гусляр Олекса, делать которому в Киеве было особо нечего, прогуливался по тенистым городским улочкам. Сначала он прошёлся по Бабьему Торжку[82], где царило оживление и под звуки дудок плясали потешные скоморохи в масках-скуратах, а затем, когда надоели ему шум и крики вокруг, направил стопы к Золотым воротам, за коими тянулись утлые хижины киевского предместья.
Золотые ворота поразили его своим великолепием. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, ослепительно сверкали под лучами солнца. Над аркой величественно возвышалась сложенная из розового кирпича надвратная башня. Кверху она немного сужалась, и на высоком её забороле виднелась такая же празднично-розовая нарядная церковенка с золотым куполом.
Олекса невольно остановился в нескольких десятках шагов от ворот, задрал голову и восхищённо уставился на эту так нежданно открывшуюся ему красоту. Он впервые был в стольном граде и никак не мог надивиться его строениям. Чувство было такое, будто попал он в некую сказку, – чем-то необычным, изумительным, неземным веяло от Киева, от его соборов, теремов, башен, словно город этот ближе, чем любой другой, был к Богу, к небесам, возвышался надо всем миром, но не надменно, не кичливо, а плавно, красиво, будто стелился над землёю, витал в воздухе – невесомый, прозрачный, полный ярких сочных красок.
У Золотых ворот, прислонившись спиной к каменной стене, сидел молодой гусляр в белой, перетянутой на поясе кожаным ремнём свите из грубого сукна. Его длинные, перехваченные на голове широким серебряным поясом русые волосы плавными волнами ниспадали на плечи, на лоб, почти полностью закрывали уши. Гусляр перебирал тонкими чувствительными перстами струны и тихо напевал грустную, незнакомую Олексе песнь. Затуманенный взор его зелёных очей устремлён был вдаль, и вряд ли молодой песнетворец замечал кого перед собой – весь он был во власти высокого полёта, наверное, очень далеко улетел в своих мыслях от земли, от Киева, от Золотых ворот, от деревянной скамейки, на которой сидел.
Олекса пристально вгляделся в лицо певца и, не в силах более сдерживать свой восторг, воскликнул:
– Ходына!
Гусляр вздрогнул, рука его замерла на струнах, он вскочил со скамьи, отложил гусли и бросился к Олексе с распростёртыми объятиями.
– Друже! Откуда ты здесь?! – удивлённо спрашивал Олекса. – Вот уж не думал тебя тут сыскать!
– А я, друг Олекса, уже проведал, что ты со князем Мстиславом в стольном. Хотел нынче же тебя навестить. Извини, не торопился. – Ходына с улыбкой тряс товарища за плечи. – Ибо сегодняшний день – самый счастливый в жизни моей! Сижу, понимаешь, тут с раннего утра, играю на гуслях невесть что, глупость всякую. Вдруг гляжу: чрез врата возок въезжает боярский, останавливается, а из него… Дух захватывает! Дева, будто ангел во плоти. Власы светлы, лик ясен, очи – будто каменья алмазные. Словами не передашь. У меня аж голос пропал, персты замерли. А ангел молвит: «Спой мне, гусляр, песнь славную». Ну уж я самое лучшее, что токмо выдумал, петь стал. Ещё Боянову песнь припомнил, спел. А она глядит на меня, видит, сколь очарован я, и улыбается. А улыбка… Нигде таковой не видывал, друг Олекса. Гривну златую дала мне. А рука её – аки молоко белое, аки снег, аки пушинка. Всю жизнь воспевать сию красу готов. Сижу вот теперь, песнь сочиняю. После у купца одного испросил, что за дева. Мария, дщерь боярина Иванко Чудинича. Боле, Олекса, ничего мне на свете не надобно. Сидеть бы под окнами терема её до скончания дней да песни слагать.
Олекса пожал в ответ плечами.
– Что есть краса людская? Всё бренно, Ходына. Всё на земле непрочно. Мы умрём, ничего от нас не останется. Лишь красота соборов, градов, икон – вечна. Поклоняйся ей.
– Молод ты ещё, Олекса, – вздохнул Ходына. – Я тебя постарше буду, брате, поболе в жизни повидал. Скажу одно: нет ничего на свете, что могу сравнить с красою той девы. Ты не видал её, потому и молвишь глупость. Всё меркнет – соборы, иконы, злато – пред её взором.
Ходына порывисто схватил гусли, ударил по струнам и пропел:
Нет на свете белом красы иной,Кроме той, что открылась мне.Обрету ли отныне покой яНа сей бренной земле?Очи твои подобны алмазам,Уста – будто свежесть весеннего утра,Голос – словно журчанье ручья,Волосы – будто колосья снега.– Ты – лучший певец во всей Руси! – воскликнул растроганный Олекса. – Кто ещё мог бы такое сложить?!
– Того уж нет в мире, Олекса. Боян – он песнетворец был великий.
– Приходи, Ходына, назавтра ко князю Мстиславу, – предложил Олекса. – Споёшь, князь наш песни любит.
– Нет, друже, не пойду ко Мстиславу. Ибо ведаю: у них, князей, своя правда, у нас, певцов, – своя. Погляди, Олекса, окрест. Уразумеешь многое. Народ страдает от крамол княжьих, а князьям – им дела нет до бед людских. Мать Мстиславова Бояна нашего до смерти запороть велела по навету Святополковому, князь Владимир спас. Спас, но прогнал Бояна с родной его Черниговщины. Маялся Боян, мыкался весь остаток дней своих по Ростовской земле, по Полоцкой, но нигде покоя не обретал. Такова, друже, княжья милость.
– Не знаешь ты князя Мстислава, Ходына. Он бы тебя приветил. Ну да как хошь. Силою ко князю не потащу. Скажи лучше, как дальше жить мыслишь?
– А вот как ныне. Сидеть да песни слагать. На что я ещё годен? – Ходына грустно усмехнулся. – Мыслил, в Угрию схожу, много там наших русичей на Дунае селится. Но теперь, как красу увидал неземную, никуда не тянет из Киева. Отныне куда она, туда и я.
Друзья направились в корчму в предместье Киева, до позднего вечера пили вино и услаждали слух людей песнями, затем Ходына остался там ночевать, а Олекса, успев проскочить через Золотые ворота, когда стража уже собиралась закрывать их на ночь, воротился на новгородское подворье. В голове его стоял туман, он никак не мог понять восхищения Ходыны красотой боярской дочери, ибо не ведал ещё любви – этого всепоглощающего чувства – и мечтал лишь о ратных подвигах.
Более увидеться с Ходыной Олексе не удалось. На следующий же день он с Мстиславом покинул Киев, и, как думалось ему, надолго, а может, и навсегда расстался со своим другом.
* * *Мстислав уезжал из Киева с радостью. Нет, не всесилен оказался Святополк, уступил он воле новгородцев, уступил ему, Мстиславу, стол. Все его угрозы, уговоры оказались тщетными, пустыми словами, он подчинился, он поддался чужой воле, чужой власти, чужому желанию.
Тем временем наступила и на юге Руси настоящая осень. Сыпались под ноги жёлтые листья, с тихим шелестом ложились на землю, одевали её в красочный осенний наряд. Кони медленно брели по широкому шляху, и Мстиславу казалось, что такая дорога будет вечной и вечным будет это ощущение радости.
Он даже временами спешивался и, держа коня за повод, шёл по шуршащей листве, глядя себе под ноги, не замечая вокруг никого: ни Олексы, ни протоиерея Иоанна, ни бояр, ни купцов, будто странник, одинокий странник, который отыскал, наконец, дорогу к земле обетованной. Земля обетованная для него, Мстислава, – это вершина, вершина недоступная пока, но он верил, что достигнет её, непременно достигнет, она уже где-то рядом, совсем недалеко, надо только идти к ней и не сворачивать в сторону. Вот уже виднеется впереди порог – порог власти, порог величия.
И Мстислав скоро ощутит себя как бы стоящим перед этим порогом, но ещё не могущим через него переступить. Ощущение это не будет покидать его долгие годы, и он будет то озаряться надеждой, то впадать в отчаяние при мысли о невозможности сделать хотя бы шаг дальше к вершине, но всё то будет позже, пока же он уже почувствовал в себе силу, власть, волю, но ещё не дал почувствовать эти свои новые обретённые качества другим, ещё не дошёл до того порога, откуда начинается подлинное величие, но уже подходил к нему с каждым шагом, с каждой минутой, подходил с радостным стуком в сердце, с трепетом в душе, с осознанием близости свершения своих сокровенных мечтаний, чаяний, устремлял взор вдаль, в будущее и проникался, наконец, верой в себя, в своё высокое предназначение на земле.
Глава 11
Туряк стоял бледный, мрачно исподлобья глядя на полное злобы лицо князя Святополка, кусал сухие уста и слушал сыпавшиеся на свою голову гневные слова:
– Почто не повелел ты Климе склонить новгородцев на мою сторону?! Почто, боярин, время зря терял?! Почто смуту, рознь в городе не посеял?! Али позабыл клятвы свои?! Позабыл, как делаются дела эти?! – упрекал его великий князь. – Се тебе не Василько, силён Мономахов сын, нечисть треклятая! Недоверок, птенец! Ничего, сверну ему шею!
– Княже, надобно было подождать с сим. Столь скоро большие дела не вершатся, – прорвался сквозь укоризны и гнев робкий голос Туряка. – А Клима, что он может? Много ли? Князь Мстислав с него очей не спускает. Видать, проведал что.
– Молчи! – огрызнулся Святополк. – И за то, что дела не сладил, убирайся прочь с очей моих! В Торческ воеводою поедешь, к хану Азгулую. Ну, ступай же! – Он в раздражении топнул ногой и указал на дверь. – Вон! Вон отсюда! И чтоб духу твоего в Киеве не было!
Туряк выскочил на лестницу, споткнулся о ступеньку, не удержался на ногах и полетел вниз, больно ударившись коленом о мраморный пол. Встав, он отряхнул пыль с кафтана и, хромая, не спеша направился во двор, к своему возку.
Боярин был близок к отчаянию. Теперь никогда уже не стать ему вторым человеком в Киеве, не подняться, не достигнуть величия, не стоять в соборе Софии на хорах рядом с княжеской семьёй, не глядеть с высоты на толпы людей. Его удел – Торческ, самое что ни на есть проклятое место на пограничной Роси, где живут одни полудикие торки, христиане на словах, язычники на деле. О Боже, смилуйся же над грешником!
Туряк был уверен, что знает главного виновника своих неудач. Боярин Гюрята – конечно, это он, лукавый, аки грек, вложил в Мстиславову голову мысли о непокорстве. Он и тут, в Киеве, спорил громче всех. И Туряк клялся, что отомстит за свой позор, что отсечёт Гюряте голову, что посадит его на кол, что заживо сожжёт! Остановив возок, он пересел на коня и, весь дрожа от гнева и ненависти, галопом понёсся вниз по Боричеву увозу на Подол, оттуда метнулся за город, к Красному двору, и целый день носился как бешеный вокруг Киева, стараясь унять ожесточение и досаду.
Вечером, усталый и понемногу успокоившийся, смирившийся с неудачей, Туряк возвращался назад на своё подворье, когда вдруг нагнала его около Михайловских ворот вереница всадников, ехавших с ловов. Всадники оживлённо и весело переговаривались друг с другом. Между ними показалось женское лицо, полное такой необыкновенной красоты, что у Туряка аж ёкнуло сердце. Будто сошла с иконы Алимпия[83] Богоматерь и явилась теперь его глазам.
Не в силах отвести от красавицы восторженный взор, Туряк остановил коня и застыл как вкопанный. Всадники не заметили его, занятые разговором, и только дева скользнула очами, серыми, лучистыми, по хмурому Турякову лицу. Но не задержались на нём эти очи – тотчас с улыбкой на устах перевела взгляд девушка на ехавшего рядом с нею темноволосого молодца.
Туряк спешился и долго смотрел вслед всадникам, затем огляделся по сторонам, приметил какого-то старого нищего с тощей котомкой за плечами, окликнул его и, швырнув туго набитый пенязями мешочек, сказал:
– Проведай, что за молодица проезжала. Коли завтра к утру о ней разузнаешь, придёшь на двор боярина Туряка. Втрое боле дам.
Нищий низко поклонился, подобрал мешочек и с подобострастием промолвил:
– Сделаем, боярин.
Поутру, когда на боярском подворье уже вовсю кипела работа – скрипели возы, рослые челядинцы укладывали в лари рухлядь, конюхи запрягали коней, – старик-нищий появился у ворот и велел пустить его к Туряку.
– Ну, что выведал? – с волнением спросил вышедший в сени облачённый ещё по-домашнему, в белую долгую льняную рубаху, Туряк.
– Девица сия – Мария, дочь Иванко Чудинича, боярина князя Ольга. С гриднями своими в Хрещатой балке охотилась.
Туряк резко вскинул голову, задумчиво сощурил глаза, затем неожиданно злобно усмехнулся.
Глава 12
В Городище Мстислава встретил посадник Павел. Широкий стан его облегало тёмное шёлковое платно, голову покрывала островерхая боярская шапка, синий лёгкий коц[84] развевался за плечами. Со слезами в глазах Павел заключил питомца в объятия, похлопал его по плечу и вымолвил:
– Молодцом, Мстиславе! Тако и надобно с ним, со Святополком. А то вовсе обнаглел, кровушки нашей испить измыслил. Не вышло.
Мстислав раздумчиво покачал головой.
– Чую, вуй, не отступится Святополк от Новгорода. Не вышло б которы великой, как на Волыни.
– Не выйдет, коли станешь родителя свово да меня поболе слушать.
– Слушать?! – внезапно вспылил Мстислав. – Да не столь млад я, чтоб нянчили меня! Свою голову на плечах имею!
– Ой, гляди не возгордись, Мстиславе, – хмурясь, изрёк Павел. – Гордыня до добра не доведёт.
– Правду баишь, вуй. Гордыня непомерная князю не к лицу, – быстро успокоившись, согласился Мстислав. – Об ином мыслил. Отец – далече, тебе вот тоже в Ладогу отъезжать скоро. Потому и княжить мне придётся без советов ваших.
– Се так, Мстиславе, – кивнул Павел. – Одно токмо скажу тебе: с бояр очей не спускай. Не позволяй, чтоб власть они над тобою имели. Всё лепо тогда будет.
– Да, вуй, – помолчав, откликнулся Мстислав. – Боярам послабленья не дам.
Перетолковав с посадником, князь прошёл в горницу и принял там своих тиунов, которые только вчера прибыли в Городище, закончив собирать дань в княжеских сёлах по берегам Ильмень-озера. Мстислав подробно расспросил тиунов, какова нынче дань, много ли пушнины, мёда, воска взяли они и не выражали ли людины[85] недовольства.
После Мстиславу пришлось снова сесть на коня и, невзирая на непогоду, отправиться в Новгород, на Гаральдов причал. Там на гостевом подворье ждали его германские купцы.
В этой поездке сопровождали князя несколько гридней и Олекса. Дорога шла вдоль берега Волхова, по опушке густого хвойного леса. Мстислав мечтательно глядел вдаль и даже не заметил, как на дорогу из чащи выбрел тощий сгорбленный старик, опирающийся на деревянный посох. Несмотря на холод, странник был одет в одну белую льняную рубаху, которая спускалась почти до пят, мешая ходьбе, и была перетянута на поясе верёвкой. Ноги старца обуты были в лапти. Густые его седые волосы, как и длинную косматую бороду, разметал сильный порывистый ветер.
– Кто ты? – остановил коня Олекса. – Куда бредёшь, старче? Я, Олекса, гусляр княжой, тебя вопрошаю.
На гусляра уставились два светло-серых бесхитростных глаза.
– Зовусь Добросветом, а иду на Вишеру-рецу[86].
– Подозрителен ты вельми[87], старче. Благодари Господа, князь наш тебя не заприметил. Стал бы выпытывать, что на дороге делаешь. – Олекса поднял голову и, видя, что Мстислав и гридни уехали далеко вперёд, спрыгнул с седла наземь. – Откудова будешь?
– С Перыни.
– Перынь? – Олекса насупил брови. – Село, что ль, такое? Не слыхал такого места. Где оно?
– Видать, не из здешних ты, гусляр, – рассмеялся, приоткрыв беззубый рот, Добросвет. – В Новом городе, почитай, любой скажет: Перынь – капище. В незапамятные времена ставлено. Про восемь негаснущих костров слыхал?
– Ересь се, поганство, – отрезал Олекса. – Не хощу и знать.
– А зря. Вот ты певцом назвался, а обычаев народных не ведаешь, верно. Боян и Ходына, великие песнетворцы, и то ко мне в Перынь приходили. Сказывал я им про старых богов, они внимали, а после вещими перстами своими по струнам ударяли. Лились тогда чудные песни по сёлам и градам, слёзы из очей людских вышибали. Так-то вот.
– Ты не волхв[88] ли будешь? – искоса глядя на старца, спросил гусляр.
Лицо Добросвета озарилось такой доброй улыбкой, что Олекса невольно смягчился и перестал хмуриться.
– Нет, гусляр, – молвил Добросвет. – Какой я волхв. Уж и окрещён был, и грамоте разумею. Токмо русич я. Как жить мне без сказов, без песен народных? Вот, сказываю, по молодости и пел, как ты. Нынче стар стал, персты уж непослушны.
– Что ж, уговорил, приеду к тебе в Перынь. Скажи, где капище се?
– Вёрст пять от Нова города будет. На пути к Ильменю. На том брегу Волхова, – охотно отозвался старец.
– Ну, прощай тогда, Добросвет. Свидимся, Бог даст. – Олекса вскочил обратно в седло, ударил боднями коня и помчался догонять Мстислава.
– Куда запропастился? – окинул гусляра недовольным колючим взглядом князь, когда, наконец, запыхавшийся от быстрой езды Олекса нагнал своих спутников.
– Да так, княже. Конь захромал, но потом ничего, прошло вроде.
Уже собирался было Олекса рассказать о встрече с Добросветом, но в последний миг стукнуло ему в голову: ни к чему ведать князю о старце. Вдруг разгневается, измыслит недоброе, велит посадить старика в поруб или ещё чего. Князья – они к старой вере нетерпимы.
…Новгород встретил Мстислава первым снегом. Кружились над землёю белые крупные хлопья, гонимые холодным осенним ветром, а когда ветер немного стихал, они ложились на опавшие листья берёз, осин, клёнов и таяли, образуя мутные грязные лужи, по которым ступали усталые кони. По небу плыли тяжёлые, словно налитые свинцом тёмно-серые тучи, простирающиеся до самого окоёма. Далеко в вышине парили немногочисленные птичьи стаи, то ли вороньи, то ли голубиные, – с земли птиц нельзя было различить, они казались маленькими, чёрными, беспрестанно двигающимися точками.
Зная нрав новгородцев, Мстислав надеялся на радостную встречу с пирами на неделю, восторженными речами, скоморошьими песнями, но в городе было спокойно и тихо. Горожане занимались каждый своим делом, и Мстиславу дали понять, что ничего, собственно, особого не произошло. Князь вернулся? А куда ж он денется, как ему не воротиться, если давно уже порешили градские старцы: быть ему в Новгороде.
Конь Мстислава не спеша семенил рысцой по крытым деревянными досками новгородским улочкам. Из-под копыт летели холодные водяные брызги, а за конём бежали и отчаянно лаяли дворовые собаки. От их звонкого лая молодому князю стало вдруг смешно. Надо ж, так ждал встречи с горожанами, хотел услыхать хвалу из их уст, а услыхал?! Лишь лай собачий!
…На Гаральдовом причале у ладей царило оживление. Здесь жители Новгорода выменивали у иноземных купцов мёд, меха, свечи на сукно, ценные ткани, изделия из серебра.
Мстислав остановил коня у гостевого подворья, где толпились германские торговые люди. Они поклонились князю до земли, а затем купеческий староста, высокий – на голову выше Мстислава, – полный и широкоплечий Альбрехт провёл его в свои покои, мрачные и тесные. В узкой и длинной палате, посреди которой на грубо сколоченном столе тускло мерцала одна-единственная свеча, стоял резкий запах вяленой рыбы. В высокой печи потрескивали горящие дрова. Свет осеннего дня с трудом пробивался в палату через затянутое бычьим пузырём маленькое оконце. Усадив Мстислава на покрытую сукном скамью, Альбрехт достал из обитого медью ларца грамоту с договором, загодя составленным вместе градскими старцами, посадником Павлом и германскими купцами, развернул её своими крепкими руками с толстыми пальцами, на каждом из которых сверкало по жуковине, и принялся читать:
– «Мир и дружба да будут отныне меж Новом-городом, Готским брегом и всеми германцами, кои ходят по Восходнему морю, ко взаимному удовольствию и той и другой стороны. А если, чего Боже избави, свершится в ссоре убийство, то за жизнь вольного человека платить 10 гривен серебра, пенязями или кунами, считая оных 2 гривны на одну гривну серебра…»