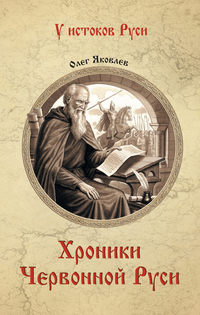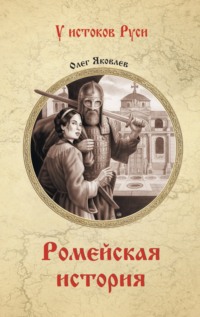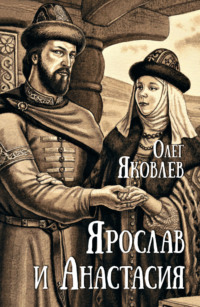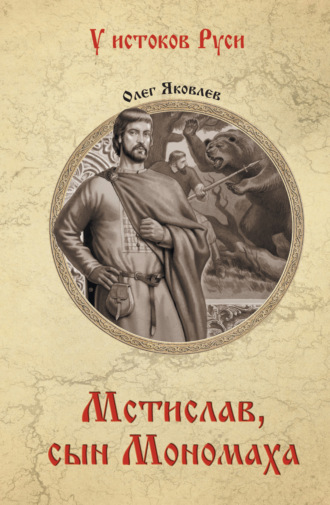
Полная версия
Мстислав, сын Мономаха
– А ты, Олекса, откудова Ходыну знаешь? – спросил Ставр.
– Пришёл он как-то к нам в Суздаль, стал песни слагать славные, вельми по нраву мне пришёлся. С той поры и я вот за гусли взялся, до того отцу в скудельнице[47] помогал.
– Где ныне Ходына? – сдвинув брови, спросил певца Мстислав. – Вельми хотелось бы послушать сего гусляра.
– В Киев подался он. А может, и не в Киев. Запутанные стёжки у судьбы, много дорог на Руси, – отозвался Олекса. – Не ведаю, жив ли Ходына, нет ли. Велика Русь, долго ль человеку на ней затеряться?
– Да, се верно, – согласно затряс седеющей головой посадник Павел.
Привал путники учинили вокруг костров на занесённом снегом берегу Ильменя. После полудня, когда из-за озера ударили прорвавшие пелену облаков яркие косые копья-лучи, они снова тронулись в путь.
Снег искрился и слепил глаза. По щекам текли прозрачные слёзы. Всадники, стянув рукавицы, вытирали их и то и дело подгоняли неповоротливых статных коней.
Мстислав неотрывно всматривался в даль. Казалось, вот-вот замаячат уже впереди избы и усадьбы многолюдного Сытина, проплывёт перед глазами белокаменная церковь Спаса с высоченной, словно пронизывающей небо колокольней, но нет – всё тянулась по левую руку нескончаемая стена зелёного хвойного леса, а справа блестел голубой чистый ильменский лёд. И Мстислав ощутил себя неким странником-скитальцем, всё бредущим куда-то в неведомую даль, ждущим с нетерпением, когда же достигнет он желанной обетованной земли, но земля эта, которая, кажется, мелькнёт уже сейчас за поворотом дороги, на самом деле простирается где-то за тысячи, десятки тысяч вёрст, и удел странника – брести, брести без конца, покуда хватит сил.
Человеческая жизнь тоже напоминает скитание: всё идёшь, идёшь, не ведая, куда и зачем, и не можешь остановиться, застыть хотя бы на миг, оглянуться, посмотреть, окинуть взором пройденные вёрсты, ибо создан человек так, что глядит в будущее, устремляется вперёд, а то, что осталось позади, часто предаётся забвению. Спотыкаешься, совершаешь ошибки, каешься, истираешь обувь, ранишь ноги об острые камни – и всё равно идёшь дальше, упрямо, стиснув зубы, превозмогая слабости, боль, страх, отчаяние.
Ничего в жизни не даётся даром, через всё надо пройти: через стремительные реки, через поля, горы, леса, через радости, ожидания, потери близких, смерти, пожарища, потопы.
Труден путь людской на земле, а тем более трудна княжья доля – вечная борьба за власть, за возвышение, бесконечные походы, войны. В любой миг может настигнуть тебя или неприятельская стрела в грудь, или предательский удар ножа в спину, или внезапная отрава, или змеиный укус, как Олега Вещего.
…Сытино появилось как-то неожиданно, будто упало с неба или поднялось из недр земли, но Мстиславу почему-то теперь стало всё равно, близко ли оно, далеко ли, – совсем в иную сторону ушёл он в своих мыслях, словно взлетел на небеса и с великой неохотой вынужден был сейчас спускаться на землю, чтобы заняться обыденными княжескими делами.
– Слава князю Мстиславу Владимировичу! – неслись отовсюду приветственные крики.
Вокруг Мстислава и его спутников мелькали полные непритворной радости лица, красивые и безобразные. И князю подумалось: так ли уж плох здешний люд, как представлялось ему? Может, зря недолюбливает он этих горлохватов? Да, они шумны, буйны в гневе, необузданны, привыкли к вольности, но всё же как-то ближе ему, нежели по-ромейски льстивые хитрецы, коих собрал окрест себя в Киеве стрый Святополк.
И Мстислав впервые, наверное, искренне улыбнулся этим людям, столь непосредственно выражающим свои чувства, с лица его сошёл ледяной холод, и на душе как будто потеплело от этих улыбок, этих радостных криков.
В просторном, выложенном из камня тереме ожидала князя Христина с двумя маленькими, одетыми в нарядные суконные платьица дочерьми. Рядом с нею на руках кормилицы, молодой светлоглазой чудинки, тихонько попискивал новорождённый. У Мстислава дрогнуло сердце. Сын, первенец.
«Нет, никому не отдам Новгорода. Пусть мои дети, внуки здесь сидят, – пронеслось у него в голове. – Братьев родных и тех не пущу сюда».
Князь взял ребёнка на руки, подержал его, покачал, с улыбкой глянул на розовый ротик младенца. Вернув его кормилице, раздал подарки дочерям. Мальфрид подарил вырезанную из дерева искусными руками новгородского умельца большую матрёшку, а Ингеборг – игрушечного деревянного коника с густой гривой. Довольные девочки говорили с отцом по-свейски, этому языку их научила мать. Мстислав хмурил брови и укоризненно посматривал на Христину. Как-никак живут дщери на Руси, пора бы им разуметь и по-русски.
…Сына назвали Всеволодом в честь прадеда – великого князя Всеволода Ярославича. Впрочем, не так уж и знаменит был этот князь, прославили же его летописцы за то, что умел говорить, читать и писать на пяти языках. Давая младенцу имя, Мстислав вовсе не думал о своём деде, просто нравилось ему – «Всеволод», что означает: «Всем володеть». Имя как бы предвосхищало судьбу младенца – надлежало ему в грядущем княжить на этой бескрайней земле, управлять этими вольнолюбивыми непокорными людьми.
При крещении в Новгородской Софии Всеволод получил второе имя – Гавриил в честь архангела Гавриила. Вроде бы ничего необычного, любой княжеский отпрыск в ту пору имел, помимо родового славянского, второе имя, которое давалось ему в честь какого-нибудь святого, апостола или архангела. Но был в крестильном имени новорождённого скрыт тайный смысл, о котором ведал Мстислав и о котором, конечно, не могли не догадаться в Киеве. Всем ведь известно было, что крестильное имя Святополка – Михаил, и имя это получил великий князь в честь архангела Михаила, небесного архистратига, покровителя ратной славы и ангела-хранителя всех христиан, в том числе и князей. Этот архангел, как сказано было в Святом Писании, обучил людей хлебопашеству, скотоводству и ремёслам. Лик архистратига Михаила изображён был и на щитах великокняжеской дружины, и на гербе Киева. Но если патроном Святополка, его защитником на земле был архистратиг Михаил, то охранителем маленького Мстиславова сына стал отныне тоже почитаемый в христианском мире архангел Гавриил, который явился пред Девой Марией и оповестил её о грядущем рождении Христа.
Михаил – Гавриил! Киев – Новгород! Уж, наверное, произнесёт Святополк (про себя ли, вслух ли при боярах) эти имена и названия городов, произнесёт и, скривив уста от злости, с высокомерием подумает: с кем тягаться, с кем состязаться в славе, в величии вознамерился сей мальчишка Мстислав?! Ужель измыслит идти наперекор ему, всесильному киевскому князю, посмеет не подчиниться его воле?!
Но нет, знал Мстислав, что делает. Знал и шёл к своей цели, располагал к себе и купцов, и ремественников, и бояр, и клир. Снова, как и в дни праздников, как и в день своей свадьбы, вносил он вклады в церкви, раздавал милостыню убогим, не скупился, угощал простой народ. Сыпались повсюду золотые и серебряные монеты, рекой лилось вино, ломились от яств столы. Новгород ликовал, Новгород чувствовал свою силу, Новгород радовался, откровенно радовался своей вольности, своему величию; словно могучий богатырь-силач, играл железными мышцами, готовясь к бою – бою с другим силачом, силачом великим, но уставшим от яростных нескончаемых схваток, уже теряющим свои силы, но ещё далеко не обессиленным, ещё могучим и могущим многое.
Глава 3
Поздним вечером в дверь дома боярина Климы раздался негромкий стук. Слуги отперли тяжёлые замки, отомкнули засовы, и в сени вошёл высокий смуглый человек лет тридцати пяти с тонкими усами, загнутыми вниз и спускающимися до подбородка, чуть раскосыми глазами – наверное, в числе предков его были жители степей, – и без бороды. На шее незваного гостя, худой и непомерно длинной, резко выдавался острый кадык. Одет пришелец был в довольно скромный дорожный тулуп, кафтан из простого сукна, обычные поршни[48] без всякого узора и шапку из заячьего меха. Единственное, что бросалось в глаза – на каждом пальце незнакомца сверкали золотые перстни с драгоценными каменьями. На поясе его висела сабля, рукоять которой украшал большой, величиной почти с голубиное яйцо, кроваво-красный рубин.
Зайдя в дом, гость, как и полагалось, осенил себя крестом, после чего потребовал немедля позвать боярина.
Клима уже лёг было спать, когда ему внезапно доложили о приходе этого странного человека. Взяв в руку толстую свечу, он поспешил в сени, недоумевая, кто это пришёл вдруг к нему в столь поздний час.
Увидев нежданного гостя, Клима с тревогой вопросительно воззрился на него.
– Гляжу, Клима, обосновался ты здесь крепко, – промолвил пришелец, кривя уста в полной презрения ядовитой усмешке.
– Что за глас знакомый? – пробормотал Клима, хмуря чело. – Где слыхал? Ужель…
Он вскинул голову, вздрогнул, испуганно вскрикнул и едва не выронил из десницы свечу.
– Не признал меня, друже. Обижаешь, хозяин. Ведь дружки мы с тобою были – не разлей вода. Помнишь поход на ляхов? А ослепленье Василька Ростиславича? Да, славно послужили мы нашему князю, свет-Давид Игоревичу. Так славно, что я ныне в Киеве обретаюсь, а ты аж до Новгорода добежал, – глухо рассмеялся гость.
– Туряк? – всё ещё не веря своим глазам и ушам, спросил Клима. – Господи, да как же… Как ты здесь? Уж я мыслил, тебя и в живых-то нету.
– Хватит, боярин! – резко, властным голосом перебил Климу Туряк. – В горницу веди, нечего в сенях торчать!
– Что ж, пойдём, пойдём. – Клима жестом пригласил гостя следовать за собой.
Развалившись на обитой бархатом скамье у стены, Туряк снова рассмеялся и с издёвкой заметил:
– Гляжу я, слаб памятью стал ты, Клима. Помнишь тот совет во Владимире у князя Давида Игоревича? Ростиславичи обступили тогда город со всех сторон, и Володарь велел нашему князю выдать тех, кто сговаривал ослепить Василька. Боярский совет был, и старцы назвали меня, Василия и Лазаря. Ведаю, как ты меня чернил. Зато никто не прознал, что ты, ты первым мысль об ослеплении подал! А уж потом мы с Лазарем да Васильем ко князю Давиду ходили. Али позабыл? Позабыл, как трясся за свою шкуру на том совете, как меня, друга своего, предать измыслил?! Иуда! – Туряк внезапно вскочил со скамьи, схватил Климу за грудки и притянул к себе. – Василий и Лазарь ни при чём были, а их покарали, выдали Володарю, и он повесить их велел на древе и стрелами калёными расстрелять. Меня же князь Давид спас. Упредил вовремя, коней дал, за то спаси его Бог. А ты, ты бы отдал меня Володарю, отдал бы!
Он с отвращением швырнул Климу на пол. Маленький боярин поднялся, отряхнулся и, с опаской глядя на разгневанного Туряка, быстро, скороговоркой заговорил:
– Напрасно обиду держишь. Князя Давида я тогда надоумил коней тебе дать. Иначе не миновал бы ты погибели. А сам я в то же лето в Новгород бежал, се верно. Подале от Ростиславичей, от войн. Служу с той поры князю Мстиславу.
– Ну и дурак, что служишь! – презрительно осклабился Туряк. – А я вот теперь Святополков боярин. Привет тебе шлют великий князь и тысяцкий[49] Путята.
– Так ты что ж, прямо из Киева, что ль?
– Из него самого. Но о сём – никому ни слова. Скажешь – убью! – Туряк угрожающе положил руку на эфес сабли. – А теперь слушай. Мстиславка слишком много о себе возомнил. В Новгороде засел, будто у себя дома. А Новгород меж тем – князя Святополка вотчина. Его отец сей землёю володел, Мстиславку же великим лукавством Мономах сюда посадил.
– Не уразумел, к чему клонишь, – удивлённо приподнял брови Клима.
– А ты помысли. Мстиславке довольно в Новгороде сидеть. Ты – боярин, у тебя своих людей здесь много. Учини в городе смуту. Чтоб толпа на толпу. С убиеньем пущай даже. Хоть и грех се, зато от большего греха люд убережём. А после пущай рекут людишки твои, будто смута вся сия от Мстиславки идёт, будто его тиуны[50] народ грабят, разор повсюду чинят, людинов кабалят. Вот, мол, аще б князь Святополк своего сына нам дал, то зажили б по-иному совсем. Уразумел?
– Не, Туряк, не будет тако. Я – своему князю служу, ты – своему. И на том… – начал было Клима, но Туряк, снова злобно осклабившись, перебил его.
– А не содеешь, как велено, – грозно изрёк он, – все узнают об ослеплении Василька правду! И ромеем тем не отбрехаешься! Князь Мстислав – не дурак, выдаст тебя Ростиславичам. Суд над тобой учинят, очи выжгут, в поруб засадят, будешь гнить там до скончания дней! Подумай, Клима, крепко подумай.
Он круто повернулся и, не глядя более на хозяина, вышел из горницы.
Глава 4
Не спалось в безлунную тёмную ночь боярину Климе. Как уж, вертелся он с боку на бок под тёплым беличьим одеялом. То прошибал пот, становилось нестерпимо жарко, то предательской змейкой пронизывал всё тело холод. И мысли лезли на ум какие-то дикие, леденящие душу. Забылся, наконец, боярин беспокойным сном, но вдруг выплыло перед его глазами как наяву окровавленное страшное лицо князя Василька. Пустые глазницы, превратившиеся в гнойные язвы, запёкшаяся кровь под бровями, шрам через щеку – Клима отчаянно закричал и… проснулся, переводя дыхание. Кружка холодного кваса понемногу привела его в чувство. Отдышавшись, боярин снова лёг. Но нет, никак не шёл к нему сон, душу наполняли, вспыхивая багряными сполохами, воспоминания. Позабытые за чередой лет события мчались перед ним стремительным потоком, так ясно, будто были вчера.
…Совсем молодым привела судьба Климу во Владимир-Волынский. В ту пору сидел там на княжении Давид Игоревич, двоюродный брат отца Мстислава, князя Владимира Мономаха. Оборотист и пронырлив был Клима, быстро сумел он войти ко князю в доверие. Во многом помог ему Туряк – один из ближних к Давиду волынских бояр. Был Туряк правою рукою князя, ходила о нём в народе недобрая лихая молва – из-за лесных угодий за речкой Турьей погубил он своего соседа, старого боярина.
Сперва Клима сторонился Туряка, но, видя, как тот тянется к нему, отбросил скрытность и недоверие. Вместе скупали они через подставных людишек поступающую из Галича соль и продавали её затем втридорога. В великом числе текли им в руки резаны и ногаты[51], сребреники и златники[52]. И всё бы хорошо, ежели бы не бесконечные которы и свары на Волыни. То напакостят угры, то ляхи пожгут сёла и городки, то налетят свирепые половецкие орды. Да и сами князья готовы были перегрызть друг дружке глотку.
В лето 1097 от Рождества Христова вместе с князем Давидом Туряк и Клима поехали в Любеч на княжеский снем[53]. Там после долгих споров князья целовали крест, клялись в мире и говорили: «Каждый отныне да держе вотчину свою». Это означало, что Владимир-Волынский оставался за Давидом Игоревичем, а Перемышль, Теребовля и Галич – за Ростиславичами, братьями Васильком и Володарем.
Довольные возвращались князья в свои терема. Со спокойной душой ехал из Любеча и Клима: раз не будет новых ратей, вырастут его и без того немалые прибытки.
Неприметный во время снема ромейский патриций как-то тихонько протиснулся в свиту князя Давида. А может, и не ромей то был вовсе, а переодетый в греческие одежды какой боярский слуга.
– Разговор есть, боярин, – чуть слышно шепнул он на ухо Климе.
Они уединились на задворках постоялого двора, где князь и дружина остановились по пути.
– Второй год я в вашей земле, – говорил патриций, кутаясь в длинную хламиду[54]. – И вижу везде обман и предательство. Не хватает вам, русам, твёрдости духа. Вот как у нас – изменникам выжигают глаза. На площади, прилюдно, чтобы другим было неповадно. Пусть ваши князья берут пример с наших базилевсов[55], или хотя бы с Коломана, короля угров. Он велел ослепить родного брата, зато в державе его мир и покой.
Слушая вкрадчивую неторопливую речь ромея, Клима не на шутку встревожился и насторожился. Он знал: ни единого слова не скажет зря лукавый патриций.
– Отныне мир будет и на Руси. Роту[56] дали князи, крест святой целовали, – супясь, неуверенно возразил он.
Ромей громко, от души рассмеялся.
– И ты веришь клятвам? Веришь крестному целованию? Не ожидал от тебя такой слепоты, боярин.
– Что же, думаешь, порушат роту?
– Уже порушили, боярин. Знаю я: сговорились заранее князь Владимир и князь Василько. Хотят выгнать князя Святополка из Киева, а твоего князя Давида с Волыни.
– Откуда услыхал такое?! Ложь се! – воскликнул поражённый Клима.
– Хочешь – верь, хочешь – не верь, – с равнодушным видом пожал плечами патриций. – Моё дело – предупредить. Не внемлешь – вспомнишь меня после, когда Василько на твою соль длань наложит.
На том разговор и кончился. Ромей встал и быстро исчез, а Клима с той поры лишился всякого покоя. Как только выпал случай, рассказал он о слышанном Туряку, Туряк ещё с двумя боярами тотчас помчался упредить князя Давида, и пошло-поехало, быстро взросло посеянное хитрым ромеем ядовитое злое семя.
Клима вздохнул и попытался отогнать тяжёлые воспоминания, но они упрямо ползли в голову.
…Князь Давид сговорился со Святополком, они захватили обманом Василька, заключили его в оковы, а после великий князь, посовещавшись с дружиной и боярами, отдал пленника в руки Давида.
Об остальном Клима знал понаслышке. В Белгороде подручные Давида, конюхи Дмитр и Сновид, набросились в горнице на Василька, прижали его печной доской к полу, а торчин[57] Беренди острым ножом вырезал ему оба глаза. Первый удар Беренди пришёлся по щеке, и с той поры зияет на обезображенном лице Василька глубокий шрам.
Многострадального слепца Клима увидел уже во Владимире. На всю жизнь запомнилось боярину страшное изуродованное лицо несчастного князя, ставшего жертвой клеветы и обмана.
Частенько после этого мучили по ночам Климу кошмары. Когда же бежал он в Новгород, обустроился, обжился здесь, то испытал немалое облегчение. Вроде стало забываться прежнее, спокойно, тихо жилось ему на новом месте. Но вот явился, словно из преисподней, проклятый Туряк и разбередил ему душу. Что теперь делать? Как быть?
Утром невыспавшийся, с красными от бессонницы веками, Клима приказал привести к себе пойманных в прошлую седьмицу[58] на Торгу двоих беглых холопов.
– Ступайте на торжище, кричите супротив Мстислава, за Святополка! И на Софийскую сторону тож! Драки чините! Коли содеете, как говорю, свободу получите! Коли нет – ни пенязя за головы ваши не дам! Аще споймают, реките – боярина Гюряты вы люди! Пущай на него думают. Уразумели?! А я уж вас вытащу как ни то. Мне князь не откажет!
Холопы молча переглянулись и поклонились Климе до земли.
Глава 5
Киев тонул в синей предрассветной мгле. Понемногу небо начинало светлеть, и вдали стали видны тёмные очертания трёх гор: Киянки, Щековицы и Лысой, что, словно крепостная стена, окаймляли стольный град с запада.
Туряк спешился, расправил плечи и устало потянулся. Спина его ныла от долгой и утомительной езды. Далёк путь из Новгорода. Остановишься на постоялом дворе, покормишь овсом коней, отдохнёшь немного – и снова в путь. Туряк торопился, со рвением гнал скакунов по заснеженным дорогам, некогда было ему рассиживаться на постоялых дворах – важные вести вёз он своему другу и приспешнику, киевскому тысяцкому Путяте. Теперь же, при виде стольного града, хотелось поскорее добраться до своих палат, плюнуть на всех и вся и завалиться спать. Но дела – дела гнали Туряка к дому Путяты.
Сперва, как водится, боярин помолился Господу в соборе Софии, поставил свечку Всевышнему за то, что оберёг его в пути от разбойников, от болезней и прочих напастей, а после, не мешкая, направил стопы в хоромы тысяцкого.
…Путята Вышатич, рослый, полный, большеглазый, с широкой седеющей бородой муж лет шестидесяти – шестидесяти пяти, троекратно облобызал дружка, хлопнул его по плечу и с довольной улыбкой приветливо вымолвил:
– По очам вижу, вести не худые привёз с Нова города. Голоден, верно, устал с дороги. Сей же час велю стол накрывать, мёдом тебя угощу, олом[59], брашном[60] добрым.
– Весть у меня одна, Путята, – сказал Туряк. – Разыскал я в Новгороде такого человека, что предан мне, яко пёс. Грех на душе его. И аще он супротив нас чего содеет, грех тот откроется.
– Кто ж сей человек? – нетерпеливо спросил Путята.
– Больно скор, боярин, – покачал головой Туряк. – Сказать тебе не могу. Вот предстану пред князем, скажу.
Путята обиженно нахмурился.
– Я, друже, тайн от тебя николи[61] не держал. Разумел, и ты от меня ничего не утаишь.
– Да что ты, Путята! Какие такие тайны?! Просто столь важно се, что князя надобно оповестить.
– Дак скажи мне, я князя и оповещу. – Тысяцкий удивлённо пожал плечами.
– Самому мне сподручней будет, – возразил Туряк. – А пир отложим на время. Поедем сперва ко князю.
– Ну что ж. Будь по-твоему. – Путята развёл руками. – Тотчас велю коней запрягать.
…Великий князь киевский Святополк с младых лет отличался непомерной скупостью. Блеск золота, серебра, драгоценных вещей жёг и отравлял ему разум; любая, даже самая ничтожная потеря подымала в душе его бурю негодования и злобы. Зато как радовали его тяжёлые, окованные медью лари, упрятанные в подземельях терема, доверху наполненные сверкающими жемчужинами и звонкими монетами!
И не думалось никогда Святополку, что из-за чрезмерной скупости своей и алчности вызывал он тайные насмешки и тайную же ненависть. Сколько раз скупость и жадность мешали ему обрести друзей, соузников, сколько совершил он ошибок, попадаясь, в неотступной своей жажде лёгкой наживы, как рыба, в хитроумно расставленные врагами сети! Да и на киевский «злат стол» взлез он только благодаря сумасшедшей удаче, ибо оказался, неожиданно даже для самого себя старшим в разветвлённом княжеском роду.
Со Святополком жила с недавних пор родная его сестра Евдокия Изяславна, злая жестокая женщина, рано овдовевшая, не вкусившая толком радостей в жизни и потому ненавидящая всех на свете, кроме одного своего старшего брата, который – надо же – вспомнил о ней, позвал, поселил у себя под боком. В молодости выдана была Изяславна за Мешко, сына польского короля Болеслава Смелого, но едва сыграна была свадьба, едва провели супруги первую брачную ночь, как муж Евдокии внезапно умер – он был отравлен лукавыми ляшскими боярами. Сам король Болеслав ещё раньше бежал из Кракова и закончил свои дни в глухом монастыре в Каринтии. Власть в Польше перешла в руки его брата, князя Владислава Германа, который во всём слушался одного только ненавистного и народу, и молодой вдове воеводу Сецеха.
Все эти удары судьбы Изяславна перенесла стоически, но стала зла, груба, жестока к людям, злобу держала в сердце долгие годы и приехала с нею, наконец, в Киев, под крылышко ставшего к тому времени великим князем Святополка. Сестра оказалась под стать брату – тоже отличалась жадностью, любила дорогие вещи, но, в отличие от Святополка, не прятала золото в сундуки, а напяливала на себя ожерелья, гривны, браслеты, серьги, перстни, выставляла своё золото напоказ, рядилась в дорогие ромейские одежды, становилась похожей на куклу.
Брат и сестра остались в живых единственные из Изяславичей и потому друг друга держались, друг другу во всём помогали, друг с другом делились самым сокровенным. Зная, сколь часто советуется великий князь с сестрой в важных державных делах, многие бояре сватали стареющую Изяславну за своих сыновей, но неизменно получали от гордой надменной княжны решительный отказ.
Туряка смешили жалкие попытки спесивых бояр расположить к себе Евдокию. Не словами, не знатностью – верной службой лишь могли они доказать, что достойны руки великокняжеской сестры. Но только ли службой? Как-то постепенно, но с каждым годом всё настойчивее пополз по стольному граду слух, будто род свой ведёт боярин Туряк от Тура, князя племени дреговичей, который, согласно летописной легенде, основал город Туров. И стало быть, происходит Туряк не от каких-то там торков, он – прямой потомок древнего князя, и кому, как не ему, породниться с Изяславовым родом. Впрочем, сам Туряк поначалу о таком и не думал, просто хотел он, чтоб знали о его якобы высоком происхождении. Втайне надеялся, что пошлёт его Святополк воеводою в город Туров – вот там бы уж он развернулся, показал свою силу, власть, волю. Но для этого надо было сперва доказать свою преданность великому князю, иначе – знал Туряк – заподозрит Святополк неладное, подумает: метит Туряк на его земли, посягает на его добро, готовит мятеж – не случайно говорят в народе о Туре. Сам не додумается князь, бояре подскажут, помогут, вложат в уши ему коварный навет.
Вот поэтому-то и стал Туряк столь ревностно служить Святополку. Тогда и понял: если женит его князь на своей сестре, то за ней – как за крепостной стеной, никто перстом не тронет. Иначе – положение его шаткое, непрочное, в любой день могут отыскаться завистники, готовые обвинить его в измене. Тут одно из двух: либо стать вторым человеком в Киеве после князя, либо голову положить на плаху или, в лучшем случае, лишиться всего своего достояния. Иного для Туряка теперь пожалуй что и не было.