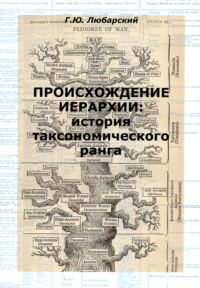Полная версия
Образование будущего. Университетский миф и структура мнений об образовании XXI века
Мюнхгаузен придумал социальный институт удивительной формы, это получилось у него в силу уникальных политических обстоятельств. Курфюрст Ганновера Георг I в 1714 г. стал королём Великобритании. Это былаличная уния, связавшая два эти государства – великую державу и небольшое курфюршество. Зато у курфюршества появились деньги, благодаря доступу к британской казне можно было щедро оплачивать университет. В университете учились английские принцы, многие знатные особы пытались пристроить в университет своих детей. В результате получился очень престижный и богатый университет. Профессора, получая щедрую плату, не жалели об утраченной хозяйственной автономии университета, чиновники курфюршества почтительно не вмешивались в дела королевского детища, замечательного университета. Мюнхгаузен создал химеру, скрестил эти две половинки, университет и государство, создав социальный институт оригинальной породы, и смело поехал вперёд.
А сейчас разумно сильнее интегрировать университет с государством? Такие опыты проделывались много раз, и результат был неутешительный. Кажется, Мюнхгаузену в его селекции социоматов помогло ещё одно обстоятельство, кроме доступа к казначейству Великобритании. Ганновер был маленьким курфюршеством, маленьким государством.
Существует пропорция между долей государственного влияния в обустройстве университета и размером государства. Чем меньше государство, тем больше возможная его доля в управлении университетом. Чем меньше государство, в котором находится университет, тем большей долей автономии университет может пожертвовать, сохраняя плодотворность. В большом государстве с сильной бюрократией и тенденцией к унификации, университет должен, напротив, сохранять больше автономии, иначе его задушат параграфами единого управления. Причина проста – университет является организацией из сферы культуры, а не из сферы права и власти. Управление, привычное для государственной сферы, его губит. В маленьком государстве, где эти властные влияния слабы, университет может сохраниться в качестве культурного центра, особенно если находятся люди, стремящиеся ему в этом помочь и усмиряющие поползновения власти.
То есть в маленьком государстве личное влияние того или иного покровителя может снять пагубное влияние, исходящее из сферы государства – ненужный контроль, унификацию, бюрократизацию. В большом государстве силы унификации неизмеримо сильнее, и университет, если не может вырваться из-под власти государства, превращается просто в ещё одно «управление», быстро теряя свою культурную и образовательную значимость. В пределе, государство авторитарное или тоталитарное должно для вменяемого развития иметь почти полностью автономные университеты, а вот небольшие государства со «слабой» властью могут иметь почти полностью государственные университеты.
Как уже говорилось, наука Нового времени зародилась вне университетов, средневековые университеты не приняли нового формата получения знания – они были слишком ригидными, слишком устоявшимися. Они зарабатывали деньги привычными образовательными программами – зачем им было рисковать, принимаясь реализовывать непроверенные философские рассуждения? Университет был корпорацией профессоров, связанных родственными отношениями, управление финансами и хозяйством тоже было делом корпорации профессоров, в результате из года в год и из века в век преподавание не слишком менялось, возможности внести нечто новое в университетские привычки были невелики.
История о том, как университеты смогли превозмочь свою погружённость в экономическую сферу, избавиться от представления о преподавании как об оплачиваемой услуге, смогли встать во главе научного движения, стать истинно научным социальным институтом, – это и есть история модернизации университета, один из первых шагов в которой сделал Мюнхгаузен. Это изменение строения университетов и их роли в обществе произошло в связи со становлением абсолютизма в немецких княжествах и королевствах. Государство желало получить людей (государственных служащих) и славу: образованные чиновники лучше служили делам государства, слава университета привлекала учащихся в данное государство. Благодаря заинтересованности государства старинная университетская корпорация стала приобретать новые черты.
Мюнхгаузен лично подбирал кадры, приглашал знаменитых профессоров на кафедры университета. Он действовал вне личных связей и обязательств профессорской корпорации, приглашал лучших учёных в данной области. Их привлекала свобода исследований, благосклонность монарха и куратора, богатая библиотека, замечательное лабораторное оборудование и хороший заработок. Тем самым Мюнхгаузен первым создал уникальный для немецкой культурной жизни синтез: соединил центр культурной жизни (университет) и государство, причём именно таким образом, что университет был подчинён государству. Сделано это было деликатно, государство не вмешивалось в дела учёных, однако именно чиновники утверждали профессоров на кафедрах, отпускали университету средства и т. п. Профессора были освобождены от хозяйственных забот, не они теперь решали, чей племянник должен наследовать такую-то кафедру – им оставалась научная работа и преподавательские труды. Политика веротерпимости имела продолжение: в Гёттингенском университете «главным» был не богословский факультет, как почти во всех средневековых университетах, а философский факультет, по-старому говоря – факультет приготовишек, первые курсы.
Вслед за славой Университета в Галле вспыхнула слава Гёттингена. Возник особенный «дух университета», любовь к alma mater. Гёттингенцы и через многие годы с удовольствием вспоминали годы учения и готовы были по мере сил помогать родному университету. Между выпускниками возникали дружеские и научные связи, они были объединены уже не хозяйственными делами корпорации, а уважением к науке и её центру, Университету. Ганноверский опыт было не так легко перенять – университет жил на английские деньги, в нём обучались принцы английской королевской семьи, совершенно особые условия в этом университете трудно было «заимствовать». У тех, кто хотел бы скопировать блестящий университет, не было таких денег и такого культурного капитала. И всё-таки подражать старались многие.
Можно ли отыскать в этом социальном изобретении слабые стороны? Да, конечно. Некоторые современники называли Гёттингенский университет финансовой спекуляцией, ведь ганноверское правительство не могло бы содержать такой университет на свои деньги, деньги были английские, тем самым весь блеск университета был обязан сиюминутной игре политических сил. Университет упрекали, что в нём слишком много блеска, в нём легко учиться принцам и знатным юношам, поскольку преподаватели не слишком требовательны, лекционные курсы не образуют связной системы, набрано несколько знаменитых профессоров, и они, не согласуясь между собой, «сияют» со своими знаменитыми курсами, а целостного образования университет не даёт. Очень многое в университете работает на рекламу, с целью привлечь ещё больше богатых иностранных студентов, а истинного служения прогрессу науки нет. Университет ориентирован на привлечение богатых иностранцев, чтобы им легко и приятно было учиться, а потом они уезжают с приятными воспоминаниями – и следствием такой организации преподавания является то, что университет не выпускает нужных государству служащих.
Так что слабых мест было достаточно и Гёттингенский университет у многих вызывал недовольство. Сторонники государственного образования, когда образование мыслится лишь как воспитание подходящих государству инструментов-служащих, ругали вольности Гёттингена, полагая, что министерство должно разработать строго исполняемые программы, неукоснительно преследовать уклонения и получать на выходе из университета стройные ряды марширующих молодых чиновников. Общее благо, которое преследует государство, требует от своих служащих определённой функциональности, и университет есть не более чем точильный камень, созданный для доведения человеческого материала до должной специализации. Благо государства есть высшая ценность по отношению к капризам личных желаний, и надлежит жертвовать склонностями людей ради служения общему благу.
Такому государственному взгляду можно возразить. Это совершенно загадочное дело – образ мышления людей, которые отдают свою свободу высшим ценностям. У человека мало что есть; почти всё, что у него есть – это свобода. Это прежде всего свобода мышления, всё остальное человеку не принадлежит – он не властен в своём теле и своих эмоциях, не властен ни в действиях, ни в желаниях, он может лишь, при достаточном усилии, достичь некоторой свободы в своём мышлении, никаких иных собственных ценностей у него нет. Прочее – случайности судьбы и страсти, сплетение законов, приложенных к пассивному узелку приложения сил.
В обществе властвуют четыре элемента алхимии социума: страсть, власть, изменчивость, податливость. Из них состоит материя социального. Множество людей вообще не имеет отношения к мышлению и не знают о свободе, проживая всю жизнь в заботах телесных или страстных, но вот и те немногие, которое имеют отношение к мышлению, – тоже отдают себя нечеловеческому, например – государству, нации… Удивительно, как легко люди отказываются от свободы, единственного достояния.
Любой социальный институт стоит в скрещении этих сил – внечеловеческих импульсов «общего блага» и личных стремлений к свободе и независимости. То и другое невозможно, то и другое управляет поступками. При создании социального института приходится заботиться об устойчивости, иначе противоборствующие силы просто раздерут новую организацию. В каждый момент сочетание сил иное, и баланс достигается иными средствами. И создание новой социальной машины – Университета Нового времени – шло с большим трудом.
Университетская машина очень трудно создавалась. История средневековых университетов состояла в том, что из приходских школ разновозрастные дети приходили на факультет искусств, а затем восходили в высшие факультеты. Этот средневековый университет начался в XI в. с Болоньи, Парижа и Оксфорда, затем распространялся на северо-восток, в Центральную Европу и потом в восточную, куда добрался только к XVII в. Волна университетов доплеснулась до восточной Европы в то время, когда в центре университеты уже стали вымирать – это был кризис университетов в XVII–XVIII вв. Университеты средневековья – это корпорации, смысл их в том, что это частное дело, объединение людей, и возникли университеты, когда в окружающем социуме было мало властных социоматов, огромных социальных машин, очень многое решалось на личном уровне, между людьми. Университеты договаривались с папами, королями и князьями, получали пожалования и кормления и могли существовать в этом всё ещё человеческом мире.
А Европа к XVII в. становилась всё более государственной и абсолютистской, и университеты вырождались – они теперь находились в совершенно иной среде. Это были реликты средневекового мира корпораций, когда почти всё делалось человеческой активностью, а не силой бюрократической организации. Университеты вымирали, пока не появились идеи их модернизации, встраивания в новый мир государственной бюрократической организованности. Это было условием выживания, – и в то же время это было отказом от идеи университета, он исчезал как организация, относящаяся к сфере культуры. Государства стали поедать университеты, им были нужны совершенно иные организации – для воспитания умелых чиновников.
Выразилось это наиболее чётко во Франции, где революция (1789 г.) убила университеты и породила Grandes ecoles (Большие школы, высшие школы). А в Австрии, например, без всякой революции собственное правительство убивало университеты; согласно австрийской университетской реформе XVIII в. университеты полностью переходили под управление государства, от программ до внутреннего распорядка. И Россия обзавелась университетом именно в это время, когда средневековый университет-корпорация умирал, несовместимый с абсолютистским государством. Это абсолютистское государство было намного слабее современного демократического, в этом смысле демократические государства современности на порядок более абсолютистские, чем монархии раннего Нового времени.
И в это время немцам удалось изобрести классический немецкий университет – потрясающую университетскую машину, которую потом наследовали, заново у себя насаждали англичане и американцы, японцы и китайцы, потому что выяснилось, что эта социальная машина эффективнее, чем то, что может сделать государство собственным государственным разумом. Гёттингенский университет был эфемерным образованием, без прочного фундамента, он важен как этап, потому что на его основе была создана следующая, более совершенная социальная образовательная машина.
Становление немецкого исследовательского университета: как Вильгельм Гумбольдт основал Берлинский университет
Последним звеном в цепочке реформируемых университетов стал Берлинский университет, который создал Вильгельм фон Гумбольдт в 1810 г. Университет в Пруссии, созданный Гумбольдтом, также находился под патронажем государства, здесь тоже управление (и финансирование) университета было государственным, профессора утверждались чиновниками и т. п. С точки зрения управления Гумбольдтовский университет не сильно отличался от Гёттингенского. То существенное, что изменил Гумбольдт в устройстве социальной машины, относится к сфере культуры, а не к сфере права.
Гумбольдт добавил ещё одно соединение: научной работы с преподаванием. Прежде считалось, что занятия наукой, лабораторные исследования требуют совсем иных черт, нежели лекционная деятельность. Учёный не может говорить, он слишком углублён в детали своих исследований, а от лектора требуется внятность и доходчивость. Это разные фигуры, смешивать их нельзя, – получится плохой учёный и плохой преподаватель. Гумбольдт решил совместить несовместимое: пусть лекции читает не «повторятель» за другими, а истинный знаток своего дела. Да, он будет не самым блестящим говоруном, его лекции на слух будут не лучшего качества – зато это настоящий работник данной области, который в самом деле знает дело.
Сейчас, через 200 лет, трудно понять, насколько трудно было придумать эту гумбольдтовскую реформу, насколько вразрез она шла с тогдашними мнениями. Но есть хороший аналог: сегодняшнее отношение к менеджерам. Большинство умных, образованных и профессиональных людей уверено, что умение управления – это отдельное умение, особенная специализация. Поэтому самыми разными организациями может управлять один и тот же менеджер, потому что он знает, как управлять. А «предметник», знающий своё дело, но не владеющий особыми управляющими умениями, хорошо управлять не может. В результате есть «управленцы», одинаково справляющиеся с управлением самыми разными объектами, и лежащий ниже слой «специалистов», не способных к управлению. Это разделение считается мудрым и социально оправданным, можно найти весьма остроумные доказательства, что дело обстоит именно так и управление есть особенное умение, которому надо долго учиться, совмещать разные специализации нельзя, и поэтому тот, кто выучился управлять, конечно, не может «знать дело», что является другой специализацией – и поэтому же любой конкретный специалист не имеет времени выучиться управлять. Каждый должен делать своё дело, каждый должен быть лучшим специалистом – и отсюда следует, что управлять должен менеджер.
Это – современный миф об управлении. Очень влиятельный и во многом определяющий современную социальную жизнь. Множество практических решений принимается, потому что люди уверены в правильности этого мифа. А в XVIII в. таким же властным и всеобщим мифом была подобная по устройству мысль о разделении учёного и лектора. Это же разные специализации.
Лектор хорошо умеет делать своё дело, а учёный – своё, те же, кто пытается совмещать, поневоле будут плохими учёными и плохими лекторами, зачем же пускать работать тех, кто не умеет хорошо делать дело. То есть преподавание – это отдельная работа, для которой есть необходимые требования, а ещё многие учёные слишком не светские люди, они не могут подавать пример юношеству своим поведением и лекции их будут юношам непонятны. В университете же обучались дети дворянского сословия, которых следует учить манерам – как относительно поз и жестикуляции, так и относительно приличных тем для беседы и оборотов речи. Разве может учёный-анахорет, выходец из простонародья, показать пример молодым дворянам?
И одна из основных черт реформы Гумбольдта – именно в сломе этого мифа. Как это было сделано? Как Гумбольдт смог преодолеть эту «железную» логику о специализации? Он решил: главное – чтобы студентов учили те, кто отлично знает то, чему учит. Будет страдать лекционная сторона? Ну, пусть страдает. Учить должен тот, кто может ответить на любые практические вопросы, кто занимается этим предметом лично, кто является передовым учёным именно в данной области. Пусть студенты перенимают знания у самых лучших специалистов, а трудности именно процесса передачи, – невнятность речи, чрезмерная увлечённость предметом и что ещё там у учёного – это пусть будут необходимые издержки.
Гумбольдт соединил преподавание и науку. «Лабораторный учёный» – плохой лектор? Погряз в своих кабинетных занятиях, не может вести качественную преподавательскую деятельность, будет говорить плохо, мямлить, уходить в ненужные детали? Гумбольдт сделал правилом, чтобы лекции студентам читали практикующие учёные, по возможности – лучшие в своем деле. В воспоминаниях той поры можно прочитать, например, о лекциях Гегеля – он говорил тихо, невыразительно, невнятно, надолго замолкал, он формулировал мысль раз за разом, пока не добивался удачной формулировки, он был невыносим – и на его лекции ломились студенты, стояли в проходах, лекции пользовались замечательной популярностью. Потому что один из ведущих умов эпохи прямо на глазах слушателей рождал мысли, которыми следовало руководствоваться просвещённому уму. Точно так же читали механику, оптику, ботанику и химию – не умелые ораторы, а мастера своего дела, которые сами достигли выдающихся успехов в науках.
Эта идея Гумбольдта принесла созданному им университету блистательную победу. Немецкий университет стал лучшим типом организации для получения высшего образования. Этот тип устройства заимствовали прочие немецкие университеты, каждый старался нанять самых лучших учёных, чтобы они читали лекции именно в данном университете. Успехи в науке, открытия и публикации стали самой главной рекомендацией для замещения места профессора в университете. Выпускники университетов из других стран ехали в Германию, чтобы хоть несколько лет проучиться в немецком университете – без этого их образование считалось неполным. Родился новый образец – немецкий исследовательский государственный университет. Немецкий университет копировали в Америке и Великобритании, в Китае и Японии. В общем, почти весь мир копировал эту образовательную машину, которая оказалась соединённой с лучшей наукой того времени: наука XIX в. делалась преимущественно на немецком языке, как современная – на английском, это была самая передовая наука того времени, и она была прочно соединена с лучшим по своему устройству типом университета. Так что эту научно-образовательную машину старались скопировать самые разные страны.
Средневековая корпорация стала государственным исследовательским университетом. Этот социальный институт позволил немецкой науке стать лучшей в мире, завоевать мировое первенство. Возникла потрясающая эпоха развития науки, которую можно обозначить как «немецкая наука». Началась она примерно в 1810 г., закончилась в 1945 г. Немецкую культуру съела немецкая власть. По тем же законам развития, по которым сейчас английская экономика доедает английскую культуру.
В результате возник «миф»: миф о немецком университете. Это миф о сверхуспешном социальном институте, созданном в рамках одной культуры, который интенсивно заимствовался как «техническое изобретение» в самых разных странах. Это миф – потому что многие черты гумбольдтовского университета были несколько преувеличены. Влияние Гумбольдта на организацию на деле было не так велико, многое сделали его преемники, – как и любая реальная история успешного социального действия, эта история не может быть правдиво рассказана через одну фамилию. Идея берлинского университета родилась у Гумбольдта из соединения нескольких идей (И.Г. Фихте, Ф. Шиллер, Ф.В. Шеллинг, Ф. Шлейермахер, Г. Штеффенс). Но появление такого мифа о немецком университете говорит само за себя: на современников немецкий тип исследовательского университета производил чрезвычайное впечатление.
Гумбольдт внёс в организацию университета несколько важных черт. Он специально озаботился университетскими свободами. Студент мог слушать те курсы, которые он хотел, мог свободно перемещаться между университетами, университетские преподаватели могли свободно читать курсы и излагать свои воззрения. Свобода преподавания и свобода обучения влились в организацию университета. Университеты стали сетью, между университетами путешествовали студенты, отыскивая лучшего лектора-учёного по заинтересовавшей данного студента дисциплине. Между университетами путешествовали профессора, которые искали лучших условий для работы.
Это было соединение государственного и культурного аспекта на совсем иной глубине. Не просто государство финансировало университет, а он был лоялен государству и поставлял для него служащих. Было произведено нечто значительно большее. Учёный выступал как идеальный человеческий тип, он стал общественным идеалом. Учёные стали «звёздами», за их карьерами следили и помнили имена тех, кто совершил значительные открытия. Учёные по своему месту в университете обладали определённым чином в иерархии чиновников, и учёный мог оставить университетскую карьеру и перейти в госаппарат. Это считалось некоторым снижением в карьерном смысле, человек менял место более почётное на несколько более хлебное и устойчивое. Карьера в сфере культуры стала выделенной, предпочитаемой, рассматривалась как высокое социальное достижение. Гумбольдтовский университет был специализирован для выпуска учёных прежде всего, чиновники получались как побочный продукт, то есть неудавшиеся учёные шли в чиновники, а полноценными выпускниками считались именно те, кто всю жизнь связывал с наукой. И это было не случайным достижением одного какого-то знаменитого университета (как в Гёттин-гене), а типом высшего образования, который можно было скопировать, заимствовать, это было воспроизводимым социальным механизмом.
Основными кадрами университета были ординариусы, полные профессора – которые в то же время числились государственными чиновниками. Таких профессоров было немного, это были немногие сотни человек по всем наукам на все германские государства. Связь профессоров с властью была непосредственной, у того или иного известного учёного был покровителем конкретный князь или иная владетельная персона, так что наука того времени имеет существенный аспект покровительства, это наука раболепных посвящений научных трудов государям и наука писем, которые назидательно писали учёные принцессам. Другие университетские преподаватели относились к более низкому слою, приват-доценты и внештатные профессора жили беднее, но всё же могли себе позволить заниматься наукой. Если взглянуть из современности, ситуация кажется совершенно сказочной: для решения проблемы образования была создана ситуация, когда немецкая бюрократия с удовольствием оплачивала немецкие университеты – при том, что те в смысле управленческих практик были для неё малопрозрачны.
Поскольку основным типом, который производил немецкий университет, был учёный, а не чиновник, поскольку высшим социальным служением считались занятия наукой, – поэтому университет, созданный Гумбольдтом, не просто «государственный», это именно исследовательский университет. Это социальный институт самовоспроизводства науки.
Дело в том, что наука организована во множество социальных форм – есть академии, специализированные научно-исследовательские институты, отдельные лаборатории. Их отличие от университета в том, что они сами себя не способны воспроизводить. Они извне получают молодых учёных и включают их в научные исследования. Единственная организация, которая производит этих молодых учёных – это университет. Благодаря тому, что часть выпускников остаётся при университете, со временем поднимаясь к профессорскому званию, университет оказывается самовоспроизводящейся научной организацией. В этом смысле все прочие научные организации зависят от университета. Именно поэтому университет оказывается центром научной и интеллектуальной жизни. Это место в социальном мире создал Гумбольдт со своим проектом исследовательского университета, и так была организована немецкая наука – а затем и вся мировая наука в целом.