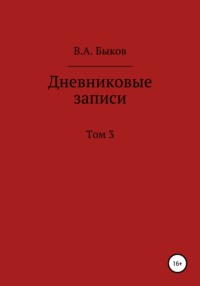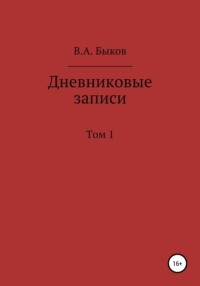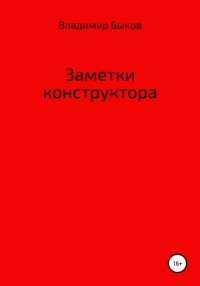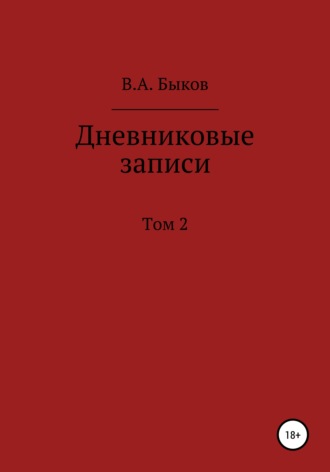 полная версия
полная версияДневниковые записи. Том 2
А вот от нашего единомыслия я в восторге. Оно доставляет мне удовольствие и, главное, укрепляет мои собственные представления о жизни».
30.01
Доллар сегодня, объявили, стоит 35 рублей с копейками.
На столь «планомерно-устойчивом» падении рубля вершатся огромные спекулятивные операции, в объемах неизмеримо больших, чем в «катастрофический» (по Путину) кризис 1998 года.
Какое производство, какая реальная экономика, когда можно за три месяца увеличить свой капитал в полтора раза и сделаться в один присест теми новыми миллиардерами, о которых я только что упомянул?
31.01
Сегодня был у Виталия. Завели, как у нас водится последнее время, спор о кризисных событиях. Абсолютно разные взгляды, без самого малого намека на компромисс и сближение позиций.
В три часа вернулся домой, и весь оставшийся день, будто специально в угоду мне, по Российскому радио (не по какому-то «Эхо») передавали одну сплошную критику «демократической» действительности, чуть не полностью соответствующую тому, что я декларировал перед этим Виталию.
01.02
«Виталий, в порядке более четкого изложения моих взглядов на действительность посылаю тебе кое-что из моих записей последних лет за 06 – 09 годы, касающихся кризисных явлений».
04.02
Я упоминал как-то имя В. Костикова, бывшего пресс секретаря Ельцина.
Последнее время он стал регулярно публиковать статьи в газете «АиФ». Вот что он недавно написал о Сталине.
«В отличие от Ленина, который уже давно сделался исторической достопримечательностью, Сталин остаётся активным участником российской политики, важным аргументом в споре о путях развития страны и его наследие явно преобладает над идеями ленинизма». Причину сего Костиков усматривает в том, что Сталин, в отличие от «кремлевского мечтателя» Ленина, являлся истинным строителем СССР.
«После окончания Гражданской войны Ленин прожил всего два года, тяжело болел и жил на правах «королевского узника» в Горках. Получив всю полноту власти, Сталин отбросил мечты ленинских романтиков о мировой революции и начал бескомпромиссную переплавку старой России в «великий, могучий Советский Союз». Когда 11 лет спустя после смерти Ленина в. СССР побывал французский писатель Р. Роллан, а двумя годами позже немецкий романист Л. Фейхтвангер, они увидели страну в состоянии огромной стройки «от моря и до моря».
И друзей и. недругов СССР поражали темпы развития. Ключевой, лозунг Сталина «Темпы решают всё» неукоснительно претворялся в жизнь. До начала второй мировой войны каждая «сталинская пятилетка» была мощным броском в направлении научного и технического прогресса. А ведь у Сталина не было такого чудесного подспорья, как нефть и газ.
Почему же менее 40 лет спустя после смерти «великого кормчего» наступила, говоря словами Путина, «крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века» – крах советской экономики, развал СССР, утрата мировых позиций, обнищание населения, идеологический коллапс?
Социологические опросы показывают, что у населения до сих пор нет уверенности, что страна на правильном пути. Кризис лишь усиливает эти сомнения. Люди прикидывают, сопоставляют: со: времени начала рыночных реформ прошло 18 лет (больше трех «сталинских пятилеток»). Результаты не впечатляют. Как только упали цены на нефть, новый российский капитализм стал давать сбои,
Увлечение Сталиным – это не просто ностальгия по временам «простых решений», по годам молодости по энтузиазму тех лет. Это, прежде всего, недовольство медлительностыо реформ, неэффективностью власти, ее неспособностью оперативно искоренять искривления и ошибки бурных 90-хгодов – коррупцию, преступность, социальное расслоение. На фоне результатов сталинских пятилеток нынешняя политика выглядит бледно».
Разве это не откровенный панегирик Сталину, его системе и трезвому взгляду на историю? Но, что далее?
А то, что вместо, казалось бы, ожидаемого призыва к разумному перенесению созидательной составляющей тогдашнего процесса на современные рельсы Костиков (как, впрочем, и многие другие защитники «демократии»), испугавшись бросился в критику сталинских репрессий, политических процессов и прочего негатива тех времен, за которым забыл вовсе о всем прочем, достойном внимания. А ведь сегодня можно считать фактом, что сталинская эпоха перевернула весь остальной мир и превратила справедливо раскритикованную Марксом систему нещадной эксплуатации людей в капитализм со столь милым нам «человеческим лицом»,
«Значит ли это – вопрошает тут алогично Костиков – что, голосуя как бы «понарошку» за Сталина, население действительно хочет возвращения сталинизма? Думаю; что нет. Достаточно по иному ставить вопросы, и все очарование его политики исчезнет.
Хотим ли мы всесилия «чекистов? Хотим ли тайных арестов по ночам? Хотим ли политических процессов над «врагами народа»? Хотим ли, чтобы в страну вернулась атмосфера доносительства, чтобы жены доносили на мужей, а дети – на родителей? Словом, хотим ли мы, чтобы ценой нового прорыва было полное уничтожение демократии?». Но, почему это у Костикова столь глупо?
Он что, народ, зададим себе другой вопрос, – дурной? Разве он не хочет костиковского первого, и не знает, что оно возможно без второго? И не понимает, что неплохо было бы взять на вооружение и кое-что из «негодного» последнего, придав ему несколько иную, более законную форму? Разве не прав был Герцен (см. мои Записи за 2005 год), утверждавший, что «новый порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной», что, «нанося удар по старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но и оставить все не мешающее», исходя из того непреложного, что «в былом и отходящем всегда было много прекрасного, и оно не должно погибнуть вместе со старым кораблем?».
Вот почему, перефразируя Костикова, «неутихающая дискуссия о тов. Сталине говорит о том, что соблазны сталинизма все еще искушают и народ, и власть», но совсем не означает, что «в условиях кризиса эти обольщения могут привести к опасным конкретным заимствованиям из сталинской практики». Надо элементарно, по Герцену, взять из нее все полезное созидательное, и отбросить негодное!
Что взять? Да, вот почитайте хотя бы В. С. Поликарпова, его книгу «Сталин – Властелин истории» (Издательский дом «Владис», Ростов-на-Дону, 2007 год). В ней весь сталинский позитив перечислен (в отличие от моего, почти тезисного, приведенного на страницах данных «Записей») самым подробнейшим образом, и весьма, причем, доказательно.
Правда, Костиков вслед своему добавляет, что «в споре о Сталине нельзя забывать, что «парад побед» оказался краткосрочным, и динамика «большого скачка» затухла, как только исчез двигатель сталинского прогресса – насилие и страх». Но тут очередная его несуразность, ибо на самом деле «большой скачок, затух» совсем по другой причине, а именно потому, что после Сталина к власти пришли люди бездарные, неспособные к созиданию и строительству разумного общества. Хотя и здесь не обошлось без двойственности всего в мире.
Современный, не представляемый по своим разорительным последствиям, «мировой кризис», порожденный «демократическим» капитализмом, со всем его, как оказалось, отнюдь не меньшим (но только обратного знака) злом, – прямое тому доказательство!
И как бы ни крутились Костиковы, следует признать, что в 90-е годы мы фактически совершили, по отношению к подавляющему большинству народа, контрреволюцию и стали строить общество, вполне угодное лишь его пятой колонне – антисоциальному по своему природному существу современному «демократическому» меньшинству.
С их предшественниками и вынужден был, строя социализм, столь жестоко бороться Сталин.
К слову. В недавно прочитанной книге Р. Перина «Гильотина для бесов». не просто вода на мельницу моих подходов к истории, а целый водопад. Одни и те же имена и наших «героев». Вот отдельные из этой книги характеристики, имеющие прямое отношение к «пятой колонне» ленинцев и их детей, активно занявшихся в послесталинские времена «реабилитацией» своих отцов.
«Сталин хорошо знал, на чем погорели «тираны». Он не хотел повторять их участи и, обретя силу, сразу взялся за чистку рядов от деструктивного элемента с акцентом на возникший национальный перекос. Сталин не был антисемитом в обычном понимании этого слова, он был государственником и диктатором интернационалистом, абсолютным прагматиком и материалистом. Своим почти аскетическим образом жизни «отец народов» подчеркивал бренность бытия. Он считал себя земным «Богом-творцом», «Богом-тружеником», завоевывающим бессмертие разрушением и созиданием. Для него интересы государства были превыше всего, а государствообразующим народом был Русский. Но это не национализм в чистом виде, а скорее радикальный патриотизм, своеобразный компенсаторный национализм, посредством которого Сталин возмещал недостатки советского интернационализма. Сталин завоевал разум и тело людей не клинком. Он обладал чрезвычайными способностями подчинять людей и манипулировать ими – качеством, важным и необходимым великому вождю.
Да, некоторые «непонятные» ходы сталинской политики вызывают недоумение у историков и политиков. Но политику Сталина нельзя познать, абстрагируясь от всех нюансов тогдашней сложнейшей общественно-политической ситуации в стране и в мире.
Сегодня в глазах народа Сталин не великий диктатор, а великий мститель… Самовлюбленные и ограниченные лакеи, вознесенные на вершину власти, опаснее любого тирана. «Выдающиеся люди»: Тухачевский, Уборевич, Эйдеман, Блюхер, Бухарин, Каменев, Зиновьев и пр.! Но именно эти «выдающиеся» по горло в русской крови. В «невинные жертвы» их фактически записали только за то, что их уничтожил Сталин».
Остается лишь один вопрос.
А почему так случилось, что дети репрессированной сталинистами ленинской гвардии большевиков после смерти Сталина ринулись в бой за реабилитацию своих отцов, а дети, казненные последними столь же «беззаконно» (и в неизмеримо, к тому же, большем числе) при Ленине, приняли тот кровавый революционный разбой как должное, как объективно состоявшийся исторический факт. Во всяком случае, восприняли его с неизмеримо большей объективностью и большим пониманием исторической справедливости?
Ответу на данный вопрос, очевидный для меня, но столь же непонятный для современных защитников «демократии», посвящена чуть не половина моих «Записей».
09.02
Власть, наконец, назвала все своими именами, и официально признала состоявшейся девальвацию рубля, и выразила, одновременно, уверенность в его с сего дня стабилизации. Действительно вчера доллар стоил 36,38, а сегодня снизился до 36,13 рубля.
Интересно, как будут развиваться в этой части события дальше. Кто осилит? Правительство, или спекулянты, с их жаждой поиметь даровой доход на разнице валютных курсов?
Эксперты придерживаются самых противоположных позиций. Известный уральский банкир Фролов, например, сегодня, выступая по радио, предсказал возможность повышения доллара к концу года аж до 50 рублей. В свое время, говоря о возможности очередного финансового кризиса (см. мою запись аж от 25.10.05), помню, я предположительно называл для себя тогда девальвацию рубля где-то на том же, примерно, уровне: полутора – двух раз.
05.03
«Дорогой Борис Александрович! С немыслимой для меня задержкой сообщаю свои реквизиты, обещанные полгода назад на нашем заводском банкете.
Скоро юбилей Александра Ивановича Целикова. По сему поводу, и в порядке частичного извинения за свои прегрешения, посылаю тебе мои воспоминания об этой уникальной личности. Может будет приятно вспомнить прекрасные старые времена. С глубочайшим к тебе уважением и доброй памятью о всех наших встречах. В. Быков»
30.03
Поднявшийся к концу февраля почти до 37 рублей доллар, а результате явно продолжающихся спекулятивных махинаций был к концу марта сброшен до 33 рублей с копейками, позволив валютным игрокам снова заработать с каждого перепроданного доллара 3,5 рубля, т. е. на уровне 10 процентов за месяц или, соответственно, 120% годовых. Стоит ли заниматься полезным бизнесом, когда можно больше заработать элементарной спекуляцией?
Последнюю неделю доллар начал опять повышаться в цене, а евро, добравшийся, в то же время, до 45 рублей, наоборот, падать. Такие вот качели в рамках объявленного Центробанком «постоянного» валютного коридора в размере, помнится, 41 рубля, условно равного половине суммарного курса эти двух валют.
03.04
«Матус, дорогой! Рад твоему письму. Давно ждал, считая тебя должником, в связи с моим декабрьским, еще прошлого года, письмом, о котором ты не упомянул, забыл или, может, не получил? А потому на всякий случай, благо оно короткое, привожу его копию.
Есть что написать, но сделаю это несколько позже, поскольку наметил на следующей неделе встретиться с директором завода и поговорить о кризисе и заводских планах. Вот и приурочу тогда к своим впечатлениям от этой встречи и все остальное. Твое письмо – соболезнование по поводу смерти Марка я получил. Сегодня ко мне, как раз, собрался зайти Андрей. Так что привет от Ласточкина ему передам с удовольствием. Приветы и мои: Белле, Ласточкину и всем остальным, Володя».
08.04
«Дорогой Матус, в ответ на твое последнее (в том числе, на январское) письмо.
Не в порядке оправдания и продолжения «неугодной» тебе темы, а только для уточнения позиции, которую ты вечно искажаешь, а я, вслед, перед тобой оправдываюсь.
Разве однобокость означает, что она неправильна по своей конкретной сути, как таковой? Нет, конечно. Но только она в споре, порой верная по сути (а в моем понимании она, твоя таковой и является), может концентрироваться только на одной стороне проблемы, а потому, с точки зрения ее разрешения, являться, как минимум, менее конструктивной, менее результативной. Вот и все, и нет никакого спора. Да, и твое последнее практически тому подтверждение, как впрочем, и подтверждение тому, что было написано в моем январском письме. Из него ты взял только половинку и оставил без внимания вторую – «конструктивную» часть, исказив еще сколько-то по пути мои акценты, в частности, об «игнорировании» жизни арабского ребёнка, хотя у меня и слова-то такого нет, да и не могло быть».
09.04
Вчера состоялась встреча с генеральным директором Н. Эфендиевым.
Поводом для нее послужило моя просьба о таковой в связи с реакцией на его выступление в ЗТМ-ке в декабре прошлого года, в котором он бросил фразу о том, что при выходе из кризиса «через год-полтора, когда металлургам и горнякам потребуется новая техника, Уралмаш должен быть готов к большим заказам». После чего в газете стали печататься выступления разных начальников о инвестициях и прочем, но только не о том, что нужно заводу делать в кризисной ситуации. А именно, заниматься не инвестициями, а изысканием внутренних резервов и опираться на собственные силы инженеров, которые сейчас простаивают, и даже лучшие из них работают не полную неделю. Вот с этими выдержками я к нему и пришел, и с них фактически начался наш разговор.
У него перед моим появлением сидели директор «Уралмаш-инжиниринг» В. Дыдыка и директор по «Маркетингу и стратегии» А. Славич-Приступа. Они закончили свои переговоры, и собрались было уходить, но Эфендиев, попросил их остаться, отметив, что разговор будет небезынтересен и для них.
После моего краткого вступления, начался весьма примечательный разговор, в основном между мной и ГД с краткими репликами Дыдыки и при почти полном безучастии Славича,
За час с четвертью о чем мы только не переговорили.
О соцсистеме и ее недостатках.
О теперешнем капитализме с отнюдь не меньшим, но только обратного знака, негативом.
Соцуравниловке и сверхмерзостной по доходам современной диференцированности.
Соцэнтузиазме масс и теперешней всеобщей монетизации и капрасчетливости.
Причинах развала Союза. Капитализме, что заимствовал для себя полезные качества социализма (плановое хозяйство, концентрацию капитала на главных направлениях, социальную защищенность человека и т. д.), а наши соцруководители, оказавшись далеко не такими умными, стали брать от конкурента то, что с социализмом никак не совмещалось и в него не вписывалось, – элементы свободного рынка.
О сталинских методах управления и многом другом, о чем у меня написано в «Заметках».
Особый фурор вызвал у «публики» мой рассказ о Косыгинской 65 года попытке внедрения рыночных отношений.
Как тогда, при полном отсутствии свободного товарного рынка, решили перейти на расчетные цены в соответствии с весьма условной потребительской характеристикой продукции и ее расчетной эффективностью, а экономическая наука, призванная при социализме прежде всего заниматься анализом производства, снижением его издержек и стоимости товара, фактически к 70-м годам стала решать абсолютно противоположную задачу, как товар продать дороже, как оправдать сложившиеся затраты, и вместо рычага совершенствования производства превратилась в пассивного регистратора событий.
Как это привело к тому, что при стабильной зарплате и естественной устремленности предприятий к поддержанию приемлемого уровня рентабельности львиная доля средств, полученных от неоправданного завышения цены, пошла на снижение производительности и непомерное увеличение управленческого аппарата по схеме: рост цен – дополнительная возможность по ухудшению качества производственного процесса и уменьшению количества продукции
Тут «публика», по ассоциации со своими пустыми делами, с безрезультативностью и всякого рода бессмысленными реструктуризациями, а может быть и с такого же плана предшествующим до меня ее разговором, развеселилась и, включая даже молчавшего до того Славича, пустилась в собственные воспоминания, в рассуждения о своих «грехах».
Не меньшее впечатление на них произвело и упоминание о сталинских методах управления, о положительной их составляющей, которое было дифирамбово поддержано Эфендиевым и, кроме того, дополнено еще репликой о импонирующей другой части сталинского управления. Как ему иногда хочется столь же «эффективно вдарить по нынешнему разгильдяйству, по своим неумехам и бездельникам, что у него на них «чешутся» руки, а вот Дыдыка, смотрю, так просто мечтает о пистолете в своих руках».
Спустя некоторое время Дыдыка и Славич были отпущены. Мы минут на пятнадцать остались вдвоем, и Эфендиев предложил мне встретиться, как он соизволил выразиться, почти с моим тезкой – теперешним главным инженером Владимиром Бычковым.
В конце беседы я спросил о его восприятии кризисного положения, и получил в ответ: «Состояние отвратительное, не знаю чего делать, как вылазить из болота. В Москве раньше, в ваше время, было много заводом интересующихся, его активно поддерживающих. Сегодня там нет ни одного нашего лоббиста. Остается просить денег у своих акционеров».
И далее после моего вопроса: «А они у них, есть?». Добавил: «Есть, но едва ли дадут».
В заключение я пожелал ему добрых дел и хорошего настроения. А он выразил одобрение моему оптимизму, который, при взгляде на их дела со стороны было не так уж трудно проявить.
А сегодня по радио: «Дирекцией Уралмаша принято решение об очередном сокращении 500 работников завода». Вот откуда, было столь мрачное настроение Эфиндиева и его желание отвлечься и поболтать на общие темы.
10.04.
Сегодня отправил это Цалюку, дополнив кое-чем из своей стариковской жизни.
«Некоторое время назад опять свалился и потянул руку и ногу, да так сильно, что еле залез в трамвай. Сейчас аклимался, в том смысле, что могу ходить, но все равно далек до нормы, если она вообще наступит, поскольку не раз мной отмечаемая «сдача позиций» неукоснительно продолжается. Хотя, в сравнение с другими сверстниками, из тех, кто еще жив, я веду, как мне представляется, активный образ жизни.
Виталий почти ослеп, и стал страшно нервным по этой причине.
Петров Юра вообще сидит дома безвылазно, и я его не видел уже несколько лет. Пришел совсем в негодность Дима Балабанов. А ведь какой был путешествующий человек.
Лучше всех Сомов, но и тот последнее время сдал из-за болезни жены. Из совсем древних стариков жив, кажется, только прессовик Горлицын. Остальные все моложе нас.
Недавно увидел Редькина, а перед ним Дудина. Рассказываю ему, что идет, опустив голову, впечатление, что ничего не видит, и не хочет видеть. Прошел мимо, не нарушая его задумчивого состояния. А Редькин мне: «И правильно сделал. Я, когда останавливаю, ничего мне не говорит, а лишь машет рукой: «Отстань дескать, не мешай».
Перлова еще видел. Этот – живчик. Встречаюсь с прессовиком Карасевым, а больше с Юрой Макаровым. С ним мы иногда ходим в лес».
15.04
Вчера по случаю дня рождения посетил Леонида. И раньше не отличавшийся объективностью по отношению к своим уралмашевским «врагам», нынче он говорил о них просто с непримиримой ненавистью, причем опирался не на техническую сторону старых споров, а постоянно скатывался на «грязную», из подлости, исходную подоплеку действий. Парировал своим непрошибаемым доводом. Что никто не рассказывает про собственную подлость, а все апеллируют к нечистоплотности оппонентов, хотя каждому дано знать уверенно о таковой только про себя. Конечно, никакой реакции. Ушел расстроенный. Умнейшие люди с возрастом впадают в старческий маразм. При всем старании быть объективным, чувствую, что и сам поступаю порой по отношению к мной критикуемому, или мной не воспринимаемому, не совсем адекватно обстановке.
17.04
Костиков поместил в «АиФ» статью, написанную им по стандартному своему сценарию.
Сначала резкая критика.
«С какого это бодуна выращенного олигархами политического урода мы приняли за «новый русский капитализм»? Рост потребления – за признаки реального развития. Импортное благополучие – за достижение экономического роста. Олигархов – за соль русской жизни. Политическую попсу – за выразителей народных чаяний.
Население требует разборки полетов. Не из чувства мести или озлобления, а чтобы понять, в чем причины «политического ожирения». Почему государственная система стала нечувствительной к тревожным сигналам и проморгала симптомы кризиса. Нужна не показательная порка «а-ля Ходорковский», а чистка всей системы от олигархического балласта. Идеологи, проложившие фальшивый курс, должны уступить место мозгам, способным проложить новый курс. Важно не допустить, чтобы недовольство вылилось в масштабный социальный протест…»
Отлично! И каковы предложения господина Костикова?
А на уровне болтовни. Лишенного логики и здравого смысла лепета, абсолютно не увязанного со столь «мощной» критикой.
«…В условиях кризиса нужно (власти) не одаривать народ медалями, надуманными праздниками или патриотическими законами, а снять с него тяжелую дань. Упростить процедуру подключения к газу, электросетям, к воде. Освободить от унизительного числа справок, которые требуют от человека за каждую льготу. Убрать бремя мелочных запретов и унизительного недоверия. Наконец! Хотя бы на кризисные времена перестать гонять безденежных безбилетников по вагонам электричек. Не отключать тепло и электричество за неуплату непосильной ЖКХовской дани. Из-за невозможности укоротить аппетиты перекупщиков бензина хотя бы снизить цену билетов в баню. Дать людям возможность сходить недорого в кино. Не злить их псовыми и вертолетными охотами больших начальников и депутатов».
Как говорят, – «крыша поехала», и не только у Костикова, но и редакции «АиФ». Органические недостатки системы, этого «выращенного олигархами политического урода» Костиков предлагает закрыть обращением к частным, на уровне Зощенко, проблемам полубанного быта.
18.04
Получил пенсию с апрельской прибавкой, по «страховочной» ее части, около 500 рублей. А еще до этого, как давно происходит, началось повышение цен на ходовые продукты, в сравнимом для меня наборе: на хлеб, сметану и кефир более чем на 10%, молоко на 5%, сахар, шоколад на 20%. За 700-граммовую упаковку манной крупы заплатил 21,9 рубля, за 800 грамм гороха 21,5 рубля, за килограмм краковской колбасы 280 рублей, пачку соли (пока еще, на удивление, массой килограмм) 8 рублей. Соответственно с начала года значительно поднялась плата за жилье и все услуги. На городской транспорт в связи с монетизацией теперь в дополнение к денежной компенсации в 275 рублей доплачиваю до 150 рублей в месяц, причем при большом ограничении в выборе наиболее выгодного для меня вида. Вынужден пользоваться чаще только трамваем, и тратить на поездки дополнительное время..
23.04
Вчера по случаю предстоящего дня Победы состоялась встреча у Генерального директора, на которую была приглашена, практически в устоявшемся составе, пенсионерская команда конструкторов из бывших прокатчиков, Орлова, Нисковских, меня, прессовика Карасева, горняка Бойко, а также Кондратова, Гурьянова, Красилова и Васильева. Не были по разным причинам Башилов и Поносов. Организовывал это собрание Рассаднев. Вел беседу Эфендиев. Выступили по ходу его информационных заявлений о заводских и прочих делах Нисковских, Красилов, Кондратов. Я поднял вопрос о несоответствии производственных мощностей завода и структуры объемам современного и планируемого в будущем резко сокращенного производства. Предложил подумать об объединении всех конструкторов во главе с одним главным конструктором для обеспечения единой конструкторской политики особенно в области общих элементов и общеконструкторских решений, что позволило бы значительно повысить его эффективность. Упомянул, что такие предложения мною были внесены при состоявшихся за несколько дней до этого частных беседах с Эфендиевым и Бычковым.