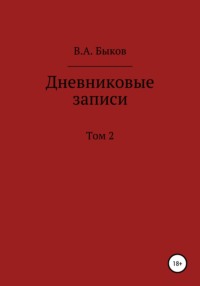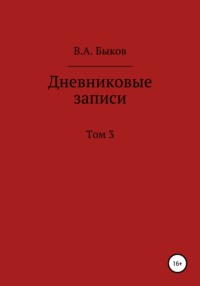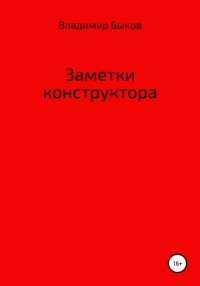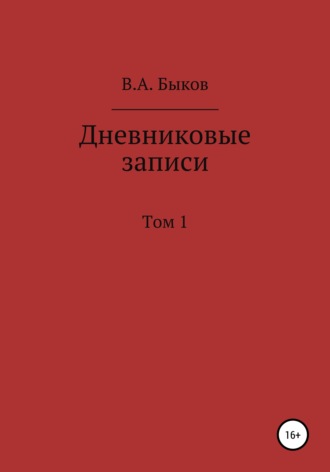 полная версия
полная версияДневниковые записи. Том 1
– Поздно, меня не переучишь, как ездил, так и буду продолжать, – ответил он довольно сердито, за очевидную в данном случае неуместность моего ему совета.
Но и я, для себя лично, не мог не сделать кое-каких выводов.
Виталий до названного инцидента чувствовал себя неважно, если не сказать даже плохо. Последнее время периодически лежал под капельницей. А вот случилась авария, и он на ногах, звонит в разные магазины и автосервисы, носится по городу в поисках запчастей. И вообще как-то всю жизнь, вспоминаю, он пребывал в стрессовых ситуациях и по жизни, и по работе, при этом как бы даже и забывал о своих хворях.
То у него ломался автомобиль и приходилось возвращаться с ним домой на железнодорожной платформе. То он больной, о чем, естественно, не говорил, отправлялся с нами в поход в такие таежные места, откуда ни позвонить, ни выбраться срочно абсолютно было невозможно. И мы в страхе плыли тогда на утлой лодчонке и молили Бога, чтобы ничего не случилось с ним более серьезного. Затем, через год или два, будучи опять наверняка в плохом состоянии, один с женой поехал за 150 километров на челябинские озера, где с ним случилось… прободение язвы. Его доставили в ближайшую сельскую больницу, и совсем молодой хирург с таким же по летам помощником, поднятые, по случаю субботы, из-за стола, сделали ему операцию. Весть о ней застала нас также за застольем в три часа ночи. Мы втроем с Алексеем Варак-синым и Володей Шнеером, помню, тут же побежали ко мне в гараж, схватили машину и, соснув по дороге часок, в восемь утра приехали в ту больницу. Виталия застали в сознании и в таком виде, как будто именно вот так, с такими перипетиями ему и надлежало выбираться из той болезни, что мучила его уже много лет. А по работе?
Мы с ним практически занимались одинаковым делом. Только он последние свои рабочие годы – в ранге Главного конструктора по машинам непрерывного литья стали, а я – заместителя Главного конструктора по станам горячей прокатки. Так вот я свои станы пускал в эксплуатацию без шума и знамен. Начальство ко мне на монтажи и пуски приезжало не больше как на экскурсию. Все делалось в рамках обычных оперативок, не без проблем, но без особых, ощутимо заметных возмущений. У Виталия, наоборот, чуть не все пуски объектов происходили вечно в экстремальных условиях. Не только заводы и министерства, но и ЦК, и Совмин стояли, как говорят, «на ушах». Будто он со своей командой эти условия специально организовывал, для пущей, надо полагать, «впечатлительности».
Борьба с «трудностями» ему явно нравилась и способствовала подъему его тонуса.
1 7.02
Несколько слов о предателе В. Суворове и его «знаменитой» книге «Ледокол», которую другой такой же предатель Буковский объявил «делом всей (Суворова – Резуна) жизни» и тем как бы косвенно реабилитировал его предательство.
Более бездарной, лишенной логики книги я не читал. Начал писать ее Суворов 19-летним юнцом, не знающим ни жизни, ни законов движения по ней человека, и потому толчком к тому послужило случайное «открытие» тривиальнейшей истины, «настолько простой (опять по словам того же Буковского), настолько самоочевидной, что просто диву даешься, как же она не пришла никому раньше?». Ни «миллионам участников описываемых событий», ни «тысячам исследователей Второй мировой войны, авторам бесчисленных диссертаций и монографий». А пришла в голову только гениальному автору «Ледокола», и заключалась в том, что Сталин, оказывается, готовил армию и страну не к обороне, а к наступательной войне. Как будто бы до него кто-либо из великих мира сего, начиная с Александра Македонского и бесчисленного числа других королей, царей, императоров и кончая Гитлером, только тем и занимались, что готовились к обороне, а не к наступательным войнам. Ну а раз Сталин не оборонец, то в силу своего бзиково-предательского настроя, вне того, что Гитлер захватил уже половину Европы, автор объявляет Советский Союз «главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны, а коммунистов и Сталина в сочинении «легенды о том, что на нас напали, и с того самого момента началась «Великая отечественная война». Первый перл Суворова.
Второй такой же. «Утром 1 сентября (1939 года), – пишет Суворов – не только правительство Польши, не только правительства западных стран не знали, что началась новая мировая война, но и сам Гитлер не знал об этом». Далее идет глубокомысленная посылка Суворова «Гитлер не знает, что он начинает вторую мировую войну, а вот товарищи в кремле это отлично знают!». И почему, думаете? А потому, что Сталин «молниеносно и совершенно необычно» прореагировал на сообщение некоего агентства Гавас… И заявил: «Это сообщение (с его, Сталина, якобы на Политбюро 19 августа приведенной мыслью о том, что «война должна продолжаться как можно дольше, чтобы истощить воюющие стороны»)… представляет вранье…». Вот ведь какое опять глубочайшее авторское открытие! Как будто когда-либо и кто-либо из потенциальных участников войны тайно не желал истощения других сторон, прежде чем вступить в нее самому? Или когда-либо и кто-либо другой в подобной ситуации аналогично и столь же нагло не опровергал разные неугодные ему сведения, ставшие достоянием общественности? Разве подобные «опровержения» не являются квинтэссенцией в работе любых дипломатических служб любых государств? И так на протяжении всей книги – один за другим следуют все остальные суворовские «открытия», без каких-либо исключений и все по одному и тому же образцу. Сначала надуманная посылка, а потом ее разбор на школярском уровне.
28.02
Прошедшую неделю возился с ремонтом. Подбила меня на него Ирина Зайкова. Год назад я при встрече с ней посетовал на отвратительное состояние нашей квартиры, что никак не могу собраться привести ее в божеское состояние по причине нежелания тратить на это свое «драгоценное время». Тем не менее, в ответ на ее предложение о содействии мне в этой проблеме и возможности привлечения к сему делу знакомых вполне приличных мастеров, выразил ей признательность за соучастие. После этого она, при случае, еще несколько раз обращалась ко мне с тем же, пока, не выдержала и, вытянув из меня принципиальное на то согласие начать сим заниматься в самое ближайшее время, сообщила мой телефон своим знакомым мастерам. Телефонный звонок от них раздался у меня чуть ли не через час после нашего разговора.
– Владимир Александрович, здравствуйте. Говорит Надежда, я узнала от Ирины, что вы желаете приступить к ремонту. У меня сейчас есть время, и я бы могла подойти к Вам посмотреть и договориться.
Я промямлил ей не очень определенное в части возможного начала этого ремонта, но пригласил подойти в любое удобное для нее время. Она пришла тут же. Мы договорились начать ремонт через неделю. Однако только-только она дошла до своего дома, я успел передумать, позвонил сам и предложил ей назавтра помочь приобрести необходимые материалы. Это было сделано, а на следующий день они с мужем Володей утром приступили к работе. Все оказалось значительно проще, чем я себе представлял. Полностью в соответствии с известной поговоркой: «Глаза боятся, а руки делают». В понедельник мы начали, а в пятницу наша большая комната и коридор приобрели вполне приличный вид.
Сегодня зашел Нисковских, посмотрел, понравилось. Я порекомендовал ему связаться с моими мастерами, что он тут же сделал, и на следующей неделе займется ремонтом сам. Одновременно выяснилось, что сия зараза коснулась и Сомова, который закончил ремонт своей квартиры почти одновременно со мной. Теснота мира и теснота идей. Надо ведь придумать, не сговариваясь, троим одновременно заняться одним и тем же.
18.03
«Дорогой Марк! Получил твое весьма пространное с кучей вопросов, сомнений, самобичеваний и прочих разных описаний письмо. Начну с первого.
Взгляды на нынешнюю политическую ситуацию у меня простые. Я по натуре оппозиционер, и после второго моего письма Путину голосовал против него, за Глазьева. За последнего потому, что он показался мне среди всей остальной команды наиболее логичным, последовательным и эрудированным. Однако это голосование «За», в отличие от голосования «Против», есть голосование, естественно, не осознанное, основанное только на моей впечатлительности от избирательной болтовни претендента, которого по делу я не знаю.
О моем «легком» отношении к вопросу о «святости и грехах».
Во времена, когда я был уже инженером проекта балочного стана и, считаю, досконально знал свое дело, один из старейших конструкторов-приводчиков Зубарев, тебе известный, в ответ на мое ему по работе исключительно вежливо-лояльное замечание-совет, неожиданно возмутился, обвинил меня в некомпетентности, безграмотности, зазнайстве и других грехах. Я промолчал. Не от великого ума, а от неспособности быстро ответить на хамство, по причине природной заторможенности (благодаря которой в подобных случаях часто оказывался в более выгодном, по отношению к другой стороне, положении). Это молчание и тут произвело на визави, судя по всему, должное впечатление. Почему? А потому, что года через два, когда его, уже пенсионера, я встретил случайно в лесу и заговорил с ним так, будто между нами ничего не произошло, он точно обрадовался: ответил мне тем же, и не только по жизни, но и по совместной работе. Вскоре узнаю, что умер. Невольно подумал. А не специально ли ждал он той встречи, дабы сбросить с себя тяжкий груз вины передо мной и умереть с чистой совестью. В свою очередь и я рад был, что не поссорился, не обиделся и не придал значения той глупой истории, вероятно и происшедшей-то по какому-нибудь случайному его плохому в тот момент настроению.
Не переживай и ты, а то, что тебя мучает, считай досадным исключением. Думаю, и по отношению к своей маме ты также превзошел норму самобичевания.
Г. Семенов? Мое мнение о нем полностью соответствует твоему. Могу дополнить тебя аналогичной историей. Семенов только-только сел в Российский совнархоз, как мы с нашим плановиком Васей Буденковым зашли к нему с какой-то жалобой. Он проявил полное понимание, выразил возмущение и, заявив, что этот вопрос он немедля разрешит, схватил чистый бланк и бросился лично сочинять, как он выразился, разгромное письмо. Хватило его ровно на одну фамилию адресата. Он остановился, на минуту задумался, и затем изрек:
– Друзья, но это же ведь вопрос компетенции Союзного совнархоза. Там мой коллега бывший директор Краматорского завода. Дуйте туда, он все решит. – Так состоялась первая моя «плодотворная» встреча с ним. О второй я тебе писал в очерке о Химиче, о том, как он Семенова отбрил на министерской коллегии за некорректную реплику о якобы его конструкторской некомпетентности.
Затем на моем горизонте появился такой же «орел», еще один зам. – Александров.
Ну а теперь, на закуску, о нашем различии и твоем главном вопросе: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Точнее: «Что хорошо для микромира (жизни одного человека)?». Или еще лучше, как у тебя далее, но только в моем прагматическом звучании: «Почему человек испытывает удовольствие от секса, еды, движения к цели, к власти?» Ответ мой (без всяких твоих «нейромедиаторных выбрасываний» и величины их «оптимальности») ты должен знать. Это от того, утверждаю, что жизнь и движение всего живого по жизни, в том числе и человека, основаны на борьбе. А все перечисленное (и секс, и прочее) так или иначе связано с борьбой за существование и удобное место под солнцем.
А вот почему жизнь покоится на принципе борьбы? – Таких «основополагающих» вопросов я себе давно постановил не задавать. На них нет и не может быть ответа в силу, хотя бы, бесспорного существования пропагандируемой мной, математически затверженной, величайшей сущностной категории – «бесконечности». Впрочем, об этом ты у меня уже читал. Может отсюда мне действительно (в общем виде) все ясно и понятно. О конкретностях я не говорю: они действительно сложны, но ведь при их практическом разрешении мы занимаемся констатациями, а отнюдь не установлением этих сакраментальных «почему?». Почему, например, Е = МС2, а не чему-то (пока) другому? Точно так же: «Прогресс не благо и не вред», а то, чем человечество (опять пока) жаждет заниматься по каким-то своим ему приятным основаниям. Бывай здоров. Всем привет».
19.03
По ассоциации с приведенным в письме Гриншпуну случаем с Семеновым вспомнилась одна похожая история начала 80-х годов, когда во все возрастающем порядке деловое управление стало подменяться разной управленческой мишурой: придумыванием всеобъемлющих систем, контрольных и прочих комиссий, созданием эфемерных научно-производственных объединений и других казенных мероприятий.
Вот тогда-то Минчерметом по согласованию с Минтяжмашем было организовано несколько комиссионерских групп по проверке соответствия мировому техническому уровню последних пущенных в эксплуатацию крупных металлургических комплексов. Одной из таких, во главе которой был поставлен работник Минчермета Густав Карлович Лаур, поручили проверку цеха прокатки широкополочных балок. В состав группы входили кроме еще нескольких москвичей, Дроздецкая, Губерт и я.
Накануне назначенного дня совещания вечером мы с Дроздец-кой приехали в Тагил, а утром вместе с Губертом собрались в номере гостиницы и занялись подготовкой соответствующего документа на базе заранее мною еще дома сочиненного его чернового варианта. Москвичи с Лауром задерживались и собирались прибыть только завтра. А потому мы втроем, будучи давно уже полными единомышленниками во всем, что касалось данного объекта, его проектирования, строительства, пуска и освоения, его преимуществ и недостатков, быстро обсудили мой черновик, сколько-то подправили и напечатали в виде проекта общего комиссионерского решения. А назавтра положили проект на стол перед Лауром и остальными членами команды, представив его как плод нашей «напряженнейшей» вчерашней работы, проделанной нами, дабы не терять зря времени, а также упростить и ускорить работу группы в целом.
Лаур взял наш документ в руки, но, не дочитав и первой страницы, высокомерно изрек, что здесь все написано совсем не то, что требуется. Я примирительно с ним согласился. Что, возможно, и так, но что мы вчера в спорах при подготовке данного проекта полностью выдохлись и что у нас нет никаких свежих мыслей. Но если они есть у Густава Карловича и уважаемых остальных членов, мы предлагаем их сформулировать в письменном виде, а далее обсудить и принять. Лаур, как я рассчитывал, «клюнул» и тут же схватил чистый лист бумаги, услужливо ему поданный Дроздецкой. Достало его, как и Семенова, на одно первое слово. Произошла длительная пауза, после которой он попытался было пуститься в устные рассуждения, причем настолько убогие, что они едва ли могли быть перенесены на бумагу даже нашей, никем непревзойденной по таким случаям, Дроздецкой, а уж, тем более, самим Лауром. Я постарался насколько возможно вытащить его из весьма неприятного положения, к месту и не к месту ему поддакивая и успокаивая сложностью проблемы и что мы вчера в длительных разговорах и спорах якобы прошли через то же самое, пока не остановились, как нам кажется, на наиболее целесообразном варианте заключения с точки зрения его желаемой полезности. А в заключение привел еще и свою концепцию подхода к содержанию подобных документов.
Проект был принят без замечаний, подтвердив еще раз и мое мнение о неплохом, но недалеком, мужике – Лауре, и мой не раз проверенный на практике «способ» принятия взвешенного и по-настоящему делового решения по представленному на обсуждение проекту, сочиненному тобой заранее в спокойной, чаще ночной, обстановке.
24.04
Был на юбилейном вечере у Лены Муравьевой (Сигачевой), по случаю ее 50-летия. Вот что я там сказал в ее адрес.
«Просто не могу не обратить свое, свойственное людям моего поколения, ностальгическое внимание к истории тех дней, не будем подчеркивать их время, когда появилась на свет виновница нашего сегодняшнего торжества. Появилась в семье хорошо мне знакомой, глава которой стал затем близким моим другом. Так что эту даму, можно сказать, я знаю с пеленок, росла она полностью на моих глазах. Хотя должен заметить, что нет более быстрого процесса, чем рост и становление «чужих» детей, особенно, благополучных детей. Они вдруг, совсем неожиданно, начинают ходить и говорить, затем также незаметно поступают в школу, ее оканчивают и оказываются студентами, женятся и заводят собственных детей, а те уже, и вовсе мгновенно для нас, проходят по еще одной, уже своей, земной дороге.
Наша Елена образцовейший тому пример, ибо за все прошедшие годы я ни разу не слышал, не ведал ни об одной хотя бы самой малой «проблемке», связанной с ее движением по жизни. Причины? И тут я не могу не остановиться еще на одном основании, уже несколько философского плана.
Кажется, Джон Милль подразделил так всеми нами желаемую свободу на две ее категории: на свободу – freedom, т. е. «свободу для», и свободу – liberty, иначе «свободу от». Первая из них, благородно адресованная к интересам и благополучию других, была взята на вооружение Октябрьской революцией, после которой этим другим оказалась одна власть, а все остальные – одержимым «фридомской» свободой большинством. Вторую, через 70 лет, взяли на вооружение демократы. И, совершив фактически контрреволюцию, устроили для власти и ее опекающих «либертийскую» свободу, теперь не только по делу, но и на словах, от каких-либо забот и обязанностей по отношению к тому же вновь обманутому большинству. Как ни странно, но есть еще, ранее широко рекламированная марксистами, свобода как осознанная необходимость, как нечто, в моем понимании, подчиненное здравому смыслу оптимального движения человека по жизни.
Мне представляется, что наша юбилярша как раз руководствовалась именно этой последней свободой, которая обеспечивает любому человеку его благополучие. Не либеральный альтруизм, не противоположный ему эгоизм, а разумная устремленность к взвешенным решениям и разумным поступкам – вот кредо и основание быть всегда максимально довольным собой и своим окружением».
05.05
Из письма Цалюку
«Недели три назад, поскользнувшись, грохнулся так, что потерял на пару секунд сознание. Испугался, не сломал ли левую руку в плечевом суставе, и побежал в клинику. Сделал снимок. Опасения оказались напрасными: только ушиб и сильное растяжение мышц. На этом история не кончилась. Через три дня встретил на улице добрых знакомых. В ходе разговора рассказал им о ней и, как Хлестаков, стал себя при этом непомерно расхваливать. Какой я сильный и здоровый благодаря правильному образу жизни и прочее. Как я столь мощно свалился, но ничего при этом не сломал, и далее в том же духе некоего самовосхваления и превосходства уже и по другим случаям. Чувствую, раскудахтался несусветно, несет меня явно не туда, словно еще одного героя – Ноздрева. Наконец хватило ума остановиться. Извинился за многословие, их задержку пустой болтовней, и мы расстались.
Через каких-нибудь двадцать шагов, благо – мои знакомые не видели, поскользнулся опять и вновь полетел, теперь в лужу, но на тот же бок и на ту же руку. Первое, что подумал, лежа в ней, – о Боге, или ком другом кто есть. О наказании за грехи наши и, вроде, в полном соответствии с величиной последних. Выбрался из лужи весь в грязи, аж до исподнего белья, и задними дворами, дабы никто не видел, добрался до дома.
Три недели хожу на всякие процедуры. Немного оправился, но далеко не до конца. Рука пока все еще ограничена в движении и ноет, особенно по ночам. Домашние дела пришлось отложить, оттого появилось свободное время для приватизации квартиры.
Перехожу к «основной» части.
Первое несерьезное замечание о «полемике» и ее полезности опускаю, поскольку оно не соответствует дальнейшему содержанию твоего письма. На попутный тут вопрос о перемене места работы сообщаю свое прагматичное мнение.
Для руководящей, менеджерской, деятельности перемену места работы (через какое-то время) считаю полезным мероприятием. Для конструкторской работы, примерно моего профиля и моего уровня компетентности и результативности, наоборот, – абсолютно бессмысленным и ничем не оправданным делом. Это полярные суждения. Возможны промежуточные варианты, в зависимости от характера работы и самого субъекта.
Считаю, что только многоплановый анализ проблемы может привести нас к правильному решению. Тема эта для меня лично простая. Конечно, я мог бы тоже «придержаться» и высказаться менее категорично, но уж такова натура».
25.05
«Дорогой Марк! Получил твое весьма пространное и веселое письмо от 04.05.04, которое тобою, как ты меня информировал, не просто послано, а «было отдано знакомому почтовому работнику, принимающему заказные письма, 05.05 в 9 часов 20 минут».
Для полноты впечатлений докладываю, что мне лично уведомление о поступлении письма на нашу почту вручено 13.05 в 14 часов 00 минут домовой консьержкой. Не так чтобы быстро, но дошло. Не могу не заметить тут, что именно такие «мелочи» характеризуют истинное положение дел в стране.
Для пущей контрастности вспоминаю, как в лучшие наши времена (где-то в середине 50-х годов) московский поезд прибывал в Свердловск точно по расписанию, специально для того иногда притормаживая перед самым подходом к вокзалу. Я этим трюком машинистов – желанием проехать на ползучей скорости мимо вокзальных часов непременно в 00 минут – тогда просто умилялся. Часто, встречая кого-либо, специально становился под теми часами и, приветствуя проезжающего мимо машиниста, поднимал руку и показывал ему на часы. Смешно, но то были минуты моей гордости за свою страну.
Второе подобное умиление испытывал я, когда, возвращаясь из-за границы, видел мчащиеся на запад один за другим составы с металлом, рудой, нефтью, бензином, оборудованием, часто нашим, мне знакомым, уральским. По работе железной дороги и завода (да разве еще по числу новых линий электропередач) я всегда безошибочно судил о жизни страны, ее благостях, ее невзгодах! А вот одно витринное благополучие на меня почему-то никогда особо не действовало – ни у нас, ни за рубежом. Воспринималось оно всегда лишь как некое приложение к Главному. Но, кажется, я увлекся.
Перехожу снова к твоему посланию. Судя, дай бог не сглазить, по нему, твоим вообще последним письмам, их объемам и внешнему оформлению, весело прошедшему юбилею, хождения по врачам пошли тебе на пользу. Надеюсь, не ошибаюсь. Рад за тебя и желаю тебе еще большего здоровья и доброго настроения.
Насчет твоей послеюбилейной «придумки» (речь идет о вложении им в конверт 200 рублей на обмыв его юбилея) не могу сказать, что она была мною встречена с великим «одобрямс», но, тем не менее, принята к исполнению, и немедленно по вскрытии письма еще по дороге с почты домой. Я зашел в магазин, посмотрел на полки и выразил сожаление из-за отсутствия на них водки «Шустов», рекомендованной мне одним московским другом, дабы я тут с нашими общими приятелями именно ею отметил его недавно состоявшийся 80-летний юбилей. Все это, потрясая для наглядности твоим письмом и будучи под впечатлением прочтенного, я изложил весьма убедительно миловидной и симпатичной особе, обратившей на меня внимание сразу же, надо полагать, в связи с несколько необычно внимательным разглядыванием их спиртного изобилия.
– Почему нет? – возразила она мгновенно. – Не расстраивайтесь…
И через пару минут принесла мне две, действительно необычных и по форме и надписям, бутылки, будто специально для того доставленные только сейчас в их магазин. Такое вот совпадение. А какой эмоциональный заряд, я спрашиваю тебя, получили от сей разыгранной импровизации я лично, работники магазина, да и кое-кто из сторонних, из когорты любознательных, покупателей, оказавшихся ее случайными свидетелями? Теперь я строю планы, как, с кем и в какой очередности устроить мне за твое здоровье остаканивание. Собраться всем вместе практически невозможно. Начну с Нисковских, как наиболее мобильного, уже сегодня о том поставленного в известность.
Мое второе обращение к Путину, вызвавшее у тебя столь много лестных замечаний, разрешаю поддержать, считаю такую поддержку, используя твое выражение, вполне «уместной». Только прошу тебя сделать это более продуманно, чем в прошлый раз.
Ну и «на закуску» о метафизике.
В принципе я согласен со всем тобою приведенным. Но лишь с одним недоуменным вопросом, аналогичным моей реакции на твою реплику о величии марксовой теории прибавочной стоимости, как нечто таковом, без чего и мыслить-то здраво человек совсем не может. Я утверждал тогда, что это, мягко говоря, чушь, что наши с тобой рассуждения определяются иными моментами и что эти рассуждения будут практически одинаковыми вне зависимости от того, будем мы опираться на нее или нет. Исходя из более глобальных исходных оснований, определяющих наше мышление, мы придем к одним и тем же выводам. Маркс тут ничего не значащая капля в море человеческих знаний и приобретенного опыта. Так и здесь, теория «нейроме-диаторных выбрасываний» никакого отношения, считаю, не имеет к твоим последующим выводам, с которыми я полностью согласен. Не связаны эти выводы и с заключением о якобы наших различиях, что мне все будто ясно и понятно, а тебе нет. У нас, смею утверждать, одна мера и того и другого, и она определяется тем же, о чем я сказал выше. Твой «банальный вывод» (с которым я согласен) о том, что «всякая власть… должна обеспечивать удовлетворение потребностей человека», и всем остальном, что ты написал далее, – есть продукт элементарно-здравого мышления, а отнюдь не туманного, искусственно придуманного «оптимального уровня «выбрасывания».