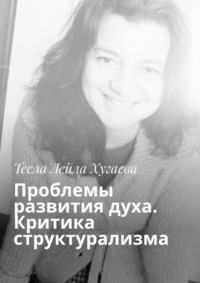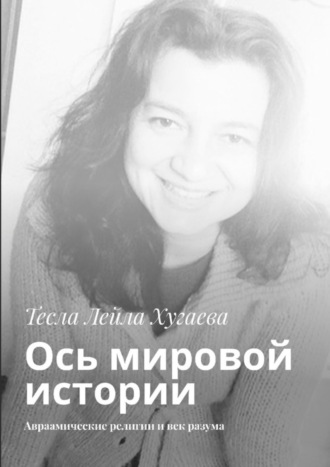
Полная версия
Ось мировой истории. Авраамические религии и век разума
Две вещи разрушили метафизику Платона:
1) неразвитость представлений о мире идей, об интеллекте как форме космоса, то есть как законов природных энергий; по этой причине Платон не увидел связи идей с опытом материального мира.
2) Философия гилеморфизма Аристотеля, в которой он противопоставил свою точку зрения материалиста метафизике интеллекта Платона. Ленин был прав, когда писал, что критика Аристотелем Платона есть критика с позиций материализма. Отказавшись от дуализма Платона и тем самым разрушив полюса интеллекта (активное мышление и пассивные законы природы), Аристотель тем самым пришел к скептицизму, в котором его позже упрекал Эпикур.
Разрушенная метафизика интеллекта всегда в конечном итоге ведет к скептицизму и даже к агностицизму, как мы увидим на примере противостояния рационалистов и эмпириков уже в Новое время. Поскольку только полюса интеллекта, мышление и законы природы, лежат в основе процесса познания. Уже в Новое время, когда метафизика интеллекта Платона получает новую жизнь в философии Френсиса Бэкона и рационализме Декарта, Бэкон писал об Аристотеле в «Новом органоне»:
С противостояния Платона и Аристотеля начинается проблема сущности и существования, номинализма и реализма, которая сохраняет свою актуальность до сих пор. Вопрос о том, существует ли мир идей Платона сам по себе, или же идеи – это только абстракции человеческого ума. На этот вопрос ответить несложно, если прежде дать определение процессу познания. Что есть познание: встреча двух полюсов интеллекта, активность единой субстанции интеллекта? Или же познание это только отражение одной вещи в другой такой же вещи? Понятно, что в первом случае, мир идей Платона – это интеллектуальная форма космоса, субстанция интеллекта, которая не только существует сама по себе, но и является изначальной формой всего сущего. Во втором случае, мы закономерно приходим к скептицизму эмпириков и материалистов, поскольку отрицаем процесс познания как некую объективную истину, и говорим всего лишь о субъективном восприятии, об отражении одной вещи в другой вещи.
Так и повелось, эмпирики, такие как Гоббс, Юм, Локк и материалисты Маркс, Энгельс, Ленин стояли на позициях номинализма, отрицая мир идей Платона, и склоняясь к скептицизму в теории познания. А метафизики интеллекта, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Бэкон признают мир идей Платона, как интеллектуальную форму космоса. Конечно, они в отличии от Платона говорят уже не просто об идеях, но о законах природы, и потому опыт, эксперимент уже в основе научного метода Декарта, Бэкона, Спинозы.
2) Рационализм и эмпиризм. Проблема Юма
Критика Аристотеля в отношении мира идей Платона имела успех, потому что первая теория метафизики интеллекта действительно была еще очень уязвима. Ведь Платон полагал, что поскольку мышление человека и законы природы (как мы называем его «идеи») есть одна субстанция интеллекта, то человеку не нужен опыт, не нужен экспериментальный материал, сбор и анализ фактов для процесса познания. Достаточно, как это делают математики углубиться в процесс дедукции, и мы уже владеем истиной.
Да, он был неправ, и очевидность его неправоты и сделала критику Аристотеля такой нетрудной работой и такой успешной в итоге. Ошибка Платона заключалась в том, что он еще не знал и не мог знать как именно соотносится форма и содержание, интеллект и материя. Однако, сам процесс познание, как единение двух полюсов интеллекта, мышления и законов природы (идей), он прозрел со всей проницательностью.
Новое время сделало крупные шаги в направлении восстановления метафизики интеллекта и устранения ошибок платоновского определения. И Декарт, и Бэкон говорят уже не просто об идеях, но о законах природы, и следовательно, опыт, как необходимая экспериментальная стадия «пытания природы», становится нераздельной частью процесса познания. Френсис Бэкон разрабатывает метод индукции, и говорит о необходимости обоих логических практик: и дедукции и индукции. Декарт ставит сотни экспериментов, участвуя в открытиях в области физиологии своего времени, и в частности в открытии кровообращения.
Декарт заново формулирует метафизику интеллекта Платона, как разработанную им философию рационализма, в основе которой все то же понимание познания как единения двух полюсов интеллекта: активного мышления и пассивных законов природы. Интеллект как единая субстанция противопоставляется в качестве формы – материи, выступающей содержанием этой формы. Законы движения природы уже больше нельзя изучать без самой этой природы, без анализа конкретных фактов и вещей.
Спинозу много обвиняли в том, что он предал метафизику интеллекта Декарта, отказавшись от картезианского дуализма, и стал материалистом, пантеистическое божество которого только синоним материи. Однако, для метафизики интеллекта важно не количество субстанций, признаваемых философом, а два полюса интеллекта: активный интеллект (мышление) и пассивный интеллект (законы природы). Френсис Бэкон остается классическим примером рационалиста и метафизика интеллекта (хотя его принято считать эмпириком), потому что его философия познания основана на понимании законов природы как интеллектуальной формы материи, и мышления человека как метафизики интеллекта, способной к познанию этой интеллектуальной формы законов природы. Поэтому неважно сколько субстанций у последователей рационализма Декарта: одна, как у Спинозы, или бесчисленное множество как у Лейбница. Важно только, что и Спиноза и Лейбниц, подобно Френсису Бэкону, признают процесс познания метафизическим актом соединения активного и пассивного полюсов интеллекта, а космос делят на материю и интеллектуальную форму этой материи, выраженную в законах природы.
Декарт успешно возражал на критику рационализма, сохранилась даже его переписка с Гоббсом, известным материалистом своего времени. Однако, когда пришел Давид Юм, со своим «Исследованием о познании», рационализм вновь, уже во второй раз потерпел полное поражение. В середине двадцатого века Б. Рассел писал в «Истории западной философии», что на аргументы Юма до сих пор нет значимого ответа. Существо критики рационализма, предпринятое Д. Юмом, состояло в том, что он заметил, что связь теории и фактов опыта, является уязвимым местом в системе рационализма Декарта. Это, по сути, был тот же подводный камень, о который в свое время разбилось судно Платона, – отсутствие связи с фактами опыта или же фиктивная, ложная связь, как заявил Юм в отношении рационализма Декарта.
Д. Юм объявляет связь теории и опыта ложной в рационализме, поскольку, заявляет он, никто не может доказать, что последовательность некоторых событий есть закон, описывающий причинно-следственные связи, а не просто последовательность событий, которая в иной случае может быть совсем другой. Он говорит, что даже если мы много раз видели последовательность этих событий, всегда одну и ту же, это все равно не доказывает, что и в следующий раз, и всегда в будущем она будет такой, а не другой. То есть не доказывает, что это закон, который отображает причинные связи, а не обычную случайность. Поэтому, говорит Юм, не разум не истина в основе того, что люди называют познанием. А всего лишь привычка и воображение, которое приписывает случайным совпадениям вид причинной зависимости закона. Д. Юм «О познании»:
Таким образом, он опровергает существование законов природы, и рационализм Декарта, как процесс познания, в основе которого постижение истины разумом. Д. Юм говорит о том, познания вообще нет, человек приписывает случайным событиям характер законов, разум никакой роли в этом процессе не играет, и истина человеку не доступна. Отсюда уже только один шаг до «априори» Канта, «чистый разум» которого, стал как известно ответом Юму, «разбудившему его от догматического сна».
А. Эйнштейн «О теории познания Б. Рассела», 1944:
3) Иерархия наук О. Конта и энергетика В. Оствальда
Вильгельм Оствальд, известный химик и нобелевский лауреат, современник Планка, Эйнштейна, Больцмана и Ленина, активно дискутировавших с ним, сформулировал в свое время теорию энергетики, как новую концепцию эпистемологии.
Эйнштейн был младшим современником Оствальда и Маха, и считал себя очень обязанным теории времени последнего, а к первому в юности безуспешно просился в аспирантуру. Однако, ко времени изложения теории познания Оствальдом как энергетики, он уже был известным ученым и сказал свое авторитетное мнение вслед за Планком. Метод Оствальда единодушно признали непригодным, хотя Планк говорил о «рациональном зерне», который он содержит.
Действительно, Оствальд предложил в «Философии природы» понимать космос как совокупность природных энергий, в том числе и самого человека. Он говорит о человека как о биологической энергии и психической энергии. Он говорит о процессе познания как о потребности человека в знании других энергий именно потому, что сам человек тоже всего лишь природная энергия. И он говорит о законе сохранения силы как решающем для человека, для всей материи и для процесса познания.
«Современная энергетика видит энергию как единственное универсальное обобщение. Все явления сводятся к свойствам и отношениям энергий, и особенно материя, если это понятие все еще можно считать полезным, должна быть определена в терминах энергетики. Вопрос зачем и для какой цели нам нужен такой поворот в мировоззрении, исчерпывается тем фактом, что понятие энергии, как опытной данности, доказало что оно шире, чем понятие материи. Как только это станет ясно, все дискуссии прекратятся. Мы не можем определить слово „человек“ словом „негр“, но мы можем сделать наоборот. Понятие света или электричества не может быть определено понятием материи, поскольку и свет и электричество определены как нематериальные объекты; но оба эти объекта могут быть определены понятием энергии, поскольку они разновидности или факторы энергии, из чего мы можем заключить, что понятие энергии действительно шире, чем понятие энергии. Что даже материю мы можем определить с точки зрения энергетики, – да, только энергетика способна дать материи единственно четкое определение» Оствальд Современная теория энергетики
Однако, Оствальд – эмпирик, он не признает законов природы, и он не может сформулировать определение природной энергии как системы законов, открывающих доступ к силе данной энергии. Например, как уравнения Максвелла позволили Герцу получить и проконтролировать электромагнитные волны, и как это вслед за Герцем делает с тех пор весь технический мир. Оствальд формулирует определение энергии как «количества работы», и предлагает вычислять энергии через закон сохранения силы в процессе их перетекания из одного вида энергии в другой.
Именно против этого «эвристического метода» так возмущенно выступил Макс Планк. Действительно, с эмпирической философской платформы энергетика В. Оствальда оказывается там, где она справедливо оказалась: на свалке истории.
В. Оствальд как и его друг Мах были известными эмпириками, поэтому Ленин объявляет этим «махистам» войну в «Материализме и эмпириокритицизме». Ленин хотел сохранить понятие «объективная реальность», уничтожив метафизику интеллекта. «Махисты», то есть эмпирики очень верно указывали ему, что это невозможно: либо метафизика интеллекта, либо объективная реальность. Здесь Ленин безусловно ошибался. Но в отношении энергетики Оствальда, «крупного химика и мелкого философа» его критика оказалась очень меткой. Он говорит о том, что поскольку энергетика Оствальда остается на философском фундаменте эмпиризма, то его теория познания не вносит ничего принципиально нового: «сказать ли движущаяся материя или материальное движение, – от этого суть не меняется».
Действительно, если исходить из позиций эмпиризма, то нет ответа на вопрос «материальна ли энергия», и основной вопрос философии, о котором говорит Ленин остается без ответа. Однако, если мы становимся на позиции рационализма и говорим о природных энергиях не как о «количестве работы», а как о системе законов природных энергий, своеобразных монадах Лейбница, духовных сущностях, представленных законами интеллекта, то все становится на свои места. Мы можем ответить на все вопросы, поставленные Лениным. 1. Энергии – материальны. 2. Но в своей основе они имеют нематериальные системы законов интеллекта, определяющих их сущность, форму движения каждой природной энергии. 3. Дух, это особая энергия человека, которой доступен и активный и пассивный интеллект. Она материальна и имеет в своей основе законы природы, как все прочие энергии. Но помимо этого, она обладает мышлением, которое позволяет открывать законы других природных энергий и получать доступ к силе этих энергий. 4. Интеллект первичен, материя – вторична, дух человека – материален и в то же время имеет источником происхождения интеллект.
Другое дело энергетика В. Оствальда с точки зрения метафизики интеллекта. Она становится неуязвима для критики, и метафизика интеллекта также впервые получает значимые аргументы против «проблемы Юма». Если природные энергии – это системы законов природы, открывающие доступ к силе этих энергий, то связь теории с опытом совершенна очевидна. Достаточно проверить, позволяют ли открытые законы данной энергии контролировать ее силу. И вот у нас уже неопровержимое доказательство, что мы имеем дело с законами природы, а не просто с последовательностями случайных событий. Проблема Юма решена на все времена. А «идеи» Платона, после эволюции, из законов природы превращаются в законы природных энергий. Так, не сразу, и не просто формировалась теория метафизики интеллекта, которая нашла свое завершение как энергетика.
Огюст Конт предложил иерархию наук, которая позволяет представить науки как последовательно открываемые природные энергии. Дж. Милль пишет, что первые науки не включают знаний о законах тех, что были открыты позднее, и, следовательно, каждая может быть представлена как система законов природной энергии
Эту последнюю задачу, как мы постарались показать в первой главе, с успехом выполнила теория психической энергии, сформулировав закон сохранения психики для поля интеллекта и поля эгосистемы в качестве такого основного систематизирующего закона психологии.
4) Шеллинг и Кьеркегор против Канта и Гегеля
Кант, как известно, представил свою философию «чистого разума» как ответ на поставленную проблему Юма. И его ответ ничего значимого в себе не содержал. Он сказал просто, что если нельзя доказать опытным путем истинность законов природы (существование причинных связей), то тем хуже для опыта. Опыт, который он обозначил «вещами в себе», совершенно не участвует в процессе познания, заявил Кант, потому что человек имеет все знания о законах природы «априори». Это не врожденные идеи Платона и Декарта, которые понимали под ними скорее просто аппарат мышления, инструментарий, которым мысль находит знание, находит законы природы. Это уже готовое знание законов природы, которое человек просто приписывает окружающему миру. Д. Юм говорил примерно то же самое, но он оставался на почве эмпиризма, трактуя эту склонность человека приписывать своим наблюдения статус закона с психологической точки зрения, – привычки, воображения или «инстинкта». Кант претендует на создание новой метафизики рационализма, но терпит полный провал. Его метафизика – это метафизика абсолютной свободы воли человека, и потому она превращается в мистику. Метафизика интеллекта не имеет в себе ничего мистического, она основана на понимании процесса познания как соединения полюсов интеллекта, активного мышления человека и пассивных законов природы, где интеллект есть единая субстанция. Кант разрушил эту субстанцию, отказавшись признавать законы природы, и всучив человеку всю власть над процессом познания, где он сам же выдумывает и сам же познает эти законы. Таким образом, субъективный идеализм – это всегда мистика, спекулятивная мистика, порожденная пустыми абстракциями интеллекта.
Фихте, Гегель и Маркс только продолжили эту философию субъективного идеализма Канта. Фихте правильно определял свою философию как доведенную до логического конца философию Канта, – и у него она принимает выраженные черты субъективного идеализма. «Непосредственный преемник Канта, Фихте, – пишет Б. Рассел в „Истории западной философии“, – отверг „вещи в себе“ и довел субъективизм до степени, которая, по-видимому, граничила с безумием. Он полагал, что Я является единственной конечной реальностью и что она существует потому, что она утверждает самое себя. Но Я, которое обладает подчиненной реальностью, также существует только потому, что Я принимает его. Важным результатом развития философии Канта была философия Гегеля». Гегель говорил, что превратил субъективный идеализм Канта и Фихте в объективный идеализм, но он сильно ошибался. Объективный идеализм – это метафизика интеллекта, и два полюса интеллекта как процесс познания: мышление человека и независимые от него законы природы, которые он узнает и ставит под научный контроль. У Гегеля, как у Канта и как у Фихте есть только один полюс интеллекта – самоопределяющийся разум-абсолют, который также свободен самому себе придумывать законы, как субъект у Канта и Фихте. И потому неважно как называет его Гегель, всеобщим духом или пробужденным сознанием индивида, – два полюса интеллекта разрушены, а значит, метафизика интеллекта превратилась в мистику всемогущего субъекта, в софистику субъективного идеализма. Вот как пишет об этом П. Новгородцев в «Кант и Гегель и учение о праве»: «Все зависит от того, говорит здесь наш философ, чтобы понимать истину не только как субстанцию, но и как субъект. Это утверждение означает, что философия должна исходить не от первоначального или непосредственного единства, раз навсегда определенного в своем абсолютном совершенстве, а от живой субстанции, заключающей в себе начало отрицания и движения и достигающей своей полноты через деятельный процесс самоосуществления. Это не покоящееся и неизменное бытие, а процесс самоуглубления и самоосуществления. Иначе говоря, это-дух, начало жизни и сознания, самопостижения и саморакрытия. Абсолютное как субъект, как дух, как живой процесс развития – вот его философское кредо».
Ленин, который с такой язвительностью критикует «леших и домовых» «субъективного идеализма» Канта и Фихте в «Материализме и эмпириокритицизме» не замечает, как сам оказывается одним из махровых мистиков субъективного идеализма. Вместе с Марксом, разумеется. Ведь Маркс сохранил диалектический метод и историзм Гегеля, его теорию саморазвивающейся логики, которая уничтожила два полюса интеллекта. А уж «материи» он приписал этот процесс самопридумывания законов, или «чистому разуму» – это уже выбор мифологии на вкус мистика, поскольку понятий материя и разум не может существовать вне метафизики интеллекта, которая показывает где форма, а где содержание. Они превращаются в пустые абстракции. Не все ли равно сказать «материя придумывает себе законы» или сказать «дух-абсолют придумывает себе законы»? И в том и в другом случае получается одинаковая бессмыслица. Не потому ли вся философия диалектического материализма Маркса стала притчей во языцех своим схоластическим основанием, способным трактовать одно и то же в разных направлениях, придумывая на ходу повсюду связи с «практикой». Маркс всего лишь завершил ряд мистиков немецкого идеализма, над которыми Кьеркегор посмеялся в связи с изобретенным ими фантастическим понятием «чистого мышления».
Фридрих Шеллинг знаковая фигура в истории философии, но не философской системой, которую он так и не создал, как известно, а именно критикой своих коллег, которых он знал лично. Подобно Лессингу, которого он цитировал, он предпочитает философию рационализма Спинозы субъективизму Канта, Фихте и Гегеля. Фихте какое то время был его учителем, но позже Шеллинг никогда этого не признавал, называя его «коллегой». Гегель был его однокурсником и другом, что не помешало Шеллингу выступить против него со всей страстью оскорбленного ученого. Он первым указал на мистичность субъективного идеализма, берущего начало у Канта и завершающегося в диалектической логике Гегеля. Он был возмущен таким нахальным пренебрежением реальным миром, природой, который оказывался совершенно ненужным в этом новом извращенном рационализме спекулятивных мистиков. Так, А. Гулыга цитирует Ф. Шеллинга в книге «Шеллинг»: «Природа, мир вещей самих по себе пребывает у Канта в „почетной отставке“, как выразился Якоби, люди с помощью продуктивного воображения сооружают свой самостоятельный мир. Шеллинг увидел в этой мысли слабое место кантианства. Еще в молодости он призывал исходить из природы. Теперь он добавил: и приноравливаться к ней, привести кантовский мир „беспредельного, ничем нерегулируемого человеческого произвола“ в соответствие с природой. Эта программа куда более разумна, чем гегелевское представление об абсолютной истине».
С жесткой критики Шеллинга с позиций натурализма и рационализма, предпринятой им в отношении субъективного идеализма Канта, Фихте и Гегеля, которым он противопоставлял Спинозу, начинается систематическая критика немецкого идеализма уже и другими философами. Так, Фейербах, а за ним и Кьеркегор говорят о том, что Шеллинг открыл им глаза на безумную философию Гегеля. А. Гулыга цитирует в этой связи Шеллинга в книге «Шеллинг»: «Понятия как таковые существуют только в сознании, объективно рассмотренные, они не предшествуют природе, а следуют за ней. Гегель лишил их естественного места, поставив их в начале философии». В результате абстрагирование от действительности предшествует самой действительности. Гегель объявляет свою логику наукой о том, как развертывается божественная идея в чистом мышлении, до всякой природы, до времени. Как же затем идеальное превращается в реальное, как мысль создает мир, логика природу? По Гегелю получается, что природа – всего лишь «агония понятия». Шеллинг нащупал самую уязвимую точку гегелевской философии. Именно сюда нанесет удар материалист Фейербах. Фейербах будет потом критиковать и Шеллинга, но сначала он скажет Шеллингу спасибо».
Энгельс и Маркс также хвалят Шеллинга за развязывание войны с идеализмом с позиций натурализма, однако, они недовольны тем, что он при этом остается метафизиком сам. Наконец, философия позитивизма самого известного после Юма эмпирика, Огюста Конта почти полностью обязана идеям Ф. Шеллинга, высказанным им в критике Гегеля. Закон трех стадий сознания, который ляжет в основу позитивизма Конта, по сути, повторяет курсы философии Шеллинга о мифологии, о негативной и позитивной философии: мифологическая, метафизическая и позитивные стадии сознания у Конта.
Шеллинг говорит о сущности и существовании, и о том, что существование всегда предшествует сущности. Это старая проблема мира идей Платона и гилеморфизма Аристотеля, которая в средневековье получила развитие в виде противоборства реализма и номинализма. Существуют ли идеи сами по себе или они только абстракции вещей? Аристотель противопоставлял вещь и ее сущность, как существующую реальность и несуществующую абстракцию. Платон считал, что сущность вещи (идея вещи) существует также как сами вещи, но в другом, совершенном, идеальном мире, предтечи материального мира вещей. Для Платона сущность предшествует существованию, то есть идеи предшествуют вещам реального мира, наделяя их формой и сущностью. Реалисты стояли на стороне Платона, номиналисты – на стороне Аристотеля. Пон
Шеллинг поднял этот вопрос уже в новой формулировке сущности и существования. Что было раньше, наш материальный мир, природа (то есть существование), или знание законов движения (то есть сущности) этого мира? Кант, Фихте и Гегель говорят, что сначала было знание (сущность), а уже потом природа и мир (существование). Шеллинг им возражает со всем пылом натуралиста: сначала была природа (существование), а только потом, анализируя эту природу, люди смогли познать ее законы (сущность). Конечно, в этой интерпретации прав Шеллинг: у людей нет априорного знания, как говорят Кант, Фихте и Гегель, все что человек знает, он узнал путем анализа, исследования природы, индукцией и дедукцией.
Человеческого знания априори не существует, но существует интеллектуальная форма космоса в виде законов природных энергий и существуют врожденные идеи в виде аппарата мышления, способности человека к логике и математике. И в этом смысле прав Платон, когда говорит о том, что интеллект первичен по отношению к материи, и что сущность определяет существование. В этом существо метафизики интеллекта, которую на тот момент еще не могли сформулировать. Однако, Шеллинг интуитивно чувствовал правоту метафизиков, и так никогда и не стал ни эмпириком, ни материалистом.
Он делит философию на негативную, такую, которая, как у Гегеля идет от мысли к бытию, и на позитивную, которая движется в обратном направлении, от бытия к мысли. Это проясняет источник знаменитого тезиса своего материализма Маркса – «бытие определяет сознание».
У Конта негативная философия Шеллинга получает название метафизической стадии мышления, которой Конт приписывает полностью негативное значение. Конт считал, что стадия метафизического сознания, будучи пустыми абстракциями, оторванными от реальности, ничего позитивного науке не дала. Ее роль только в разрушении старого, в очищении плацдарма для грядущей позитивной науки. Так, позитивная философия Шеллинга (эмпиризм движения от бытия к мысли) обретает статус окончательного научного сознания в философии позитивизма Конта. Так, Шеллинг невольно сильно повлиял через философию Конта на формирование резко негативного отношения к метафизике вообще. До сих пор, слово «метафизика» в научных кругах звучит как ругательство, поскольку со времен Конта стало синонимом слова «мистика».