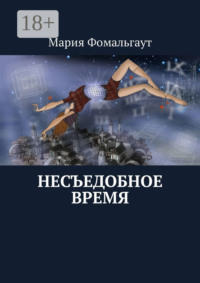Полная версия
Правила челолова
Отступаю из холла в фойе, натыкаюсь на труп, черт, я уже и забыть успел, вот так вот, совсем хорошо, а с этим мне как разбираться, не в саду же закапывать, а что еще, вот и придется браться за лопату, которой у меня нет…
Щелкает замок.
Хлопает дверь.
Тишина, от которой можно оглохнуть.
Смотрю на неподвижное тело, теперь только осталось, чтобы он поднял голову и встал, вот только этого сейчас не хватало. Убитый не поднимает голову – сразу вскакивает удивительно резво, делает шаг ко мне…
Ору в голос, выскакиваю гостиную, окно, окно, где здесь окно, открыть, бежать на край света…
Мертвец фыркает:
– А здорово мы его провели, а?
– Так вы… не умерли…
– Да пока еще нет, успеется… – он заговорщически смотрит на меня, – так у вас там правда… – понижает голос, – темная… комната?
Догадываюсь:
– Так это он вас… из-за комнаты?
– Да из-за какой комнаты, кому она нужна, комната эта вообще? Кот!
– Чёрный… кот?
– Вот именно! Чёрный кот! Он должен быть в темной комнате, просто должен быть…
– Думаю, кто сошел с ума, я или все вокруг, поверить не могу, что один человек убил другого из-за какой-то безумной легенды про черного кота в темной комнате…
– Кот будет моим… даже не сомневайтесь…
Щелкает причудливым оружием, не могу толком понять, что это такое вообще.
Мерзкий холодок.
– Вы… вы что… хотите его убить?
– Ну, разумеется.
– П-постойте… я про кота…
– Так и я про кота, хотя вы правы, этого негодяя тоже пристрелить не мешало бы… кот будет моим…
Я так и не понимаю, что ему будет с этого кота, только по тону понимаю, – что-то особенное, что-то крайне важное, что-то, ради чего и правда стоит объехать полмира и застрелить других искателей, чтобы не добрались до кота… Несостоявшийся мертвец идет к двери в темную комнату, у меня что-то обрывается внутри, иду за ним на ватных ногах, бормочу что-то, да постойте, да как же, да кот же, да нельзя же…
Он разворачивается, направляет оружие на меня, глаза бешеные:
– Ни с места.
Замираю, уже чувствую, что пристрелит, не дрогнет. Он распахивает дверь темной комнаты (!) – не выдерживаю, выметаюсь в спальню, чтобы та чернота за дверью не поглотила меня…
Тишина.
Еле слышные шаги.
Сдавленный крик.
Два выстрела, почти одновременно.
Стук – какой-то обмякший, приглушенный, понимаю, что падают два тела.
Холодок по спине.
Осторожно выглядываю в холл, тут же отскакиваю, вот черт, предупреждать надо, что дверь распахнута, и черная зияющая пустота щерится на меня.
Ну, давай же, говорю я себе.
Давай же.
Пять шагов.
И снова боязно, как в детстве, и хочется захлопнуть дверь спальни, нырнуть под одеяло, затаиться, спрятаться, чтобы то, темное, не схватило, не сцапало, чтобы… тяну руку к выключателю, так и жду, что в неё кто-нибудь вцепится, нет, никто не цепляется, щелкаю кнопкой, свет получается какой-то тусклехонький, таким светом тьму не прогнать…
Сжимаю зубы.
Идти.
Идти.
Захлопнуть эту чертову дверь…
…и он пошел в темную комнату, и с тех пор никто его не видел…
Выбираюсь в холл шажочками-шажочками подхожу к черной бездне…
– Мя?
Вздрагиваю от этого настойчиво-вопросительного Мя, подскакиваю на месте, вот черт…
– Мя?
Обхожу дверь, шепотом-шепотом-шепотом…
– Мя!
Не выдерживаю, шепчу в темноту комнаты:
– Кс-кс-кс-кс-кс…
– Мя-а-а-а!
Бегу через столовую к кухне, открываю холодильник, вытаскиваю кусок индейки, что я делаю вообще…
– Мя?
Иду через столовую, только сейчас ловлю себя на том, что мне не страшно, а ведь я к темной комнате иду, а мне не страшно, нет, все-таки страшно, бросает в жар, когда вхожу в темноту комнаты, и дальше, дальше, протягиваю индейку…
– Мя-а-а-а!
Что-то касается моей руки, что-то теплое, мохнатое, щекочущее усами, что-то чавкает, обдает влажным дыханием…
Протягиваю руку, глажу пушистый мех.
Сейчас я узнаю, что может кот…
Сейчас узнаю…
Пятикомнатный фонарь
…дело в том, что у моих родителей не хватило денег на нормальный дом – тогда ни у кого не хватало денег на нормальные дома – но мой отец в отличие от многих и многих не растерялся. Поэтому для жизни мы облюбовали старый фонарь, который висел на перекрестке двух уже не существующих улиц. Мы арендовали его за смехотворную сумму, нам повезло, что никому не пришло в голову брать много денег за старый фонарь.
Конечно, вчетвером уместиться в фонаре было сложновато (с родителями тогда жила моя тетушка Салли), но выбора у нас не было. Когда меня спрашивали, где я живу, я с гордостью отвечал – в фонаре, и те, кто помладше, даже завидовали мне, что я живу в фонаре. Правда, те, кто уже приблизился к рубежу взрослой жизни, только презрительно фыркали – но меня это не смущало.
Больше всех нашим фонарем гордился отец – например, он не уставал напоминать нам, что фонарь непременно должен светить, а поэтому мы все обязаны светиться. Не спрашивайте, как мы это делали, не говорите, что люди не могут светить – в то время я не задавал себе таких вопросов. Отец велел мне светить, и я светил во всю мочь. Тетушка Салли, правда, жаловалась, что устает светить так много, но глава семьи и слышать не хотел никаких возражений.
Сколько я себя помню, столько у нас были проблемы с тем, что мы живем в фонаре – то городские власти возмущались, что нельзя жить в фонаре, а отец с пеной у рта доказывал, что нет такого закона. То кто-то жаловался, что наш фонарь был повешен на доме, который снесли тридцать лет назад, и теперь крепление с фонарем висит в пустоте. Поэтому я даже не испугался, когда нам в очередной раз принесли извещение, что наш фонарь подлежит сносу, ну, не сносу, ну, чему там может подлежать фонарь. И напрасно – потому что в тот же день наш фонарь сняли с пустоты, на которой он висел, и унесли за черту города.
Я не могу сказать, что для нас это было большой трагедией, за городом мы устроились довольно неплохо, – отец с гордостью говорил, что наконец-то мы можем повесить наш фонарь не на пустоту, а хотя бы на сосну в лесной чаще.
Здесь хочется оптимистичного продолжения истории – например, что мы купили или получили квартиру в городе, или кто-нибудь оставил нам приличное наследство, – но ничего подобного не произошло, мы так и жили в фонаре, одиноко висящем на дереве. Хочется сказать, что когда я вырос, то переехал в какой-нибудь город и выбился в люди – но и этого не произошло. Может, мне не хватило упорства и настойчивости, а может, люди не хотели иметь со мной дело, потому что я светился. Свечение настолько прочно вошло в нашу жизнь, что я уже не представлял себе, как можно не светиться, и кажется, если бы попробовал перестать светиться, у меня не получилось бы. Все мои попытки устроиться в городе заканчивались полным провалом, мне даже казалось, что люди посмеиваются надо мной.
Поэтому я немало изумился, когда люди пришли к нам в лес. Это было тем более странно, что лес посетили не какие-то случайные люди из бедных районов, которые иногда перекидывались с нами парой слов, – нет, на опушку пришли градоначальники, важные и чванливые отцы города. Они вежливо говорили что-то, что произошла ошибка, и что наше семейство имеет полное право жить в старом фонаре на перекрестке двух несуществующих улиц. Отец торжествовал, он без устали повторял нам всем, что мы победили, что справедливость восстановлена, – и только я не разделял его восторга, я чувствовал, что за поведением горожан скрывается что-то страшное.
Предчувствия не обманули меня – когда мы торжественно вернулись в город, и отгремели пышные празднества, я посмотрел на небо, посмотрел как следует, по-настоящему – и не увидел на небе солнца.
Я спрашивал у людей, куда они дели солнце – горожане поспешно отводили глаза, сворачивали разговор, тушевались, растворялись в лабиринтах улиц. Я спрашивал себя, что они сделали с солнцем – и что они рано или поздно сделают с нами, ведь мы так похожи на солнце…
Тем же вечером меня посетила еще одна тревожная мысль – я спросил себя, что делается в других городах, ведь над ними тоже нет солнца. Это было тем более странно, что раньше я не думал ни про какие другие города, и сомневался, есть ли они вообще. Я осторожно спрашивал у отца – что там с людьми за пределами нашего города – он только недовольно фыркал и бормотал, что ему нет до этого никакого дела.
Мне тоже не должно было быть никакого дела до того, что происходит где-то там, там – тем более странно, что я выискал на старинных картах, где находится ближайший город, – в шестидесяти километрах к северо-западу – и под шумок направился туда…
…чем дальше, тем меньше я верю, что дойду до города, – слишком безвыходным лабиринтом выворачивается темная чаща. А еще не дают покоя сны, настолько тревожные и страшные, что с каждым таким сном все меньше хочется идти вперед.
Иногда мне снится, что впереди нет никакого города, что карты врут, мало ли что эти карты скажут, мало ли что насочиняют, выпьют лишнего вечером в баре, и начинают травить всякие истории о городах. В другие ночи или в другие часы приходит сон, который говорит, что я опоздал, что города где-то там за лесом покрылись вечными льдами, и я найду только закоченевшие трупы.
Бывают и иные сны – которые кажутся светлыми, но на самом деле только сильнее нагнетают тревогу. Например, мне снится, как я прихожу в город – большой, величественный, намного больше и прекраснее, чем город, в котором я жил. Я вижу обледеневшие городские ландшафты, я вижу людей в темноте вечной ночи, которые бегут навстречу моему свету, подставляют ладони теплу. Я нахожу старый фонарь на перекрестке двух улиц, я устраиваюсь в нем, даже делю на комнаты, чтобы у меня была спальня, кухня, кабинет, я освещаю город.
И когда уже кажется, что все будет хорошо – мне снова становится страшно, когда я вспоминаю, что я не вечен, что однажды я погасну навсегда, и некому будет освещать город. Я не знаю, что делать, – пока не появляется Бетти, и даже когда появляется Бетти, я не знаю, что делать, я веду её в какое-то кафе, я осторожно говорю с ней, что она думает про большую семью, когда стайка ребятишек вечерами собирается в комнате и слушает сказку. Бетти смущена, я вижу это, Бетти не думала ни о чем таком. Думаю, сколько девушек в городе мечтают о встрече со мной, и у скольких мне еще придется спросить.
А потом замечаю, что Бетти тускло светится в темноте – еще тускло, но уж светится.
Я знаю, что делать, я хожу по улицам, я говорю с людьми, я улыбаюсь им – люди начинают тускло мерцать, потом разгораются все ярче.
Я спокоен за город.
Теперь я по-настоящему спокоен за город, и даже выискиваю на картах другие города – на мою беду они оказываются бесконечно далеко, я понимаю, что не успею их достичь.
А потом, – говорит мне сон, – люди скажут мне, что я должен им кругленькую сумму, потому что аренда фонаря стоит очень дорого, ну а как вы хотели, город дорогой, а вы тут целый фонарь себе отхватили… А вы скажете – говорит мне сон – что у вас нет денег, откуда у вас вообще деньги, вы успели напрочь забыть, что есть какие-то деньги, да вы много что успели напрочь забыть. И тогда люди скажут, что так нельзя, что вы должны быть казнены, сию минуту, немедленно, и потом вы будете вспоминать, что они сами виноваты, направили на вас ружья, а вам что было делать, только вспыхнуть ярко-ярко и сжечь их всех, всех, дотла, до самой последней улицы. И вы останетесь один в пустом городе, который теперь будет тускло мерцать…
Так говорит мне сон – и я стараюсь не слушать его, не слушать, просыпаться и идти дальше в темноту леса, искать город, где для меня найдется одинокий старый фонарь…
То, чего нет
Главное – не заиграться, говорю я себе, и понимаю, что заигрался уже давно, окончательно, бесповоротно, и это уже больше, чем игра, это где-то там, внутри меня, в самой глубине подсознания. Прямо-таки вижу, как мысли скользят в мозгу по накатанным дорожкам, пытаются вырваться из колеи, не могут.
– С добрым утром.
Это Лада. Как всегда, поставила жарить яичницу, и пошла белье замачивать, в этом вся Лада, спохватится, когда из кухни горелым запахнет, или когда вода через край побежит на пол, или еще когда-нибудь. Мимоходом думаю, надо бы однажды застать Ладу за какой-нибудь книгой, или увлечение какое ей предложить, пусть там игрушки шьет, или еще что такое…
Я ничего не скажу Ладе про свои мысли.
Ничего.
Выхожу во двор, припорошенный снегом, сразу вижу цепочку следов, вот она тянется от ограды к курятнику, чер-р-рт…
Кидаюсь проверять ограду, быть не может, чтобы прорвали, проломили, прогрызли, а ведь кто-то же как-то попал сюда… Нет, ничего, стоит целехонькая, значит, остается только одно, – кто-то перемахнул эти три метра, вот так, легко, просто, прикидываю длину прыжка – спину пробирает неприятный холодок…
Курятник… вернуться в прихожую, взять ружье, проклясть себя, что вышел без ружья, осторожно заглянуть в сараюшку, почему куры не кудахчут, они должны переполошиться как ошалелые, пух-пух-пух-пух-пух-пух, а тут – тишина…
Прислушиваюсь, присматриваюсь к полумраку, уже готовлюсь увидеть растерзанные тела, стены, забрызганные кровью. Нет, ничего, странно, что ничего. Только сейчас замечаю – цепочка следов идет куда-то в обход курятника, куда-то в узкий проход – похоже, незваный гость не смог открыть дверь, пошел искать другие пути…
Заглядываю в крошечный проулок, буквально натыкаюсь на зверя – смрадная пасть, гноящиеся бельма глаз, даже не сразу понимаю, два их или четыре, и вообще, стоит он на двух лапах, или на четырех, нет, все-таки на четырех, а эти две спереди тогда откуда, эти две, которые вонзились в меня когтями… Ножичек, ножичек, скорей, скорей, бить-бить-бить, зажмуриться, когда летят в лицо кровавые брызги, наконец, оттолкнуть от себя это смрадное, удушающее, уже мертвое…
…а все-таки у него шесть лап, нет, восемь, вот еще где-то две на спине, и две пасти, одна спереди, мощная, убивающая, вторая чуть пониже, какая-то нелепая, неразвитая, от этого еще более омерзительная…
Присыпать кровь на снегу, выволочь труп за ворота, тяжелый, с-сука, а теперь подальше, подальше от дома, пока не сбежались на кровавые запахи… Сбрасываю с обрыва, снизу разлетается-разбегается что-то несуразное, машет зачатками не то крыльев, не то не пойми чего…
Домой. Сбросить в прихожей куртку, припрятать хорошенько, чтобы Лада не видела порезы… поздно, уже увидела, уже ворчит, ну где ты эти гвозди постоянно находишь, давно пора курятник в порядок привести, чего тебя туда понесло, я утром уже яиц набрала…
Хлопаю себя по лбу, а ведь не сходится, не сходится, если Лада там утром была, она бы зверя увидела… или нет, Лада еще до рассвета к курам наведалась, а зверь появился позже, хоть на минуту, но позже… Прошибает запоздалый страх, если бы она помедлила хотя бы минуту, если бы…
…Лада будит детей, завтракать, завтракать, Даньку, как всегда, не добудишься, да и Таньку тоже, что за дети вообще, я в их годы ни свет, ни заря подскакивал, когда в школу не надо было, а им все время в школу не надо, а они спят… Могли бы и завтрак сами сообразить, пора бы уже уметь. Думаю, что хуже – или когда детей не добудишься, или когда они сами ни свет, ни заря подскочат, шум-гам поднимут…
Данька-Танька ломятся к столу, одергиваю головорезов, а умываться, а причесаться… Устраиваемся за столом, мимоходом слежу, чтобы что-нибудь не перевернули, дети все-таки. Ага, проснулись, шумят, галдят, дразнятся, Данька трещит про актрису прогорелого театра, это он про Таньку. Даже не одергиваю, что не прогорелого, а погорелого, это объяснять придется, и долго…
…Танька актрисой стать хочет. Прикидываю, чего я боюсь больше, что она передумает или что она не передумает. Танька на Даньку сердится, а вот в Москву поеду, актрисой стану, а вот в театре выступать буду, а все смотреть пойдут, а тебя вот не пущу, да! Данька ржет, да кто на тебя смотреть пойдет, страхолюдина чучельная, Танька визжит, а вот в Москву поеду, а тебя в Москву не пущу, понял, да? Данька орет, а нету, а нету твоей Москвы, и тут уже Танька слезами заливается, па-а-п, ма-ам, ну скажите ему, что е-е-есть…
Я не знаю, что ответить, мне нечего отвечать, мне тоже очень хочется сказать, что есть, – но откуда мне знать…
А Танька актрисой хочет быть.
Это она в каких-то журналах насмотрелась, чего Лада вообще журналы ей эти подсунула, красиво, видите ли, ну и что, что красиво, а ребенок теперь грезит непонятно о чем…
Хлопаю в ладоши, так, куда разбежались, марш, марш со стола убирать, посуду мыть, а потом, Тань, будешь мне Джульетту играть, как она на балконе, десятка слов не сказано у нас, а как уже знаком ей этот голос, ты не Ромео, не Монтекки ты… А вот теперь сыграй так, будто эту Джульетту играет… злая ведьма из Белоснежки, вот она в Джульетту превратилась, всех обмануть хочет, а все равно видно, что это ведьма… Нет, так ты просто голосом злой ведьмы говоришь, а ты представь, она в юную девушку превратилась, и не отличишь… а чем она себя выдаст? Невольным жестом, или взглядом каким, или интонацией… А ты как хотела, голуба, актрисой быть, это тебе не на обложке журнала сидеть, это работа адова, ты уже не знаешь, как выпендриться, а режиссер сидит себе, покрикивает – не ве-е-е-р-ю-ю-ю-ю-ю!
Шорох. Там, снаружи. На крыше. Вот это вообще дело дрянь, что на крыше, так эта нечисть меня не спросит, куда лезть, куда не лезть, я бы еще таблички повесил, сюда нельзя… Выхожу в холодок уже не осени, но еще не зимы, смотрю по сторонам, нет никого на крыше, показалось, да не показалось, что-то скрежещет, скребется что-то, только бы не на чердаке…
Обхожу дом шажочками-шажочками в сторону курятника, тут-то оно и валится на меня сверху, падает в двух шагах на тающий снег… Выпускаю всю обойму, летят кровавые ошметки, чер-р-р-т, сколько раз себе говорил прицеливаться, точно, аккуратно, чтобы одним выстрелом, нет же, каждый раз как вижу вот эту всю нечисть, так выпускаю всю обойму, ну, конечно, у меня же личный патронный завод, и не один, штук десять, не меньше…
И сколько раз зарекался не смотреть на вот это, подстреленное, и снова смотрю, на голову, похожую на морду кабана, на нелепые клыки, которые не помещаются в пасти, на безумное хитросплетение лап, суставы, суставы, суставы…
…оттащить, – на этот раз не так тяжело, – сбросить с обрыва, где уже налетели эти, недокрылатые, это плохо, что налетели, так и к дому подберутся, еще только возле дома мне дряни этой не хватало. А потом доделывать ограду, здесь, сейчас, выше, выше, заключить дом в клетку, чтобы больше ни одна тварь не проломилась…
Лада не понимает – зачем, Лада спорит со мной, лучше бы крыльцо до холодов починил, Лада никогда не поймет, зачем сетка, Лада не видит этих, лезущих из темноты леса.
Понимаю, что заигрался. Слишком сильно, чтобы отступить. Понимаю, что надо что-то делать, – когда натягиваю сетку на колья. Понимаю, что ничего уже с собой не сделаю, это уже давным-давно перестало быть игрой, вросло в меня, пустило корни в сознание.
Данька помогает с сеткой, Данька хочет на крышу, ну пожа-а-алуйста, я не хочу пускать Даньку на крышу, мне страшно за Даньку, и тут же корю себя, что это за жизнь такая, когда даже на крышу не залезть, это же так важно, когда тебе десять лет, чтобы на крышу, а оттуда деревеньки видно, а Данька будет спрашивать, кто в них живет, а в них никто не живет, и придется объяснять, а почему…
Я рассказываю Даньке про дальние страны, которые там, далеко, про Италию, где эта самая Джульетта танькина жила, то есть, на самом деле не жила, её Шекспир придумал, а Шекспир в Англии жил, остров такой, там еще Робин Гуд был, и король Артур, и Шерлок Холмс, и безумный Шляпник, то есть, что я несу, их не было никого, это же все выдумки…
Выдумки…
Что-то карабкается по сетке, сбиваю одним выстрелом, Данька кричит, а чего там было, я вру что-то про лису, Данька не понимает, а лисы чего, по сеткам лазают, я вру что-то, ну да, иногда бывает такое…
Идем домой, дома скандал, вот только скандала нам еще не хватало, ну что там опять случилось, сколько раз Ладе говорил, чтобы за каждую разбитую чашку на детей не орала, как потерпевшая, чашки, конечно, тоже не бесконечные, и все-таки…
Меня разбирает смех, когда я вижу Таньку в длинной шторе с прорезями для рук, как она вообще гардину эту тяжеленную сняла, а, она её не сняла, а половину от неё отрезала…
Обнимаю Ладу, шепчу что-то на ухо, а мы в воскресенье в город съездим, где «Камелот», а мы там штору новую возьмем, и Таньке платье какое… да и вообще чего бы её шить не научить, пусть себе костюмы всякие придумывает, тоже дело хорошее…
Отчаянно прикидываю, как я собираюсь ехать в город, это бензин надо, за бензином в деревеньку идти, если там вообще что найду, если не сожрут меня по пути в деревеньку…
Так.
Стоп.
Дофантазировался, домечтался, доигрался уже черт знает до чего, скоро уже по деревне с ружьем начну расхаживать, и по торговым центрам с ружьем пойду от нечисти всякой отстреливаться, вот потеха будет…
…вечереет, сейчас рано вечереет, все-таки уже ноябрь. По вечерам мы собираемся у очага, читаем что-нибудь, что мы сегодня читать будем, а вот, днем про Холмса говорили и про безумного Шляпника, Алису им, что ли, почитать, в стране Чудес, не понимаю я эту Алису, лучше про Холмса что-нибудь, мрачное такое, готическое, таинственное… хочу созвать всех, понимаю, что Даньки нет, и курточки Данькиной нет, и… а вот это уже интересно, ружья нет, какого черта вообще происходит…
Выбегаю на улицу в подступающий туман, вот сейчас на меня кто-нибудь и набросится, только этого еще не хватало. Сейчас бы заорать во все горло – Да-а-а-нька-а-а-а, да как заорешь, как заорешь, они все только того и ждут, чтобы я заорал…
Одергиваю себя, хватит в игрушки играть, хватит воображать себе невесть что, нормальные люди в моем возрасте уже… уже… не знаю, что уже, но точно не фантазируют себе всякое, чего нет.
Не выдерживаю, само рвется из горла:
– Да-а-анька-а-а!
Лес молчит, как-то нехорошо молчит, даже ветра нет, четко очерченные деревья на фоне темнеющего неба… чертов снег, какого черта растаял, так бы хоть следы были, а так вообще ничего…
Бегу в темноту леса, что-то красное виднеется за деревьями, нет, показалось, нет, не показалось, красная курточка, почему он лежит на снегу, почему не встает, почему, почему, черт возьми, почему…
– Данька!
Данька подбирает с земли оброненное ружье, смотрит на меня, ждет неминуемого нагоняя…
– Ты… ты чего выдумал-то, а?
– А я это… а я в Англию…
– Еще куда?
– Не, ну пап, ну короля Артура посмотре-еть!
Сжимаю зубы, вот так, сначала эта в Москву рвется, теперь этот в Англию, дальше что…
– Домой пошли.
– Па-ап, а в Англию, а я быстро!
– Да ты хоть понимаешь, что до неё месяц ехать, если не больше?
Ору. Спохватываюсь, что он и правда не понимает, что я ему так и недорассказал, где она, Англия эта, где вообще что…
– Домой. Быстро. Дома поговорим…
Гоню Даньку перед собой, быстрее, быстрее, убил бы, стоп, что я думаю такое, я должен вообще плясать и прыгать от счастья, что его никто не убил…
Холодеет в груди, – когда вижу, что дверь в дом открыта, вот так, настежь, совсем хорошо, походу, у меня уже кукуха поехала…
Входим в дом, ничего не случилось, ничего не случилось, просто… просто, потому что ничего не случилось, и все хорошо, ну… ну не может быть иначе…
Снова все переворачивается внутри, – когда я вижу их в комнате, три твари, одна на лестнице, еще две возле кухни, принюхиваются, заинтересованные запахами ужина, вот они, стоят в двух шагах от Лады с Танькой… Лада их не видит, Танька тоже, они не могут их видеть, оно и к лучшему, что всю эту дрянь вижу только я…
Стреляю в то, что на лестнице, черт, промазал, еще двое бросаются на меня, бью прикладом, что-то мерзко хрустит, одна тварь падает, вторая впивается в руку, бросаю ружье, нож, нож, нож, где нож, какого черта нет, вот он, родимый, рассекаю глотку жуткого зверя, кровища по ковру, чер-р-рт…
А теперь самое поганое, а теперь подняться наверх, обыскивать коридоры, где эта мразь, которую я даже не ранил, где…
…что-то валится сверху, швыряет меня на пол, что-то смрадное, жаркое, массивное, от чего нужно перекатиться на спину, черт, не слезает, рвет когтями, шея, шея, где у него шея, сжать что есть силы, крепче, крепче, мерзкая нечисть с хрипом отваливается от меня, не отпускать, сжимать, сильнее, сильнее, пока у самого не потемнеет в глазах…
…только потом вспоминаю про Ладу с детьми, вернее, не так, странно, что я про них ни на секунду не забывал, они так и стояли все в комнате в моем воображении, Лада и дети, они бы даже испугались, если бы я позволил им испугаться, но я так придумал, что вот эта вот вся дрянь, которая происходит на самом деле, она не коснется моей семьи, моего мира, просто… не коснется…