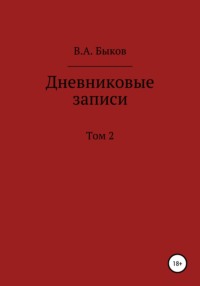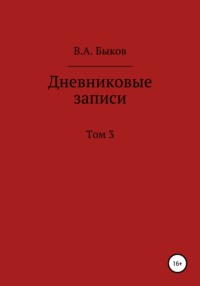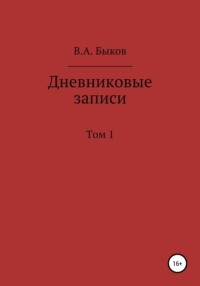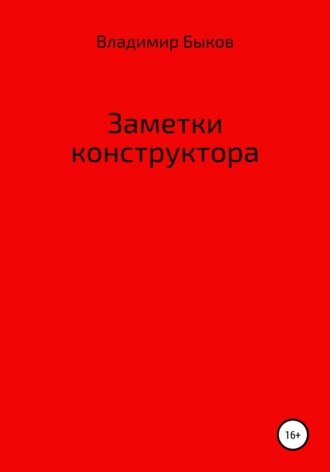 полная версия
полная версияЗаметки конструктора
Вот так и с любым другим показателем. Строили его, чего-то придумывали, а запускали в «производство» и оказывался – не тот, не отвечал жизненным коллизиям. Не зря, говорили умудренные старики, раньше показатели, а лучше критерии, по которым оценивалась работа, будь то людей или предприятий, держались хозяином в секрете и выводы он делал не по неким жестким показателям, а на основе исключительно анализа конкретного события или предмета. Не нужны они ему. Был бы готовый продукт. Было бы то, что нужно потребителю и был бы доход производителю.
Тонны, метры, штуки, обозначенные конкретной цифирью, оказались фетишизированы до абсурда. Но и этого оказалось мало. Карусель махровой бюрократии вовлекла в сферу своего вращения творческий труд инженера и ученого. Учинила для них многочисленные экспертизы, проверки и контроль на соответствие продукции и собственно шагов по ее созданию действующим нормативам, инструкциям и стандартам. Придумала сотни сопутствующих основной конструкторской и проектной документации всевозможных технических условий, карт уровня, патентных формуляров и прочих циркуляров, тысячи согласований и утверждений с соответствующими подписями должностных лиц министерств, комитетов и головных институтов.
Какова была полезность всей последней работы и произведенных при ней бумаг? Процентов пять, может, наберется. Все-таки что-то при этом подправлялось, что-то добавлялось или исключалось. А какова полезность основной работы над главной документацией, по которой изготовлялось оборудование и строился тот или иной объект? Здесь цифры совсем другого порядка. Даже для не «удачного» объекта, освоение и пуск которого шел с определенными осложнениями и вызывал справедливые нарекания, его предпусковую готовность, а тем самым полезность труда непосредственных создателей можно без натяжки оценить на уровне 95%.
Спрашивается, что же это была за организация, которая позволяла трудиться людям с эффективностью в 20 раз отличающейся друг от друга? Каждый, кто дорожит временем и ценит свой труд, ответит однозначно. Порядок негодный. Он порожден необузданным желанием людей всё и вся контролировать без какой-либо мало-мальски стоящей оценки полезности сих мероприятий. Порожден фетишизацией контроля, наивным представлением руководителей о неформальном выполнении подчиненными их установлений. В подтверждение сказанного остановлюсь на нескольких характерных примерах.
Что такое качество будущего изделия на стадии разработки с инженерной точки зрения? Это соответствие лучшим известным аналогам. Плюс какая-то доля нового, с оценкой необходимости его внедрения и степени риска. Плюс гарантия, что задуманное будет реализовано качественно и с минимально-возможным отклонением от требований чертежей.
Высокий уровень проекта обеспечивается талантом, знаниями и опытом специалистов, применяющих при работе весь арсенал методов, которыми они владеют, включая их интуицию. Контроль качества в плане собственно контроля возможен и допустим, но он может сделан специалистом, по крайней мере, такой же компетенции, путем конкретного рассмотрения изделия во всем его специфическом сочетании. И для этого также требуется талант, знания и опыт. Здесь не может быть общих правил, общих рецептов. Это искусство. Ан нет, заявляли тогдашние контролеры и предлагали сведенные в сборник объемом в 100 листов стандарты, по которым громадное многообразие производимой техники могло быть автоматически взвешено на основании неких показателей качества. Разве не глупость уложить в 100 листиков тысячи учебников и сотни тысяч специальных изданий, по которым инженеры учились делу, а потом еще заимствовали не менее объемный практический опыт предшествующих поколений.
Не потому ли на пуске любого объекта никогда не было ни одного товарища из занимавшихся оценкой продукции по названным липовым показателям качества? Там предъявлялось одно единственное требование – обеспечить работу машин для производства на них требуемой продукции во всем сложнейшем, повторяюсь, сочетании многочисленных факторов, подвластных только специалистам, а не чиновникам от техники.
Качество будущего изделия на сто процентов определяется чертежом, и лишь просмотрев их все, можно что-либо определенное сказать об уровне машины (имея в виду, что она будет надлежащим образом изготовлена). Нет. Опять говорили нам из контролерского отряда. Для того нужна карта уровня. И вот сочинялся документ на экскаватор. У нашего ковш – 4 м3, у аналога меньше – 3,5 м 3. Но тот, у которого ковш больше, имеет на 1 метр короче стрелу. Циклы копания у них почти равны, а масса разнится на 3 тонны. Затем приводились еще некие цифры, уже Бог знает, как определенные, поскольку на чертежах их нет. И делался глубокий вывод – наш лучше. Разве это не насмешка над процессом создания новой техники?
Незнание закона, считают юристы, не освобождает от ответственности. И правильно считают: справок с потенциальных преступников не берут, а прямо по доказательству свершенного сажают в тюрьму. В мире честных людей, занимавшихся техникой, дело обставлено было монументальнее. Для сего патентная служба, которая получила в то время возможность также мощно развернуться и показать себя, потребовала сочинять на каждую разработку патентный формуляр (названия-то какие!). И стала писаться еще одна бумажка с перечислением всего, что было сделано, просмотрено и применено, будто ею автор мог снять с себя и переложить на кого-то возложенную на него ответственность за эту патентную чистоту.
Другой контролер, из Комитета по изобретениям и открытиям, в дополнение к заявлению на выдачу авторского свидетельства с собственноручной подписью авторов, в обязательном порядке и по утвержденной форме, требовал представить творческую справку о том, чего каждый из них в данном изобретении сделал, какой лично вклад внес.
Третий, из отдела техники безопасности, вместо того, чтобы прямо заниматься внедрением средств и способов защиты трудящихся от опасности, требовал от каждого работника ежемесячно расписываться в особом журнале (сколько же их в стране заведено?) удостоверяя тем свои познания в правилах, которых он ни разу не читал и руководствовался простой житейской истиной: не лезть туда, куда не следует.
Еще один, уже не сам, а по настоянию другой более серьезной службы, команды которой тогда обсуждать не полагалось, просил представить к статье акт экспертизы, подтверждающий ее подготовку к публикации в соответствии с известными правилами и нормами и отсутствие в ней чего-либо властью недозволенного.
А однажды в те времена меня попросили даже расписаться в специально заведенной для того книге и подтвердить, что я действительно привел и сдал в детсад своего внука.
Контроль необходим, но должен строиться на разумном компромиссе, быть убедительным в его целесообразности, вызывать не возмущения, а чувство взаимной удовлетворенности от общественной полезности труда. Особо иэбирательным контроль должен быть за творческими процессами, творческими организациями. Здесь можно проверять только на абсолютно компетентном уровне и только вполне конкретное дело, например, плохо работающую машину или результаты научной работы, на которую пошло много денег. Но это будет не тот контроль, о котором говорилось выше, а реагирование на событие, изучение дела с целью принятия решения и проведения его в жизнь. В массе было первое. Последнее все в большей и большей мере становилось исключением. Контролирующие службы организовывались и росли быстрее, чем по известному закону Паркинсона расширялось морское ведомство Великобретании во времена, когда она теряла свои заморские владения.
Царствовала высшая форма бюрократии – продиктованные сверху правила сочинения деловых бумаг, научных отчетов, мероприятий, планов, заявок, прогнозов и т. д. При высокой централизации огромное значение имело качество управленческих приказов и распоряжений. Прежде, чем отдать, их надлежало взвесить 100, 1000 раз, в зависимости от того, на сколько организаций они распространялись, какую массу людей затрагивали. Однако, чем дальше, тем в большей и большей степени они не отвечали своему назначению и становились все хуже и хуже.
В системе управления работали два канала. Канал деловой реализации намеченного для получения нужного конечного результата и канал разного рода формальных исполнений, связанных с соблюдением, специально для этого придуманных, направлений, инструкций, распоряжений. Прямого влияния второго на первый не было почти никакого. Косвенно же его работа приводила к уменьшению пропускной способности первого из-за постоянного отвлечения исполнителей от дела на подготовку информации для впечатлительного функционирования канала формализованных установок.
Вместо создания творческой обстановки, обмена опытом и его распространения, правильного и своевременного поощрения работника, действенной оценки конкретных результатов труда, его полезности, мы «организовывали» соревнование, принимали обязательства, придумывали почины, считали, буквально считали, выполненные пункты обязательств и превратили живой дух соревнования в бездарный развращающий людей спектакль.
Мероприятия явно общественного характера выполнялись в рабочее время, либо за счет его, предоставлением, например, отгулов. И никакие призывы и указания сверху не могли остановить этот процесс. Так было легче выполнить и затем отчитаться. И пока существовала отчетность, была бессмысленна борьба за исключение подобных явлений. Массой владело опустошительное желание получить что-либо за каждый сделанный шаг, за любой промежуточный этап, особенно, в области научных исследований и новых разработок.
Очень много говорили о будущем. Ставили задачи, намечали мероприятия, разрабатывали планы. И чем больше их декламировалось, тем больше, казалось, жизнь шла сама по себе. Много писали и говорили вообще по любому поводу. Правда, делаем то же самое и сегодня. Это признак не только высокой образованности. Люди обращаются к трибуне, когда не могут или испытывают трудности должным образом вершить свои дела, материализовать быстро и эффективно свои идеи и желания. Не зря французский философ Монтень утверждал, что «красноречие в Риме процветало тогда, когда его дела шли хуже всего».
Известная формула «Все советские граждане равны и каждый может достичь любых высот» стала чуть не подавляющим большинством использоваться и обкатываться в чисто потребительском плане односторонней направленности. Мне должны – вот кредо этих людей. Порождено оно было не только их глупостью и ограниченностью. Нет. Оно прямое следствие государственной собственности и отсюда всё сокрушающей лени и воспитанного системой нежелания лишний раз подумать о последствиях массового паразитического образа жизни.
Реакция руководителей на отрицательные результаты, на допущенные в ходе создания техники ошибки, без которых не возможен этот процесс, за редким исключением, была негативной. Риск не поощрялся, а наказывался. Как следствие у специалистов вырабатывались боязнь к принципиально новой технике. Оторванные от внешнего мира, мы кроме того, были лишены возможности свободного приобретения и применения в своих разработках качественных комплектующих изделий. Работая в системе полунатурального хозяйства, даже тогда, когда знали и умели как и что сделать, не могли конкурировать с западным миром ни по срокам создания техники, ни по ее качеству, ни по сравнимым затратам труда.
Тенденциозность прессы была потрясающей. По большинству статей постановочного характера можно было установить сходу, кто их готовил или, по крайней мере, какими материалами и какой службы пользовались. Писали многое со словесными выкрутасами, абсолютно излишними по существу излагаемого. Хотя, надо признать, среди них имелись тысячи исключительно деловых толковых предложений, которые в силу совершеннейшей очевидности следовало бы немедленно брать на вооружение. Все были согласны, а решить ничего не могли.
От неумения организовать движение к полезному результату ринулись в неразумное увлечение наукой. Исказилось правильное понимание той роли, которую играют в прогрессе аналитический ум ученого и практическая деятельность инженера. Того, что цель одного – понять; второго – сделать. Страсть к исследованиям стала превращаться в своеобразное средство снятия с себя ответственности, что всегда была великой привилегией и великим бременем инженера. Известен случай, когда Сталин лично исключал из одной программы исследования кораблей всё записанное из любопытства или перестраховки.
Появилась недопустимая диспропорция между известными (и даже широко известными) научными знаниями вообще и практическим использованием их конкретными людьми на своих участках работы. С другой стороны такая же диспропорция имела место между знаниями конкретных людей и умением их, способностью, даже желанием, к реализации данных знаний. Это вывело общество на потенции многократно более низкие в сравнении с его теоретическими представлениями.
Капиталистический мир быстро заимствовал все полезные качества социализма (плановое хозяйство, концентрацию капитала на главных направлениях, социальную защищенность человека и т. д.). Наши же соцруководители оказались далеко не такими умными и стали со временем брать от своего конкурента то, что с социализмом никак не совмещалось – элементы свободного рынка.
Одновременно поколение за поколением воспитывалось в духе глубочайшего центризма, единого госхоза и всеохватывающего контроля. Призывалось не обогащаться, получать столько, сколько предусмотрено, назначено или ограничено. В обществе с такими взглядами толку не могло быть не только при социалистической, но и при любой другой собственности.
В ранг ее, государственной, было возведено всё. Создан единый хозяйственный механизм, как бы одно могучее предприятие. Поэтому разговоры экономистов о каком-то якобы неправильном его волевом управлении – бессмысленны. В единой хозяйственной организации возможно только волевое управление и волевое принятие решений, которые могут быть грамотными, расчетливыми, экономически обоснованными и наоборот, но волевыми. Отсюда попытки введения хозрасчета, предоставления самостоятельности предприятиям являлись детсадовской игрой, а нормативный хозрасчет – фикцией, пустым политическим лозунгом.
Сталинская государственная система, о которой так много говорили и продолжают говорить, как о порождении диктатора – это система не его злого ума, а его умных в то время экономистов, понявших невозможность иного, чем волевого, хозяйствования в данных условиях. Они определили форму хозяйствования, но поскольку хозяйство огромно, то становилось естественным принятие решений в условиях некомпетентности, избытка информации, дефицита времени и последующих затем возмущений во всех значениях этого слова. Руководитель страны объективно был лишен возможности тщательного анализа событий, взвешенной оценки плюсов и минусов принимаемых решений и, тем более, результатов свершенного. Он являлся особо безответственным лицом, в плане «мелких», не соответствующих его компетенции мероприятий.
Человек же не безразличен даже к своим собственным ошибкам и, отпилив не того размера кусок доски, клянет себя всеми известными ему словами. Каково же он себя должен чувствовать и как реагировать на огромного (для него) масштаба ошибки, совершаемые без его участия, но на ликвидацию которых он приглашался немедля без каких-либо перед ним извинений, а когда дело по масштабнее, то и под декламацию революционных преобразований.
Бумага, кругом была бумага. На нее тратился драгоценный труд и время. Но еще больший вред она несла косвенно, развращая людей своей никчемностью и невольно приучая их к безответственному исполнению не только бюрократических предначертаний, но и самого нужного дела. Не этим ли можно объяснить, что, изготовленный в свое время ЗИЛ-овцами вне всяких систем управления качеством, холодильник безотказно дорабатывает чуть ли не пятый десяток лет, а современный отечественный телевизор, сотворенный в эпоху госприемки, выходил из строя много раньше гарантийного срока?
Сегодняшнее неконкурентоспособное качество изделий было подготовлено в полной мере обстановкой тех лет, когда их создатели чуть не половину времени тратили на бесполезную работу, заседательскую суету, согласования и составление разных справок, а масса совещаний проходила среди гула возмущений со стороны получающих задание. На них начальство даже не реагировало, аргументов в защиту декларируемого не выдвигало, но… в заключение просило все же спущенное сверху задание выполнить. Сперва такие действия руководства были досадным исключением, затем стали почти нормой. А ведь в области общественного и политического воспитания масс более впечатлительными являются не лозунги и общие рассуждения, а конкретные примеры разумного поведения, конкретные решения.
Нужно было еще в начале 60-х годов сделать государственной программой борьбу с бюрократией в сфере производства, в том числе борьбу за резкое (в несколько раз) сокращение действовавших тогда стандартов, инструкций и положений в тех частях, которыми регламентировались действия исполнителей, фактически определялись методы и способы выполнения работ и тем самым ограничивались их возможности в деле установления оптимальных путей практической реализации намеченных целей.
На каком-то уровне руководства имела место явная фетишизация контрольных операций. Кроме чисто бюрократических извращений здесь было, конечно, много и просто непродуманных, ошибочных решений. Однако интересная вещь! Я не зря упомянул уровень.
Глупцы и бездарности есть везде. Почему же тогда на нижнем этаже управления, а применительно к хорошо мне известному делу до третьего этажа (начальник цеха, мастер, бригадир или главный конструктор, начальник бюро, руководитель группы), отсутствовала полностью, даже в самые развратные бюрократические годы, потребность в самостоятельно придумываемых справках? Да потому, что неправильное и, тем более, глупое (от этого никто не застрахован) моментально подвергалось критике снизу – срабатывала обратная связь.
Но и на третьем этаже, в пределах которого обратная связь действовала достаточно эффективно, уже начинала чувствоваться недостаточность низовой наиболее точной и ничем не искаженной информации в силу ограниченного по разным причинам прямого контакта руководителя с младшим персоналом. Попытки кадровиков компенсировать этот недостаток принудительной организацией разного рода встреч – мероприятие едва ли полезное, так как оно никоим образом не могло заменить собой прямого общения руководителя и рядового работника в деловой обстановке производственного процесса.
При переходе на четвертый этаж управления и выше картина резко менялась. Тут начальник, предположим, директор завода, вынужден ограничивать свое общение кругом лиц только прямо ему подчиненных. Уровень информированности по целому ряду интересных для начальника вопросов, касающихся работы его подразделения резко падает: информация от прямого подчиненного, какой бы объективностью он не обладал, поступает в искаженном, преобразованном, облагороженном виде, эмоциональный дух ее – момент не последний в оценке событий – сглажен или совсем исчез. Общение идет преимущественно между людьми старшего возраста, более инертными, менее восприимчивыми к новому, и это тоже минус, а не плюс. Большое количество подразделений, находящихся в подчинении у начальника, невозможность переварить всю поступающую от них информацию собственными силами заставляет его создавать специальные промежуточные функциональные службы. Отсюда еще большая степень ее искажения, возрастающая в геометрической прогрессии по мере перехода на каждый следующий уровень управления. Короче, получается как в той детской игре в глухой телефон: на одной стороне – про Фому, а на другой – про Ерему. Тогда возникает еще один вопрос. Ведь руководители – в большинстве своем умные люди, почему же они не ограничивали объем информации пределами своих возможностей, своей компетенцией?
К 40-а годам, а в дальнейшем и того больше, забирался человек в то время на четвертый этаж управления. Многие годы он получал информацию из первых уст, общался с людьми непосредственно на рабочем месте среди предметов и результатов труда. Отрыв от среды, в которой фактически завершено полностью формирование личности и переход ее на уровень абстрактного восприятия действительности, где нет возможности посмотреть и пощупать, не может пройти безболезненно. Желание человека, может не осознанное даже, сохранить прежний вид информированности вполне понятно и объяснимо. Как часто при встрече с кем-нибудь из больших руководителей приходилось быть свидетелем восторженных воспоминаний относительно мелких подробностей именно тех лет его становления.
Согласитесь, что и нам всем приятно обратить свой взор в старину. Как-то всё в ней было лучше! И рыба ловилась лучше, и грибов больше. Возможно я ошибаюсь. Но нас, практиков, здесь интересует, в конце концов, не причины, а следствия. Даже, если они были продиктованы не только указанными психологическими моментами человеческой природы, а и всей тотально централизованной системой, ограничивающей любое должностное лицо в принятии им тех или иных решений.
Желания руководителей, не соответствующие возможностям обратных связей и требуемому в их ранге уровню компетенции, дорого обходились и государству и всем нам. Нельзя было задавать таких вопросов, добраться до которых можно только через десяток промежуточных инстанций. Многоканальная связь с большим количеством точек разветвления, где сидели люди, а не автоматы, – не срабатывала, она врала. Нельзя было, оперируя планами заводов, интересоваться гайками, во всяком случае, за служебным столом.
Помню (не как исключение, а как норму) постановление ЦК партии об экономии материальных ресурсов, в развитие которого наше министерство (надо полагать не одно оно) потребовало от всех своих заводов разработать планы мероприятий таковой экономии с разбивкой по годам очередной пятилетки. Пройдя через кордон разобщающих и обобщающих служб, министерский документ, несколько раз перепечатанный и размноженный, естественно, не без искажений против основы, лег на столы доброй тысячи специалистов. У каждого из них своя область: у одного утюги и кастрюли, у другого тепловозы, у третьего прокатные станы. Серия в сотни тысяч штук и один стан в пять лет. Полностью законченные проекты и только вчера начатые. Действующие машины и опытные экземпляры. Всё смешано в общую кучу, сведено в единую таблицу, опять многократно перепечатано бог весть с какими ошибками и отправлено адресату.
Из года в год мы представляли отделу материальных нормативов, а он дальше, липовые отчеты по экономии материалов. Как они использовались, как они могли влиять на планирование народного хозяйства – абсолютно непонятно. Да, мы получали экономию на отдельных деталях, узлах и даже машинах. Но ведь общество, государство интересовал не отдельный элемент, а весь, к примеру, прокатный стан в его законченном виде. На нем же никакой экономии не было и не могло быть хотя бы потому, что он создавался один раз.
Иногда говорили: Вот мы чертежи в производство запустили, а теперь их еще раз проверим и найдем ошибки. Ошибки исправим и сосчитаем экономию. Простите, разве тут экономия – это просто плохой проект! Ошибки надо было искать до запуска чертежей в производство. Но … тогда не сосчитается экономия. Хорош показатель «экономии», что получался по принципу: чем хуже для дела, тем лучше для отчета.
Выбросили сейчас все эти и подобные им отчеты. И что же? Хуже стали работать? Хуже – и несравнимо. Но по другим совсем причинам.
У нас, русских, всегда была страсть к разговорам вместо страсти к делу, а последние десятилетия она вылилась в еще более бесполезную страсть к бумаготворчеству: протоколам, приказам, постановлениям. Сколько мне пришлось принимать участие в подготовке подобного рода бумаг на уровне предприятий, министерств, комитетов, Совмина, ЦК партии и каждый раз я поражался неумолимому стремлению авторов к точности выражений, конкретизации сроков и процедур будущего их исполнения. Спорили иногда чуть не с кулаками, подписывали, разъезжались, а затем сами участники, не говоря уж о тех, кого там не было, в силу низкой общей культуры, неисполнительности и необязательности, не выполняли и пятой части принятого, а то и просто забывали, подшив в папку таких же бумаг. Теперь эта страсть стала проявляться еще и в жажде к законотворчеству. Здесь мы видим то же, может быть только на более высоком интеллектуальном уровне в части аргументации, но почти полное повторение в части идеализации ситуации. Закон рассматривается как абстракция и как будто его будут выполнять не живые люди, а некие внеземные пришельцы. А ведь закон в государстве должен быть ориентирован фактически на затверждение, с малой долей уточнения, уже состоявшихся событий, принятие того, что выработано и признано самой жизнью. Такой закон хорош. В противном случае навязывание воли власти с неизбежной корректировкой акта в дальнейшем и тем большей, чем больше в нем воли, а то и полного его игнорирования и не исполнения. Тогда много лучше совсем без закона.