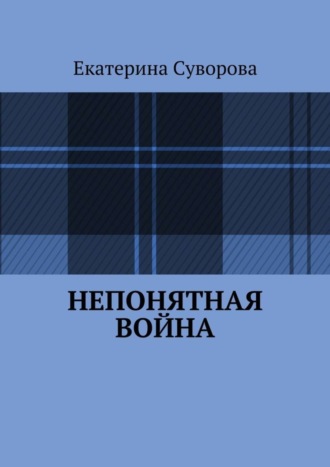
Полная версия
Непонятная война
Сибитов отпустил руку беглянки. Она, впервые почувствовав себя в безопасности, сделав несколько шагов в сторону к незнакомой ей женщине.
– Тю! Да не бойся ты, дурная. Алеш, во сколько ее к тебе привести? – улыбаясь спросила Павла Степановна.
– Я тут побуду.
– А! Ну хочешь быть – будь. Так, милая, снимай мастерку, я своё тоже сейчас стирать буду. – игриво начала стягивать с себя льняную рубашку еврейка. Она же, просто стояла рядом и смотрела на Сибитова.
– Вам часу хватит? – спросил тот, начав смущенно отворачивать глаза.
– Часу? Тю! Алеш, ты давай иди там к своим, у вас есть чем заниматься. А я тебе ее приведу, как смогу, – опуская вниз полы рубашки сказала Павла Степановна. – Иди, иди.
– Даю вам два часа – прошипел моторщик, и, вышел из комнаты.
Она осталась в комнате с незнакомой ей седоволосой женщиной. Оглянувшись по сторонам, она заметила, что в каждом углу стоят иконы, а стол, не по-военному заслан скатертью, на которой, лежат цветы каштана.
– И кто ж ты такая, милая? – спросила Павла Степановна
– Я не знаю…
– Ты мне можешь все говорить. Павла Степановна не обидит. Павла Степановна уже столько беглянок спасла, что ей некогда в политику их вникать.
– Я честно не знаю…
– Так… Ну не хочешь говорить – не надо. Ты смотри. Сейчас я тебя в душ отведу. Он общий, но наши барышни пока спят, а командир уже помылся. Так что – иди смело. Там только холодная вода – сама понимаешь. Если кто войдет – говори смело «я от Павлы Степановны». А я пока по нашим пройдусь, тебе что-нибудь одеться нового принесу. Свои вещи в душе постираешь. Мыло сейчас выдам.
– Спасибо вам.
– Тю! Та не за что. Кто знает, Земля – круглая. Все помогать должны! Вот – мыло. Пошли за мной.
Павла Степановна взяла за ее руку. Теплая и влажная ладонь женщины, для нее показалась такой знакомой и родной. Они пошли по длинному коридору, ведущему к душевой.
– А, ты, я смотрю замужем? – спросила хозяйка.
– Я не знаю… – взглянув на кольцо ответила она. Странно, еще вчера она видела его, но за этот короткий промежуток времени совсем забыла. Ведь кто-то там, скрытый в глубинах памяти, ищет ее. Наверное, есть муж, родители, дети… Но где они и кто они – она не знала.
– Ну ладно. Я лезть не буду. Пусть моторщики выясняют. Так, смотри. Тут шесть душевых. Три из них работают – первая слева, и первая с третьей справа. Краник везде один— с холодной водой. Мыло даю, но, смотри, все его не вытри. Половина должна остаться. Вещи я тебе принесу, эти можешь смело стирать.
– Спасибо.
– Та не за што. Все иди, – подтолкнув собеседницу к двери, заключила Павла Степановна.
Она вошла в обитую некогда белой плиткой комнату, стены которой были исписаны похабными фразами и не менее похабными рисунками. На них отразился немой диалог между двумя временами и двумя потоками жильцов этого общежития. Более стертые записи, выведенные гвоздем по ржаво-белой плитке, были видимо посланиями литейщиков. Более новые – перламутровым и красным лаками для ногтей – ответами на них, нынешних обитательниц.
Наиболее привлекательным предметом в этой комнате было зеркало. Оно было просто огромным, по сравнению с тем, которое висело у Остапенко. Занимая пространство от потолка до пола, зеркало стало центральным местом в душевой. Она остановилась около него. Даже вчерашнее, испуганное и испачканное лицо, не могло превзойти по своей страшноте, это, неживое. На нее смотрели те же самые голубе глаза, но обрамлены они были не сонными мешками, а багровыми овалами синяков. Несколько глубоких царапин, идущих ото лба к левой щеке, соединялись воедино в одной большой ссадине. На шее и ключицах виднелись протертые до крови следы вчерашнего падения по ступенькам. Колени были сбиты. Развернувшись спиной, она увидела ощупанную с утра царапину. Она действительно проходила вдоль всего тела, и останавливалась у косточек поясницы, где сливалась с огромным бурым пятном – еще одной ссадиной. Пытаясь прощупать затылок, она наткнулась пальцами на большую рану. Оттуда, вновь, полилась кровь.
Она закрыла глаза и заплакала. Стон безысходности и неопределенности раздался в комнате, и эхом пролетел сквозь все пространство. Нужно было выбираться из всей этой белеберды, творящийся вокруг. Но куда и к кому – оставалось вопросом.
11
Тем временем, Павла Степановна проходила веренные ей комнаты общежития. Обычно, в каждом блоке жило шесть человек. В основном это девушки, но бывали и исключения, как, например Остапенко, и семья Скорко. Война – войной, а дети рождались. Совсем еще мальчиком пришел Паша Скорко в Чернигов, где, в отличии от бурный жизни Донецка, текла почти мирная. Так уж произошло, что Пашка влюбился в молодую девушку, Аню Самойкину, и уже здесь, стал настоящим мужчиной. В 2017 у них родился ребенок – прекрасный трехкилограммовый богатырь с ямочками на щеках как у папы, и тихим нравом как у мамы. Делать нечего – пришлось дать целый блок, тем более, что новорожденный Ваня, был первым ребенком в неназванной войне Чернигова.
Блок Скорко Павла Степановна миновала – и будить не хотелось, и одежда располневшей от беременности Ани была явно велика беглянке. Хозяйка знала всех своих жильцов в лицо, и определить, что из их гардероба подойдет новенькой – не составляло труда. Первой, к кому она пошла была Мария Лойко – красивая, стройная и своенравная девушка. Она славилась по всей части тем, что ни одному из солдат, ни разу не дала повода усомниться в своей верности мужу, лейтенанту Нижинской части. Разведя руками, Мария показала всю свою одежду – все что осталось от прежней жизни – две майки, старомодная кофта и пару джинс. Обирать, и без того бедную девушку, Павла Степановна не стала, и отправилась в другой блок, к Любе Мошкиной. Мошкина, хоть и была нравом подемократичнее, чем Мария, тоже особой роскошью похвастаться не могла. Еще вчера все свое белье, а именно три накидки, пять маек и пару штанов, она постирала, и ныне, в семь часов утра, могла дать лишь сорочку, в которой стояла перед комендантшей.
Осталась последняя надежда – шкаф Насти Замятько. Павла Степановна часто стыдила эту девушку, читая ей библейские притчи про блудниц, но на Настю это никак не действовало. Рыжеволосая Замятько, как перчатки, меняла новых кавалеров, и за несколько лет военной жизни, привыкла, что все стоит денег и вещей. Одежды у Насти было предостаточно, что часто вызвало зависть у ее подруг. Павла Степановна застала ее, как раз в объятиях нового жениха – моторщика Стопко. Еле добудившись сонную пару, женщина начала ругать свою постоялицу. В общежитии никому нельзя было находиться в ночное время, а Стопко, по видимому, задержался на одинарной кровати Насти со вчерашнего вечера.
– И сколько я тебе говорила Настя, что ходи к своим хахалям сама, а не тащи их сюда!
– Павла Степановна, утро же, дайте поспать…
– Я тебе сейчас посплю! А ну, поднимайте свои жопы. Ты, Саня, тащи ее к себе в штаб, Сибитов уже на ногах. А ты, шлендра, открывай шкаф, дело к тебе есть.
Больше всего приход начальницы общежития пугал именно Стопко. Он знал про внутренние распорядки, и знал, что может быть за их нарушение. Наспех собравшись, он пулей вылетел из комнаты. Настя же, полусонная сидела на кровати, и, потягиваясь, пыталась понять, что происходит. Ни то чтобы она боялась Павлу Степановну (среди ее ухажеров числились те, кто защитит в любой ситуации), просто ругаться, да еще и с утра, ей не хотелось. Девушка привыкла со всеми мирно договариваться, как, например, договаривалась со своими соседками. То кофточку новую им подсунет, то помадку, то лак, почти целый – и, глядишь, оставят они на время свою комнату.
– Не кричите, пожалуйста, Павла Степановна, всю округу разбудите!
– А ты своими криками по ночам, не будишь? – злобно спрашивала начальница, подходя к шкафу Насти.
– Зачем вы пришли?
– За вещами для беглянки. У вас с ней один размер, а девочке, совсем одеться не во что.
– За моими вещами?
– Да, за твоими. Тебе, шо, жалко?
– Так было бы что брать!
– А шо – нечего?
– Нечего…
Тут Павла Степановна не выдержала. Не то, что бы она завидовала этой популярной гарнизонной девице, просто вся та злоба, та женская ненависть за ущемленность по молодости, так давно томимая в ее душе, вырывалась наружу. Женщина, будто бы рывком переметнулась от шкафа к кровати, и, уже в мгновенье ока, держала Настю за волосы.
– Ты, сучка малолетняя. Ты… подстилка, ты говорить будешь мне, что ничего у тебя нет? Шкаф от вещей ломиться, а тебе одной кофты жалко?
– Павла Степановна, что вы делаете!? – пытаясь вырваться, шипела Настя
– А ну быстро подняла свою жопу, и достала мне свои шмотки!
– Павла Степановнаааа… отпустите…
– Быстро, тварь! – тем же самым рывком отпустив волосы, прохрипела комендантша. Настя с ошеломленными от страха и внезапности глазами, на четвереньках пробиралась к шкафу. Если бы кто-нибудь из ее соседок, зашел бы в тот момент в комнату, то не узнал бы в ней ту ослепительную и всесильную, но открыл бы другую, жалкую и ничтожную Настю. Павла Степановна презрительно рассматривала клочки рыжих волос, оставшихся в ее руке. Женщина ухмылялась. Она была счастлива, что сейчас, в свои 53 года, во время этой непонятной войны, она нашла отдушину. И отдушиной оказалась именно Настя.
– Держите, – протянув белое воздушное платье и вязаную кофту, полушепотом протрепетала она – остальное все грязное. Это – новое. Вчера только Стопко принес. Горделиво и надменно Павла Степановна встала с кровати и прошла вдоль комнаты к шкафу. Он выхватила сверток, и, молча, вышла за дверь.
Идя по коридору к душевой, Павла Степановна пыталась осознать, то, что сейчас произошло. Будто кто-то из вне, та, молодая и по своему красивая Павлуша, вселилась в это покрытое морщинами тело. Павлуша хотела мести: за отсутствие женихов, за насмешки, за гибель родителей… Павлуша так давно просила эту старую Павлу Степановну, привыкшую быть честной и по-еврейски мудрой… Павлуша победила ее, там, в комнате, где сейчас обливается слезами Настя.
12
Она сидела на кафеле, вновь и вновь пытаясь хоть что-либо вспомнить. Рядом стопкой лежали только что постиранные ей вещи. Она смотрела на них, и понимала, что все, что произошло с ней вчерашним вечером и ночью, фантомно перенеслось на эти джинсы, байку и кеды, и, словно бы, осталось лишь там. Пусть, это будет первым ее воспоминанием о нынешнее жизни. Но здесь, среди этих ржавых стен и бранных надписей, сидела чистая, новая она. Она, которая хотела вспомнить все то, что было до этой одежды. Раны, четко видимые теперь на голом теле, она решила тоже забыть, оставить здесь. Они заживут, а она – нет. Предыдущая же жизнь предательски молчала.
Послышалось шарканье по коридору. Она узнала в нем, знакомые звуки из новой жизни. Спустя полминуты, раздался громкий стук в дверь и звенящих голос Павлы Степановны:
– Беглянка! Помылась уже? – пропела женщина, высунув руку со свертком в дверной проем. Сама же она, попыталась максимально остаться по ту строну душевой, и даже, для собственной уверенности, закрыла глаза. – Я тебе тут принесла кое-что. Возьми, одень. С обувью, правда, не вышло. Оденешь старые свои… Тут еще бинты с ватой. Я видела у тебя пару кровоточин.
– Спасибо, – уже у двери, ответила она.
– Я через пару минут зайду, а пока – одевайся.
Павла Степановна вышла в коридор. Улыбка победителя уже успела перерасти в обычное, умудренное годами, выражение лица. Лишь внутри еще остался легкий налет немого празднования.
Она, тем временем, примеряла на себе кипельно белое платье. Странным казалось то, что, здесь, на непонятной войне и в непонятном гарнизоне, еще осталась такая девственная чистота. Подойдя к зеркалу, она увидела новое, совершенно непонятное существо. Все те же испуганные и уже подпухшие от слез и синяков глаза, все те же ссадины и раны, все тот же изнеможенный вид. Но уже другое существо – белое и гордое. Сумбурная картина – кеды, платье, распущенные волосы, окутывающие плечи, буроватые следы…
– Какая красавица! – вновь раздался знакомый женский тембр. Она обернулась. В пороге стояла Павла Степановна с новым свертком голубоватого цвета. – Я тебе еще тут из своего кое-что принесла. У нас дни ветреные, так простудишься.
Она покорно взяла новый подарок. Подарок от первого человека, отнесшегося к ней, как к равному себе, такому же… Человеку… – Ну теперь все, пошли к моторщикам, а то Сибитов там себе места не находит.
Сибитов действительно не находил себе места. Он волочился из угла в угол в своей маленькой комнатушке, предназначенной для проживания троих моторщиков. Идти в штаб тире кладовую, ему не очень-то хотелось. Впервые в этой непонятной войне он испытал человеческое чувство. Чувство сострадания. И оно, явно не вписывалось в заверенный верховным командованием, устав. Как себя вести? Ведь он, один из лучших моторщиков, должен был беспристрастно расспросить беглянку, а, затем, отрапортовавшись начальству, перевести ее либо в Запорожье, на старый кабельный завод, а ныне – завод по выпуску снаряжений для артиллерии, либо направить восвояси. И тот, и другой вариант обозначал бы для девушки гибель. С Запорожья никто не возвращался – туда боялись идти. Нет, там не было картинок сошедших с немецкой хроники концлагерей. Кормили там хорошо, работали исправно, нормы труда выполняли… Но вся атмосфера рабской жизни, вела людей к самоубийству. Как двадцать пятый кадр, у многих беглецов, откладывалась картинка неминуемой гибели, и они, словно загипнотизированные кем то, вешались на струпьях, топились в речках, выпрыгивали из окон. Все боялись кабельного завода страшнее смерти. Ведь смерть приходит моментально, а служба на заводе, растягивается на долгие месяцы, и ведет к тому же результату. Никто из беглецов не вернулся.
Второй вариант – вернуть беглянку на родину – означал отправить ее на второй круг. Все знали, что те кто бегут, бегут ни от хорошей жизни, а, значит – спасаются. Что должно произойти в душе человека, способного спланировано придать родину, и обменять ее на более спокойную и сытую чужбину? Все знали, что беглецы всегда бежали повторно. Кто-то напролом штурмовал ту же самую границу, кто-то – находил обходные пути. Быть пойманным во второй раз означало смерть.
В итоге, оба варианта вели к одному и тому же. И поэтому, Сибитов не находил себе места, пытаясь найти место для нее. Сострадание… В его голове прокручивались детские годы, и, словно вспышками, всплывали фрагменты из нищей юности. В родном ему Луцке никогда не было работы – все завод стояли, все жители – пили. Сибитова воспитывала одна мать – отца, одного из самых честных в городе пограничников, в одну из смен, расстреляли отмороженные гости Украины. Он не хотел допускать их в страну, то ли из-за просроченных паспортов, то ли, и вовсе, из-за отсутствия таковых. Хоронили всем отделением. Маленькому Алеше тогда только исполнилось восемь. Мать долго держалась. Она еле сводила концы с концами, работая на кирпичном заводе, наравне с мужиками. Когда завод распустили, и мать, с десятилетним сыном, отправили на биржу труда, она не выдержала. Сдалась и взялась за стакан. Год за годом, Алеша видел падение матери. Нет, это было не сразу. Поначалу, раз в неделю, как правило, по пятницам, она собиралась с такими же, оставшимися без работы, подружками. Потом дважды. Потом трижды. А потом – недельное, месячное и круглогодично. Из пышной и сильной женщины, она превратилась в немощную и страшную статую с трясущимися руками. Сибитов знал, что будь отец жив, этого не было. Но его убили. Месть стала единственной целью для уже подросшего Алексея. И поэтому, шестнадцатилетним парнем он сам пошел в армию, а когда пришла война – сам же ввязался в нее.
Уже четвертый год он исправно служил своей мести, и никак не планировал ее предавать. Но, внезапно для самого себя, он осознал, что цель его жизни уступает позиции глупому и практически животному чувству человеческой жалости. Исправный моторщик стал обычным слюнтяем. Этого Сибитов позволить себе не мог, также, как и не мог сейчас выйти из комнаты и отправиться на допрос беглянки.
Она же, тем временем, шла по уже запомнившейся утром дороге к штабу моторщиков. Под руку ее вела Павла Степановна, ухитрившаяся привести и себя в порядок. Она же смотрела на все, и вновь пыталась вспомнить прошлую жизнь. В ответ она видела заинтересованные взгляды солдат. Не было уже толпы у каштана, не было слонявшихся без дела людей. Каждый занимался работой, или создавал таковую видимость. Кто-то чистил оружие, кто-то стирал форму, а кто-то слушал другого кого-то, явно старшего по званию. Она же шла и ловила их взгляды.
Позади две женщины услышали звук открывающейся металлической двери. Павла Степановна уверено повернулась в сторону двухэтажного барака, на пороге которого появился Сибитов. Вид у него был растерянный. Он увидел беглянку, и вся та напускная уверенность, так долго наводимая им в комнате, исчезла. Сибитов подошел к Павле Степановне, и что-то невнятно пробубнив, вырвал беглянку.
13
– Ну так ты что, с этой сегодня? – раскачиваясь на стуле в инвентарной спрашивал Мартюк.
– Да! Она такая… – отвечал ему из другого угла Стопко, пытавшийся найти заварку вчерашнего чая.
– И как она?
– Ну, баба то – что надо! Ты чай не видел?
– Так он вчера же еще закончился.
– Е-мое! – Стопко остановился, и направился к собеседнику – Я ей, это, платье подарил, которое помнишь еще, на прошлом дежурстве в магазине нашли. И тут понеслось!
– Так его ж вроде Захаренко для дочери забрал.
– В том то и дело – забрал. А вчера – повесился! Вот и мне добро перепало. А кружки где?
– Глянь на столе Сибитова, он что-то задерживается сегодня.
– Ага. Способ ищет, как беглянку вчерашнюю расшпионить. Штирлиц недоделанный.
На этих словах, в инвентарной распахнулась дверь, и на пороге показался герой разговора с испуганной героиней.
– Во-первых, не шпионку, а беглянку, Стопко, а во-вторых, по моему столу рыться нельзя.
– Виноват! – по-мальчишечьи став в стойку, растеряно произнес Стопко. Вслед за ним, в стойку выпрямился и Мартюк, пытаясь придержать стул ногой.
– Дибилы. – злобно кинул в их сторону взгляд, сказал Сибитов. – Так, беглянка, иди садись за мой стол, и пиши, кто ты и как здесь оказалась.
– Я не знаю, – уже смерено произнесла она.
– Опять не знаю! Села и пишешь откуда, как и почему здесь! Ясно!?
– Ясно, но я не знаю, что писать.
– Стопко, иди за мой стол и помоги этой все написать, а то она опять дуру включила. – гневно пробубнен Сибитов
Стопко вышел из-за стола и направился к выходу, где стояла она. Она, как и вчера, с Захаренко, повинуясь пошла за парнем, села за стол и начала вглядываться в бумагу. Обычный белый лист, правильной прямоугольной формы, с четко описанными границами, и, пожалуй, даже чуть меньше среднего – но, ей, сейчас он казался огромным. Огромным и пустым. Ничего, даже своего имени она вспомнить не могла. Склонившись, она начала выводить буквы. Странное чувство, вновь овладело ей – она видела свой почерк впервые в новой жизни. Мелкий, дробленый и витиеватый, он словно принадлежал другому человеку.
Сибитов старался не смотреть в ее сторону. Он направился к общему столу, взял какую-то карту и мысленно пытался провести линию реки, название которой он даже не знал. Мартюк уткнулся в аппаратуру, делая вид, что занят работой. Неуютнее всего себя чувствовал Стопко. Он не знал, куда смотреть и что делать. Это глупое чувство, когда стоишь над занятым чем-то человеком, и пытаешься занять себя. Через плечо беглянки он пытался прочесть ее писанину, но, убедившись в том, что ее почерк еще неразборчивее, чем местного врача, моторщик отвернулся.
Она встала и протянула бумагу Сибитову. Тот, упорно продолжая не замечать ее, взял лист. На нем, прямо по центру, каллиграфически верным шрифтом, было написано три коротких предложения. «Я не знаю место своего рождения и пребывания. Я не знаю цель моего приезда. Я не знаю кто я».
– Значит, не хочешь себе помогать? – протянул он, впервые взглянув на беглянку. Сибитов увидел, что она была растеряна, так же, как и он с утра. Ее глаза блуждали по полу, пытаясь зацепиться за какой-либо объект, но так и не смогли этого сделать. Она стояла, словно школьник получивший двойку.
– Я действительно не знаю, кто я.
– Ты что предлагаешь? Мне тебя пытать здесь, что бы ты вспомнила?
– Делайте, что хотите, – тут ее голова приподнялась. Теперь глаза беглянки смотрели гордо и стойко на своего мучителя. Голубоватым оловом отливали они, и, словно застывшие где-то в глубине, отражали всю ее боль. Сибитов понял, что, если она и способна сейчас что-то сказать, то это будет поток ненависти и отчаянья, загнанной в угол женщины.
«А, если она приехала сюда шпионить?!» – промелькнуло в его голове.
– Значит так. Стопко!
– Я!
– Бери эту девку, веди в казарму, закрой там под ключ. Через пару часов – приведи. А ты – его глаза вновь встретились с этим оловянным напором – если через пару часов не вспомнишь все, пустим в ту же казарму, только уже к солдатам. Поняла?
– Да. Но я ничего про себя не знаю
– Стопко! Вывести эту рвань.
14
Комната Остапенко потихоньку заполнялась сигаретным дымом. В тайне ото всех, командир курил. Он по жизни был одиночкой, а курение, еще в студенчестве понял он, неизбежно ведет к ненужным диалогам. С Павлой Степановной у него был негласный договор. Она, молча, не замечала, что в ее общежитии курят, он – что в его части стоят памятники. И поэтому, во многих трудных ситуациях, Остапенко запирался в своей комнате, и тихо, спокойно пускал серые кольца.
Сейчас был повод – похороны Захаренко. На войне, а уж тем более на непонятной, не было места всем мирным обычаям. Покойников ни отпевали, ни давали телу полежать в доме, ни собирали гостей. Даже гробы не делали – а так, бесшумно и безлюдно закапывали в стороне. Остапенко предстояло найти хоть какие-то координаты родственников самоубийцы, и отослать похоронку с адресом захоронения. Ведь вчерашнее письмо от брата было с пометкой «До востребования», а, значит, не представляло собой ни малейшего блока информации. Когда-нибудь, это все закончится, и люди захотят поставить кресты своим близким – верил он. Но, уже пятый год, крестов не было, и война не кончалась.
Бережно собрав пепел и окурок от сигареты, Остапенко сел за телефон. Он начал позванивать всех вышестоящих и большепонимающих в этом деле, но никто, на том конце провода, не мог найти личное дело Захаренко. Он словно прибыл из неоткуда. Удивительно, ведь весть о смерти его жены и детей пришла точно по адресу. Но точка отправления была неизвестной. Нет, конечно же все понимали, что искать нужно в Донецке. Но города этого уже фактически не было. Еще в 2014 его разбомбили, а нынешние редкие обстрелы, не оставили от него и вовсе следов. «Ищи ветра в поле» – подумал командир.
Терзания командира Остапенко прервал неожиданный визит Сибитова. Моторщик появился на пороге очень внезапно. Любое появление Сибитова было внезапным настолько, что многих оно пугало. Остапенко, не смотря на более высокий военный чин, побаивался этого парня, зная, что за любое неверное слово, он мог угодить в немилость начальства.
– Доброе утро, Петр Михайлович!
– Доброе, Алексей! Зачем пришел?
– По вопросу новенькой беглянки.
Остапенко привстал из-за стола и направился к умывальнику, чтобы набрать воды в стакан.
– А что с ней такое, Леш?
– Да ничего. Просто говорит, что ничего не помнит.
Командир начал мерными глотками отпивать воду, разделяя ими каждую свою фразу.
– Так, – глоток – ты же сам – глоток – говорил, что каждый беглец ничего не помнит.
Сибитов начал мяться и осматриваться по сторонам комнаты, в которой сотню раз уже был. Сотню раз он просил перевести нерадивых бегляцов в Запорожье, сотню раз он требовал представить солдат к трибуналу за тактически неверное высказывание, сотню раз предлагал понизить или и вовсе выгнать своих сослуживцев. А вот просить навести справки о ком-нибудь из врагов – ни разу. Сибитов где-то на уровне подсознания пытался оправдать свое желание помочь беглянке, служением закону военного времени. По уставу он должен был сначала обратиться к начальству за информацией о пойманном, а уж только потом, решать его судьбу. Сейчас же было все по-другому. Он хотел, то бы Она жила.
– Петр Михайлович, я требую обращения в штаб, по делу пойманного вчера врага. Вполне вероятно – она подосланный разведчик.
Остапенко поставил стакан, и с грозным видом, опершись кулаками на стол, привстал:
– Темнишь ты что-то Сибитов. Откуда она?
– Не знаю. По говору похоже, что откуда-то с юго-востока Беларуси. Не москвичка, и не северная – это точно. Не акает.
– И с каких это пор, Сибитов, ты начал людей по разговорам проверять?

