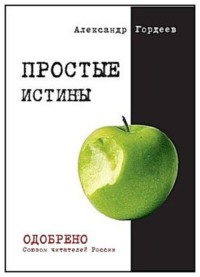полная версия
полная версияМолодой Бояркин
многим стало неловко за свое здоровье и веселость. Застолье несколько притихло. Старуха,
обведя взглядом всех гостей, подняла глаза на шкафы.
– Глядите-ка, – вдруг искренне удивилась она, – цветок-то распустился… Вай, вай, ну
прямо граммофон…
Все засмеялись. Валентина Петровна тоже засмеялась и позаботилась, чтобы мать
отнесли назад.
За столом щедро лилась и булькала водка. Много шумели и заставляли молодых
целоваться, оценивая поцелуи по десятибалльной шкале. Предварительная тренировочная
свадьба не научила молодых переносить это спокойно, и они на каждого крикнувшего
"горько" смотрели как на врага. Николай был благодарен своим родным за то, что хоть они-то
молчали.
А родные жениха, сидевшие все вместе, на шестом часу застолья понимали уже
многое. Мария давно мечтала о свадьбе сына, хотя и не ожидала ее так быстро.
Вначале невиданная ранее городская свадьба с "Волгами", с красивой церемонией, с
музыкой, да и собственное желание счастья для сына – все убеждало Марию, что
предсказания брата преувеличены, что хмурость Николая лишь от усталости, но теперь и
сама видела, что хмуриться тут было от чего. Но тогда в чем же дело? Что его держит?
Никита Артемьевич откровенно скучал. Не выпив сегодня и рюмки, он то и дело
поднимался с места и смотрел в окно, проверяя, на месте ли его машина.
Спокойнее всех была семидесятилетняя Степанида с редкими седыми волосами,
зачесанными к маленькой вьюшке на затылке. Она смотрела по-старушечьи наблюдательно и
цепко, словно собиралась вынести оценку всему происходящему, но с этой оценкой не
спешила, ожидая довода поубедительней.
За столом было уже много пьяных – застолье как будто подходило к концу.
– Давай-ка, брат, споем, что ли, – предложила Мария, наклонившись к Никите
Артемьевичу.
– Запевай, – обрадовано поддержал тот, вспомнив вдруг о том, что его сестра певунья.
С минуту они сосредоточивались, пытаясь найти в шуме хоть какой-то промежуток.
Не дождавшись, Мария вздохнула и чисто, сразу высоко затянула:
– Что-о сто-ишь, ка-ачаясь, то-онкая рябина…
Мария обычно говорила тихо и просто, но в песне ее голос звучал с таким внутренним
натяжением и силой, что, казалось, раздвигал само пространство. Никита Артемьевич,
заволновавшись, прослушал полкуплета и подхватил. Петь он любил, и странно, что сегодня
не ему первому пришла эта мысль.
Степанида заулыбалась, скрывая гордость и радость за своих детей, повернулась к
сидящей около нее Тамаре Петровне.
– Моя песня, – сказала она.
Тамара Петровна, тоже подстраиваясь под песню, с улыбкой кивнула.
В детстве Бояркин стыдился материного пения. Она пела часто, делая что-нибудь в
доме, но потом шла доить корову и так же громко пела во дворе. Стыдился, наверное, потому,
что никто больше в Елкино не пел просто так, – казалось бы, с ничего. Переживал, что ее
могут осуждать соседи, и уж совсем не понимал Гриню Коренева, который специально
приходил на лавочку послушать. Николай даже теперь еще не мог поверить, что Грине
нравились тогда эти тягучие песни, потому что сам-то он "дошел" до них лишь на службе,
когда вспоминал дом. Слова песен Николай знал с детства и мог бы сейчас подтянуть, но
побоялся сфальшивить, потому что он не жил той жизнью, в которой так естественно пелись
эти песни.
Было пропето два куплета, и певцы уже окончательно "вошли" в песню, в чувство,
заключающееся в ней, когда на порог с бутылками вступила Валентина Петровна.
Настроение ее давно было испорчено: Никита Артемьевич не обращал на нее внимания и
вообще был как бирюк. "Хоть напиться на дочериной свадьбе", – подумала она, поняв, что
надеяться на него нельзя, и теперь с успехом выполняла эту программу. Уже шатко держась
на ногах, она чувствовала себя горько несчастной, но хотела веселиться, и то, что гости
запели, сильно ее развеселило. Хозяйка притопнула, начала криво приплясывать какому-то
своему ритму и вдруг визгливо выкрикнула:
Эх, юбка моя,
Юбка тесная,
Сорок раз дала -
И не треснула!
Кажется, она не понимала того, что вылепила. Песня была широкая и сильная, но эта
частушка словно удавкой перехватила ее.
Мария растерянно замолчала. Тамара Петровна прикрыла рукой глаза от гостей и
убежала в комнату матери. Никита Артемьевич, ядовито усмехаясь, посматривал на
племянника. После частушки замолчали даже те, кто песню не слушал. Пауза продолжалась
уже с полминуты, и тут, услышав звуки, казалось бы, совершенно неуместные в этой
ситуации, все с удивлением пооборачивались к Степаниде. Степанида сидела вроде бы
спокойно, прищуренными глазами наблюдая за всеобщей заминкой, но где-то в глубине ее
зарождался тихий, неудержимый смех, который все больше и больше сотрясал все ее тело.
Степанида, вспомнив свои утренние сборы, подумала теперь: "Вот и поглядели сватью", – и
уже не могла удержаться. Она увидела свадьбу как бы со стороны, так, словно о свадьбе, на
которой сватья набралась до того, что запела матерные частушки, ей рассказали дома.
– Ой, девки, что творится-то, что творится-то! – еле выговаривала она, опрокидывая
голову назад, уронив от бессилья руки, и сотрясаясь от хохота, – ой, что творится, деется-то!
Хохотала она долго, никого не стесняясь, не стесняясь и того, что остальные молчали.
Мария и Никита, понимая, что смеется она не столько над свадьбой, сколько над собой и над
ними, опустили головы. Наконец, Степанида стала затихать, охая в полном изнеможении,
вынула из рукава кофты маленький платочек и вытерла глаза. Но и после смеха, не обращая
внимания на то, что все молчали и с недоумением пялились на нее, Степанида не чувствовала
неловкости. Спрятав платочек и все еще улыбаясь, она посмотрела по сторонам, отчего все
направленные на нее взгляды разом упали. Постепенно гости разговорились, но Степанида
на всю свадьбу посматривала уже с усмешкой, которой приобрела над застольем какую-то
невидимую власть, так что многие гости посматривали на нее с робостью.
Минут через десять, когда о неприятности забыли, с Николая вновь потребовали
выкуп. Кто-то из сыновей Тамары Петровны пролез под столом, стащил с ноги невесты
туфлю и доставил ее Раисе Петровне.
– Выкупай, выкупай, – требовала Раиса Петровна.
Бояркин с раздражением начал шарить по карманам.
– Поторопись, поторопись, – деловито кричала Раиска, приплясывая. – Сейчас невеста
плясать пойдет. Надо посмотреть, не хромая ли она. Выкупай, выкупай, выкупай…
– Не буду. Отказываюсь, – вдруг вполне спокойно сказал Бояркин.
– Почему? – спросила Раиса Петровна, переставая прыгать.
– Не желаю…
– Да ты что! Как же она будет танцевать-то? Как хромая? На одном каблуке? Выкупай,
говорят!
Бояркин достал из-под стола и поставил между тарелок вторую Наденькину туфлю.
– Можете взять и эту, – предложил он. – Теперь ноги равные. Наденька, станцуй
тетенькам… Давай, давай, выходи.
Невеста, ничего не понимая, вышла из-за стола.
– Ну, нельзя же так, – удивленно прошептала Валентина Петровна, глядя на короткие
пальцы дочери, выглядывающие из-под длинного белого подола. – Ты чего это издеваешься?!
– закричала она на жениха.
– Ну, вот что! – поднимаясь, твердо проговорил Бояркин. – Да выключите вы эту
музыку! Я вынужден сделать заявление. – Он постоял еще, дожидаясь тишины. – Делаю
заявление. Прошу прекратить этот балаган. Мы с Наденькой устали от ваших дурацких
шуток. Выкупать мне больше нечем, вот (Николай попытался вывернуть карманы брюк, но
они оказались пришитыми). Если надо пить, пейте на здоровье, но оставьте нас в покое.
Раиса Петровна захватала воздух ртом. Потом забегала около стола, даже не замечая,
что по пути расталкивает стулья с пьяными гостями, и разразилась причитаниями, в которых
пространно излагалось то, как сильно она любила племянницу и какого большого счастья ей
желала, но теперь уже не любит и не желает, и терпеть не может и ее, и жениха, и одну
сестру, и вторую, и соседку Клаву с ее лысым козлом, и пятиэтажный дом, где ни в одной
квартире не будет теперь ни одной ее ноги… Свое длинное предложение Раиса закончила уже
в коридоре, натягивая пальто. Валентина Петровна попыталась ее удержать, и схлопотала по-
мужски основательную пощечину. Она вознамерилась дать сдачи, но растрепанная сестра
уже выскочила на лестничную площадку и завыла там на все пять этажей; все должны были
знать, что у Парфутиных свадьба!
Валентина Петровна ринулась в комнату и увидела, что жених с невестой плачут, упав
головами на стол. Тогда отчего-то завыла и она.
Никита Артемьевич поспешил увезти мать и сестру.
Новобрачные ночевали на полу в комнате Нины Афанасьевны. Старуху опоили
лимонадом, и Бояркин слышал, как Наденька несколько раз вставала подать ей "утку".
* * *
С утра свадьба должна была продолжаться, но, пока все спали, молодые уехали к себе
на квартиру. Николаю из-за вчерашних событий и своих слез было стыдно видеть родных.
Один день он решил отсидеться и успокоиться. До самого вечера они с Наденькой смотрели
телевизор, перебирали фотографии. Николай рассказывал о службе, о прочитанных книгах,
об институте, но больше всего о самообразовании, которое теперь должно было стать еще
интенсивней и, может быть, как-то повлиять и на Наденьку. Какой бы ни была эта свадьбы,
но все-таки она показалась им переломным моментом – теперь они должны были крепче
держаться друг за друга; им даже казалось, что вчерашний позор отколол их в какой-то
степени и от того и от другого берега. Пожалуй, это был самый доверительный день их
жизни. С разговорами они до полпервого не легли спать, а в полвторого были разбужены
резким стуком по стеклу. Надернув трико, не проснувшийся толком, Николай хотел выйти в
сенцы и спросить, кто стучит, но только откинул он крючок, как ручку тут же выдернуло из
руки, и в комнату влетела Валентина Петровна. Бояркин отшатнулся, не узнавая ее.
Вытаращив глаза, он так и остался у колоды. Теща в длинном халате, к которому пучками
были нашиты пивные продырявленные пробки, пробежала к дивану, где лежала Наденька и
сдернула одеяло.
– Ты… – заорала она, щедро сыпя матами. – Ты, почему убежала со свадьбы? …ты,
такая! Для кого я старалась?
Наденька в одной рубашке села на диване, прикрывшись подушкой. Она как будто
ничему не удивилась и продолжала спать сидя. Николай подошел и встал рядом, ничего еще
не понимая. Валентина Петровна все распалялась. Их квартирку она назвала "домом
терпимости", а Наденьку "проституткой", но это были самые слабые ее выражения.
Окончательно взбесившись от собственной ругани, она замахнулась на Наденьку, и Николай
машинально, испуганно и от этого намертво перехватил ее руку.
– Кажется, я вас сейчас выкину отсюда, – сказал он.
– Паршивец, тварь неблагодарная! – рявкнула теща и, подпрыгнув, вцепилась ему в
волосы свободной рукой.
Бояркин, перекосясь от боли, с клоком собственных волос оторвал ее руку и
почувствовал непреодолимое, прямо-таки биологическое желание ударить. Казалось, сами
мышцы в руке заныли, ожидая сладкого стремительного действия. Переборов этот соблазн,
Николай, не чувствуя своей силы и удивляясь невесомости Валентины Петровны, мгновенно
вышвырнул ее за дверь. В ту секунду, когда теща была уже в воздухе по пути из комнаты в
сени, Бояркин испугался, что она ударится головой, но теща даже не упала… В темноте ее
поймали какие-то невидимые руки. Николай уставился в темноту. Он ожидал увидеть кого-
нибудь метрах в двух от себя, но вдруг перед самыми его глазами за край двери ухватились
пальцы в кольцах. Николай потянул ручку, и в проеме появилось красное от натуги лицо
другой сестры – Раисы Петровны. Бояркин медленно тянул дверь, и ему некогда было
удивляться – он бы не удивился, если бы увидел там еще десять разных лиц. Раису Петровну
Бояркин мог легко перетянуть, но она вдруг вставила голову в оставшуюся щель. Чтобы не
раздавить ей голову и не сломать пальцы, Бояркин схватил ее прямо за лицо и хотел
оттолкнуть. Раиса Петровна попыталась укусить ладонь, но ладони было только щекотно, и
Бояркину, несмотря на всю фантастичность ситуации, стало вдруг смешно.
– Коля, Коля, – загнусавила Раиса Петровна со сплющенным носом, – мы же по-
хорошему, мы вежливо, мы в гости…
И Бояркин вдруг отступил – он не мог понять, почему это сделал, он был просто
огорошен бесподобной метаморфозой Раисы Петровны. Обе сестры (грузная Раиса тоже
была в халате с пивными пробками) с ревом и воем ворвались в комнату.
Николай сел рядом с Наденькой. Он никогда не видел людей в такой степени
возбуждения и поначалу смотрел на происходящее неосмысленно, как на какую-то чужую
реальность, в которой по непонятным законам было естественно появляться откуда-то среди
ночи, причем поздней осенью в легких халатах с пивными пробками на них, орать, махать
кулаками, прыгать и лить слезы без видимой причины. Главная мысль всего их
последующего получасового представления заключалась в том, что испорченная свадьба не
может быть действительной. Недействительной была совместная жизнь молодых,
недействительна их квартира. Надо было сегодня продолжать гулять, а не сбегать. А если
сбежали, то все это аннулируется.
– Ну, так и гуляйте сами, кто вам не дает, – вставил Николай.
– А вот мы и гуляем! – взвизгнула теща. – Вот сейчас спляшем перед вами, барами.
От-та-та… от-та… Райка, давай-ка спляшем.
Валентина Петровна стала приплясывать. Это выглядело настолько глупо, что
казалось: теща вот-вот одумается и убежит от стыда, но ее вдруг поддержала и Раиса
Петровна – они заплясали обе, остервеняясь все больше и больше. Бояркин смотрел на них
даже с каким-то любопытством. Они плясали долго. Шло время, на улице стояла тишина, но
это их не касалось. Они без устали топали, звенели своими пробками, кричали и прыгали,
прыгали… Они почему-то не выдыхались, а даже, наоборот, только входили в азарт.
Валентина Петровна начала пристукивать комнатной антенной по верху телевизора, потом
колотить по-настоящему. Металлические стерженьки сломались, она порезала руку и стала
размазывать кровь по обоям. Увидела на окне Наденькины сережки и сгребла в карман.
– Мой подарок! Свадьбы не было. Надька, пойдем домой! Он недостоин тебя… Сейчас
все увезем…
Она спихнула их с дивана, содрала простынь и начала в узел собирать одеяло и
подушки, оставляя везде красные пятна. Раиса Петровна усердно помогала сестре.
– Мои обои! – вопила она, уже кромсая стены крест-накрест тупым кухонным ножом.
Наденька сидела на полу рядом с раздетым диваном. Она смотрела, не моргая и не
вздрагивая ни на стук, ни на крик.
Погром затягивался, и Николай медленно приходил в себя. Сначала он обнаружил, что
ни телевизор, еще не оплаченный полностью, ни обои, которые клеили очень старательно, не
было жаль. Появилась даже маленькая надежда: не вернется ли и вправду вся его жизнь в
прежнее русло. Он вдруг поймал себя на желании оказаться побежденным. По доброй воле
сдаться он им не мог, но если бы эти шаманки действительно его победили, то он бы,
пожалуй, не возражал.
– А хорош-шо вы работаете, – сказал он, – дружная бригада. Молодцы, ударницы!
Может вам помочь?
Увидев издевательскую улыбку, сестры молча бросились на него.
– Не бей, не трогай их! – крикнула Наденька, хотя Николаю вдруг, напротив, стало
даже весело.
Защищаясь, он толкнул Раису в ее ватную грудь, и она, наступив на подол своего
балахона, бухнулась задом так, что вздрогнули половицы, звякнули стаканы. Нож из ее руки
выпал, и Бояркин запнул его под диван. Падая, Раиска уронила и Валентину Петровну…
Потом они долго пытались подняться, но Бояркин сталкивал их одну на другую. Падая и
поднимаясь, сестры постепенно сместились в сторону двери и, воя от злости, на
четвереньках выползли в сени. Николай набросил крючок. Сестры уже устало поматерились
еще в сенцах, несколько раз пнули и ударили кулаками в обитую войлоком дверь и вышли во
двор. Бояркин затаился, опасаясь, что в окно может прилететь полено, но сестры, видимо,
утомились и ушли, стукнув калиткой.
Николай расслабленно опустился на диван. Было тихо. Голова болела от нервного
напряжения. Наденьку начало трясти от холода (дверь во все время визита родственников
оставалась открытой) или еще не известно от чего. Бояркин напоил ее водой и завернул в
одеяло. В комнате был кавардак, но все можно было прибрать, антенну купить новую, обои
подклеить, Все остальное оставалось неизменным.
Наденька лежала, изредка всхлипывая. Николай вспомнил о своем желании во время
визита гостей, чтобы они забрали ее с собой, и зло выругался. "Да как я могу! – подумал он. –
Разве ей можно с ними!" Он заставил себя встать и начать мести комнату. Около дивана
подобрал несколько пучков пивных пробок и выбросил в коробку с мусором. Подумав, один
пучок повесил на гвоздь как своеобразный свадебный сувенир.
Появиться у дяди Бояркин не осмелился и на другой день. Потом была работа, и,
заехав к нему лишь на третьи сутки, он не застал там ни матери, ни бабушки. Олюшка
рассказала, что они уехали утром, так и не дождавшись его. Не желая встречаться с
разозленным дядей, Николай побыстрее ушел.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
С утра Ларионов был веселым и таким легким на язык, что во взаимном
пересмеивании посадил в калошу даже Федоськина. После Федоськина он принялся за
набыченного сегодня круглощекого Черешкова.
– С начальством надо жить мирно, – поучал он, смеясь так, что от его глаз к вискам
веером разбегались тонкие морщинки. – Мостов правильно лишил тебя премии – не будешь
против него выступать на собрании. Чересчур горячий ты, Сережа. Я, когда молодым сюда
пришел, тоже выступал. Мостов поднял на собрании какого-то дедка и начал чесать его в
хвост и в гриву. Я и взвился. "Как, – говорю, – вам не стыдно такими словами! Да Иван
Иванович вам в отцы годится". А после собрания этот Иван Иванович смеется надо мной.
Меня-то, мол, за дело, а ты чего? Не прыгай зря. Смотрю, а с него эта ругань как с гуся вода.
И я сей же момент все понял. Так ведь я-то тогда еще совсем молодой был. А ты, Сережа…
Ты же солидный мужик, вон какую мозоль наработал, – Ларионов кивнул на живот
Черешкова.– Ну, так и усвой ты этот мудрый совет – не прыгай. Ходи ровно – и премия
всегда будет в кармане.
– Я что, я на собрании уже и выступить не могу? – буркнул Черешков. – Это мое
право.
– Ну, все верно – ты можешь использовать свое право, а он свое. Но его-то право
больше, потому что он учился, а ты вместо этого по девкам бегал. Да ты не обижайся, и я
такой же. Ты-то еще ладно, а вот я так вообще тюфтя. Даже квартиры путной не имею. И
обижаться не на кого. В жизни так и бывает, что если чего-то не имеешь, значит, и не можешь
иметь.
Подсмеивание Ларионова неожиданно закончилось тем, что он сел и надолго
замолчал. Все это происходило в комнате приема пищи, где почти вся бригада пила молоко,
только что полученное около проходной по дороге на работу. Бояркин, пользуясь тем, что
начальство еще не приехало, листал свой блокнотик. Сегодня после работы он собирался в
читальный зал. Недавно совсем случайно в одной из книг он наткнулся на указание, что у
французского социалиста-утописта Шарля Фурье был план общественной организации,
называемый "Гармония". Бояркин заинтересовался этим уже из-за одного названия. В
последний раз в читалке он, получив на руки книгу Фурье, решил сначала пролистать ее и
остановился на высказывании о том, что дисгармоническое проявление чувств, страстей –
это результат дисгармоничности действительности. Эта мысль дала Николаю такой толчок
для размышления, что он, много вычеркивая и переделывая, писал потом до самого вечера.
Сегодня он намечал закончить свое стихийно возникшее сочинение, а пока между делом
хотел кое о чем подумать.
Напившись молока и побросав пакеты в ведро, все разошлись по своим местам, а
Бояркин остался, потому что должен был идти осматривать оборудование после возвращения
своего старшого. Борис вернулся почти через полчаса в еще более подавленном настроении.
В комнате приема пищи сидел еще Петр Михайлович Шапкин.
Положив каску на подоконник, Ларионов в своей чистой робе и в мягких,
промасленных ботинках несколько раз прошелся около двери по кафелю, выложенному в
виде шахматной доски.
– И чего моей душе хочется? – почти со стоном, но и с неизменной иронией заговорил
он. – Выйти бы сейчас на какую-нибудь площадь и крикнуть: "Кто знает, так скажите –
пятнадцать копеек дам".
– Бориська! – необыкновенно радостно закричал в это время появившийся на пороге
Федоськин. – Давай я тебя в шашки обдую, пока Мостов с Карасевым не приехали!
Иногда им удавалось сыграть в маленькие дорожные шашки, которые Ларионов
постоянно носил в нагрудном кармане, но Федоськин никогда не выигрывал.
– Иди к черту! – огрызнулся Борис. – Опять будешь зубоскалить. Тебе лишь бы время
провести.
– Конечно, сыграл – и конец вахты ближе.
– У тебя все просто. А у меня за этими шашками полжизни проходит. Здесь тебя
развлекаю, дома соседа. Жизнь и так из ничего состоит. Каждый день одно и то же.
– И чего ты все страдаешь, – начал рассуждать Петр Михайлович. – Не пропадает твое
время – у тебя же сын растет…
– Так в том-то ведь и дело! А из сына кого я рощу? Такого же байбака, как я сам?!
Борис замолчал, уставясь в окно на эстакаду с трубами.
– Нет. Не терплю рядом с собой серых рож, – сказал Федоськин.– Давай-ка я тебя
растормошу. Сбрось, сбрось это ненужное напряжение. Утю-тю-тю-тю-тю…
Он сунулся к нему со своей "козой" из двух пальцев.
– Ой, да уйди ты… – взмолился Ларионов.
– Не уйду. Зачем ты так серьезно думаешь? – На то и голова, чтобы думать.
– А что толку? Думать – это лишнее. Напридумывали всяких теорий: теория
вероятности, теория относительности. Эйнштейн говорил, что где-то пространство
расширяется. Ну и что? Вот если бы он у меня в квартире пространство расширил, тогда бы я
еще пожал ему руку.
– Ну, этого парня опять понесло, – криво усмехнувшись, сказал Борис.
– Может быть, бутылочку после работы? – делая новый ход, предложил Федоськин.
– Да отцепись ты, змей! Ты мне и без бутылочки надоел.
После смены, переодеваясь в чистое, Борис почувствовал какую-то особенную
душевную усталость. Он давно понимал бессмысленность своей жизни, но сегодня это
резануло так, что горечь выплеснулась наружу.
До службы Борис Ларионов пытался поступить в сельскохозяйственный институт, но,
прослужив два года в городе, о сельской жизни перестал и думать. Демобилизовавшись,
окончил краткие курсы и стал работать монтажником. Первым его объектом оказалась
десятимиллионка, на которой он и остался обслуживать те же насосы, которые монтировал.
Это показалось спокойней, давало много свободного времени. И вот с тех пор все пошло как
по кругу. .
Больше всего Ларионов боялся со временем уподобиться Петру Михайловичу
Шапкину, утверждающему, что за сорок пять лет своей жизни он не сделал ни одной ошибки,
хотя ему приходилось бывать в жутких передрягах. В бригаде посмеивались над его
"жуткими передрягами" как раз потому, что слишком верили в его безошибочность. За долгие
годы основное действие, производимое им на установке, было корректировка
технологического режима, подгонка его под необходимый шаблон. Зная свою жизнь с такой
же точностью, как заданные параметры на восемь часов вахты, он с профессиональным
чутьем предвидел в ней все возможные неувязки и вовремя реагировал, отводил их, как ветки
от лица, когда идешь по лесу. Работал он всегда исправно и всегда на одном месте. Жену
избрал точно, не перебирая женщин. Детей выучил. Всю жизнь ездил на одном трамвае по
одному маршруту, ходил в одни и те же магазины, в один и тот же кинотеатр; и, наверное,