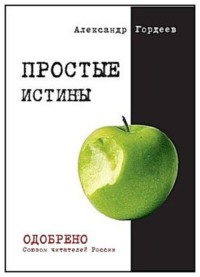полная версия
полная версияМолодой Бояркин
растолковывать смысл того или иного своего поступка, жеста или обыкновенного,
брошенного на нее взгляда, который она принимала за насмешливый или издевательский.
Иногда, рассказывая о чем-либо важном, Бояркин невольно загорался и, как при спорах в
общежитии, начинал говорить громко, с напором. У Наденьки в ответ на это срабатывал
старый предохранитель – она переставала слушать и смотрела отрешенно в сторону,
воспринимая его слова, как ругань в свой адрес. Николай уже не раз объяснял, что если он
будет говорить спокойно, то и сама его мысль будет уже не той. Наденька кивала головой, но
все равно обижалась.
– В общем, ты не молчи, пожалуйста, когда я тебя о чем-нибудь спрашиваю, хорошо?
– попросил Бояркин уже, должно быть, в сотый раз за время их короткой совместной жизни.
– Ну что я с собой сделаю? – сокрушенно сказала она. – Трудно мне начать жить по-
другому. Мы с матерью привыкли молчать.
Бояркин почувствовал вину за свое нетерпение – сама по себе Наденька чиста,
бороться надо против дурного в ней, против чего она и сама, конечно, борется. Николай
поднялся с корточек, подошел, погладил ее по плечу.
– Да, сегодня ко мне Нюрка забегала, – вдруг сказала Наденька.
"Замолчи! – хотелось заорать теперь Николаю. – К черту, твою Нюрку!" Он слышал
однажды их разговор, когда подруги случайно столкнулись на улице. Говорили они о
помадах, о лаках, о джинсах. Бояркин отошел в сторону, чтобы прохожие не заподозрили, что
он имеет к ним какое-то отношение, а за Наденьку, за неожиданное свечение ее глаз, было
стыдно.
Бояркин понял, что преобразовывать ее необходимо полностью, до самых глубин, но
так, чтобы преобразование происходило естественно. Надо создать особую атмосферу,
наладить общение, попробовать заинтересовать ее музыкой. Она невзлюбила ее из-за
принудительных занятий, но если она заинтересуется сама, то дело пойдет. Именно для
этого-то и была сегодня небрежно брошена на диван подшивка журналов.
Поужинав, Бояркин взялся за книжку и с нетерпением стал ждать, когда Наденька
помоет посуду и увидит журналы. И потом, когда Наденька протерла стол и, удивленно
хмыкнув, взяла их в руки, Николай даже заволновался. Он делал вид, что читает, а сам все
косился на жену. Листала она быстро, задерживаясь на страницах, где крупным планом были
сфотографированы певицы, пробрасывая листы с нотами. Наконец, она перевернула
последнюю страницу и, не замечая кислого выражения на лице мужа, потянулась за
программкой телевидения. Николай понял, что с этой подшивкой она покончила раз и
навсегда.
– Постой, – сказал он, – тебе разве это совсем не интересно?
Наденька неопределенно пожала плечами.
– Знаешь что, – осторожно продолжил Николай, – хорошо, если бы ты мне кое в чем
помогла. Я всю жизнь мечтаю разобраться в музыке, научиться понимать ее, быть в курсе
музыкальной жизни. Но времени мне не хватает. Было бы неплохо, если бы в это вникла ты и
потом просвещала меня.
– Я в музыке ничего не понимаю, – тихо проговорила Наденька. – У меня нет слуха.
– Так попытайся хоть немного его развить.
– Нет. У меня нет слуха…
– Наденька, для того чтобы узнать свои способности, надо попробовать их применить.
– Как же пробовать то, чего нет? У меня вообще нет никаких способностей – я
бездарная.
Вечером Бояркин долго лежал без сна, думая о том, что если в каждом человеке есть
какой-то талант, как утверждали это великие педагоги, то как его обнаружить в Наденьке? В
свою бездарность она верила вполне искренне, потому что хорошо усвоила это с материными
и теткиными тычками по голове, когда не могла справиться с уроками. Как внедрить теперь в
нее хоть небольшую уверенность, надежду? Николай понял, что начал он с ошибки. Не надо
было трогать музыку, потому что Наденька считает неспособной себя к ней и теперь
распространит свое неверие и на все остальное. Спешить тут не нужно. Если в Наденьке что-
то есть, оно все равно проявится. Надо просто подождать.
* * *
В конце недели Наденька съездила в деревню к тетке Тамаре и привезла тюк
постельного белья и двести рублей в придачу – это был подарок тетки, которая признала
свадьбу законной. Бояркин, не привыкший к подаркам, почувствовал себя очень обязанным.
Через неделю он и Наденька поехали в Микишиху, надеясь чем-нибудь помочь тетке
по хозяйству. Деревня была рядом с автомобильной трассой и с высокой насыпи виделась
почти вся с маленькими белеными домиками.
Первый, недавно выпавший снег стаял, и зима как будто отступила. Воздух в эти дни
был прозрачный и холодный. Выйдя из автобусного бензинного тепла, Николай и Наденька с
наслаждением вздохнули полными легкими.
Вечером тетка угостила их домашней настойкой, а пока собирала на стол,
раскраснелась и вся задышала приветливостью и уютом.
– Ну, и как вы поживаете? – спросила она, выпив рюмку.
Бояркин вдруг вспомнил, что тетка Тамара имеет влияние на Наденьку, и решил этим
воспользоваться.
– Ссоримся, – с улыбкой доверился он. – Никак не могу заставить ее чем-нибудь
увлечься. Что-то не хочет она прислушиваться ко мне.
Николай был уверен, что скажи сейчас Тамара Петровна Наденьке "прислушиваться"
и та послушается.
– А что, так-то Наденька плохая для тебя? – с обидой спросила добрая тетка. – Да ведь
такую хозяйку поискать. Все умеет – и сварит, и помоет. Ведь она же росла-то без отца, без
матери…
И Бояркин замолчал, поняв, что доброта доброте рознь. Она бывает для всех, как
лампочка под потолком, а бывает узким лучом для одного.
Никакой посильной работы в хозяйстве тетки Тамары не нашлось. В этот год она за
четыреста рублей продала корову и двести рублей подарила им. Николай, узнав о корове и
осмотрев дом тетки Тамары – старый, уходящий в землю, с разбитой дверью, – понял,
насколько искренне она желала счастья любимой племяннице, Счастье предназначалось в
первую очередь именно для Наденьки, Бояркин же служил лишь средством для этого. Но так
как он тоже был вынужден пользоваться теткиными деньгами, то задолженность перед ней
почувствовал просто мучительно. Причем это была задолженность, которую можно было
оплатить только хорошей жизнью с Наденькой. Хорошей опять же в представлении тетки
Тамары.
На второй день в Микишихе Николай и Наденька лежали на расчатом стоге сухого,
щекочущего сена за деревней. Вверху висели облака – огромные, объемные и белые. Должно
быть, глядя на такие облака, предки и придумали небесный мир, в котором все совершенней
и чище. К Бояркину при виде спокойных облаков обычно возвращалась детская утопическая
мечта о свободном парении.
– Ой, какой там человечек! – воскликнула вдруг Наденька. – Вон прямо над нами.
– Где? Не вижу, – сказал Бояркин, обрадованный тем, что Наденька видит то, чего не
видит он сам. Ему вообще хотелось какого-нибудь ее превосходства.
– Как же ты не видишь, – с досадой проговорила Наденька. – Сейчас уже исчезнет… на
ребеночка похож…
И тут она осеклась, испугавшись, что выдала себя тем, что произнесла слово
"ребеночек", и тем, как нежно его сказала.
– А нарисовать его ты бы смогла? – спросил Бояркин, лежа на спине.
– Наверное, смогла бы, – рассеянно ответила Наденька.
– Ах, так вот оно в чем дело! Вот! – воскликнул Николай, с шуршанием повернувшись
и взглянув ей в глаза. – Я верил в тебя. Теперь я знаю, что тебе нужно.
Нетерпеливому Бояркину требовалось совсем немного. В городе он купил Наденьке
хороший альбом, с трудом достал наборы цветных карандашей и фломастеров. И потом
каждый день тайно проверял, не появилось ли что в этом альбоме. Там ничего не появлялось.
"Напрасно я с ней вожусь, – начал подумывать Бояркин, – ничего из нее не выйдет. Но я не
имею права оставить ее, не испробовав все. Надо сделать так, чтобы после меня она
продолжала жить более наполнено. Надо потерпеть".
По выходным дням Бояркин стал бывать в читальном зале городской библиотеки,
деловая атмосфера которого заставляла его внутренне подтягиваться и требовательней
относиться к себе самому. Работал он до изнеможения: когда голова тяжелела, откидывался
на спинку стула и, отдыхая, смотрел на книжные полки за открытыми дверями. Когда-то
множество книг пугало. Теперь он думал, что человеческий мозг в состоянии освоить куда
больше, чем написано во всех этих книгах. Пространство мозга неограниченно; в маленьком
кусочке активированного угля столько пор, что площадь их стенок составляет десятки
квадратных метров. Это трудно представить, но это так. То же и с человеческим мозгом. И
хотя не нужно усваивать все книги, но мозг может их усвоить. Бояркин пытался принять в
себя все, что возможно.
Каким образом воспитывать у людей объемное, гармоничное мировоззрение? – таким
был главный вопрос, на который пытался ответить Бояркин.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Валентина Петровна, к страшному неудовольствию Бояркина, стала приезжать в
гости. Однажды она обмолвилась, что уж если Наденька и Николай живут вместе и справили
что-то похожее на свадьбу, то не мешало бы приобрести им и колечки.
– У нас нет денег, – буркнул Бояркин.
– А я вам помогу, – пообещала Валентина Петровна.
Николай лишь пожал плечами. В это время, углубленный в свое самообразование, в
свои внутренние проблемы, он все изменения внешней жизни замечал как бы боковым
зрением. Колечки так колечки! Больше всего его занимала мысль – намного ли отстал он от
своих институтских товарищей. Он надеялся, что ненамного.
Еще через несколько дней от Валентины Петровны стало известно, что эти колечки, на
которые он уже согласился, но на которые не имеет денег, могут стоить и подешевле, если
подать заявление в загс. На первый раз она ограничилась одним намеком, но потом стала
говорить об этом каждый день. Это привело к тому, что Николай, как будто бы и не особенно
прислушивающийся к Валентине Петровне, вдруг почувствовал еще одну задолженность:
почему это он мучает ее – не расписавшись, живет с ее дочерью. Он написал заявление в загс
и по совету Валентины Петровны сообщил об этом родителям. Для Валентины Петровны это
было важной победой, а для Бояркина лишь незначительной уступкой, потому что он не
видел принципиальной разницы между официальной женитьбой и неофициальной – для него
и неофициальная была вполне действительной. Но если уж этой регистрации придается
такое значение, то ее можно и перетерпеть. Через полторы недели от родителей пришли
поздравления, деньги и обещание приехать. Получив солидную сумму, Николай даже
удивился – неужели все настолько важно? Ну, что ж, свадьба так свадьба. Наденька, правда,
так и не менялась под его влиянием. Да и в себе самом Бояркин не чувствовал ожидаемой
перемены. Его понятие о женской красоте, вопреки его ожиданиям, почему-то не
конкретизировалось по Наденькиному типу – Наденька вовсе не становилась для него все
более и более красивой и привлекательной. Как и раньше, ему нравилось наблюдать за
девушками, которые даже близко не подходили к ее типу. "Но может быть, сама по себе
свадьба как-то изменит это…" – надеялся он. Другой надежды у него уже не оставалось.
* * *
До поры до времени Валентине Петровне было достаточно от Бояркина и равнодушия
к надвигающимся событиям, но когда все мероприятие, называемое свадьбой, приобрело
силу неостановимого потока, тогда она и Бояркина подтолкнула туда, чтобы, ощутив себя
кузнецом собственного счастья, он не имел потом претензий. Накануне регистрации она
пожаловалась Николаю, что водки куплено мало, и хорошо бы жениху позаботиться хоть об
этом. Она так и сказала: "хотя бы об этом", – уже явно не одобряя его пассивности.
Свадьбу назначили на выходной, и на работе не пришлось отпрашиваться и сообщать
о таком событии. Последняя вахта была ночной. Утром с работы Николай поехал прямо к
Никите Артемьевичу: кто-то из своих, мать или отец, должны были приехать туда. Кроме
того, Николай нуждался в дядиной помощи: накануне, обойдя несколько магазинов, он так и
не нашел ни бутылки водки, а регистрация ожидалась после обеда.
В автобусах, идущих со стороны нефтекомбината, было свободно, а встречные
автобусы были переполнены. Люди, едущие в утреннюю смену, легко отличались от
возвращающихся из ночной. Одни были свежими, бодрыми, выбритыми и
проодеколоненными, другие – со щетиной, с набрякшими от бессонной ночи глазами. Но и у
тех и у других впереди было обычное, повседневное, а у Бояркина сегодня ожидалось
особенное, что надо было спокойно перетерпеть, несмотря на ватную усталость в голове.
Николай ехал, удобно устроившись на сиденье и наблюдая за привычным течением жизни
вокруг, всеми силами пытался, как можно больше активизироваться. Это трудно удавалось,
тем более что до дяди пришлось ехать долго, на двух автобусах, а на промежуточной
остановке постоять в облаке бензинного дыма.
Дверь ему открыла радостная Олюшка. Она только что встала и умылась: кожа,
промытая мылом, блестела чистотой, а колечки волос у висков, обычно соломенного цвета,
были темными и тонкими от влаги.
– А у нас гости, а у нас гости, – защебетала она, растопырив руки и делая вид, что не
пропустит его. Николай погладил ее по голове и легонько отстранил за плечи. В комнате на
диване, в очках на носу и с фотоальбомом на коленях, сидела бабушка Степанида, или
Артюшиха, как называли ее в Елкино. Бояркин не видел ее с тех пор, как уехал из дома после
школы. Когда он демобилизовался, бабушка жила уже у Георгия на Байкале. Потом ей там в
своем отдельном домике что-то не понравилось, и она как бы в гости, но с видом на
жительство, ездила и к Людмиле в Саратов, и к Лидии в Тулу, и даже к Олегу на Лену. Но
перекочевала потом на станцию Мазурантово к дочери Полине. В Мазурантово когда-то жил
брат Степаниды – Андрей, но, похоронив мать Лукерью Илларионовну, он подался в
областной центр к жизни более легкой, чем в леспромхозе. А Полина очутилась в
Мазурантово лишь потому, что ее Василий перевернулся на грузовике с полным кузовом
водки и отбывал там "химию" за причиненный материальный ущерб. Но и у Полины
Степанида прожила недолго. Заговорила вдруг о доме престарелых. Узнала об этом Мария,
пригнала машину, с шумом, с руганью заставила мужиков сгрузить вещи и увезла мать к себе
в Ковыльное. Теперь Степанида там и жила, у родителей Николая.
Бабушка, по своему обыкновению, встретила внука сдержанно, не выплескивая сразу
всей радости, и Николай уже знал, что радость эта долго потом будет проступать в каждом ее
слове и жесте.
– Ну, а невесту чего не кажешь? – сразу спросила она, не тратя слов на то, как
изменился, как возмужал внук. Она видела его на карточках, которые обычно разглядывала
подолгу, и это ей хоть как-то заменяло встречи.
– Дома невеста, – сказал Николай. – А мама не приехала?
– Как же, усидит она! Приехала! И меня вот притащила. Ушли они с Никитой волосы
плоить в эту в полит… в поликт… в поликтмахтерску. .
Бабушка засмеялась над тем, как не вышло у нее нужное слово.
– Ну, а ты что же отстала? – спросил Николай.
– Волосья-то плоить? Ох-хо-о, – захохотала она, откинувшись на спинку дивана,
обессилено уронив руку с очками и сотрясаясь всем телом. – Вот брава бы я наплоенная-то
была! Ох, ох… Люди-то бы сказали: посмотрите-ка, что старая сучка-то делает! Ох, ох… Ну,
ты Колька, вечно что-нибудь выскажешь…
Она едва успокоилась, вытерла платочком глаза. Николай наблюдал за ней, чувствуя
какое-то отмягчение в груди.
– Ну, и как, в Ковыльном-то тебе нравится? – спросил он.
– Нет, Колька, не ндравится, – ответила она грустно, сразу посерьезнев. – Одна какая-
то степь… А пылища-то, пылища-то! Да уж ладно, доживу теперь и там. Мне ить недолго
осталось. Умру я скоро, Колька… – она посмотрела в большое окно, свободно вздохнула и
повторила. – Совсем немного осталось, с полгода, может…
– Не надо, баба, не умирай, – сказала Олюшка, пристраиваясь к ней сбоку под руку,
как под крыло, но, почему-то опасаясь плотно приникнуть. – Оставайся лучше у нас жить.
– Ой, ну что ты тут говоришь! – рассерженно сказал Николай. – У меня сегодня такой
день, а ты! Давай-ка, смени пластинку. Генка, ты мне отцову бритву найди.
Генка, сидевший на стуле рядом с диваном, отдал бабушке пакет с фотографиями и
пошел в спальню.
Когда Николай побрился, вернулись дядя и мать.
– Ого-го, женишок-то уже тут! – с усмешкой воскликнул Никита Артемьевич так, что
Николай понял: он уже обрисовал событие по-своему.
Мать была красивой, торжественной и очень помолодевшей, потому что, скрывая
седину, подкрасила волосы в свой естественный цвет, чего, кажется, не делала еще ни разу.
– Ты опять усы отпустил, – упрекнула она сына. – Ведь не идет же тебе.
– Да я и сам вижу. Надо бы сбрить…
– Так и сбрей сейчас. Тебя сегодня фотографировать будут. Свадьба же…
– Да ладно… Некогда сейчас.
– Вот так дает! – сказала бабушка, всплеснув руками. – Так ить это же свадьба!
Опасаясь возможного, но уже лишнего теперь обсуждения, Николай сказал про водку.
– А что же ты раньше-то думал, – недовольно пробурчал Никита Артемьевич.
– А, да что там раньше, – махнув рукой, неопределенно ответил Николай. – Кто же мог
знать…
– Ну ладно, давайте-ка, женщины, собирайтесь, – подумав, сказал Никита
Артемьевич. – Сейчас сразу отвезу вас на место, а потом будем водку искать.
– Поехали, поехали, – оживилась Степанида, поднимаясь с мягкого дивана и с трудом
делая первые шаги затекшими ногами, – поглядим, что за невесту да сватью ты нам добыл.
* * *
У Парфутиных никого еще не было. Не было и самой Валентины Петровны, которая с
самого утра бегала по магазинам. Мария и Степанида познакомились со смущенной
Наденькой и с Ниной Афанасьевной, завели какой-то разговор. Никита Артемьевич с
Николаем поехали на поиски водки.
– Не верю я ничему на свете, – сказал вдруг дядя, выруливая со двора на улицу, –
сильно много грязи во всем. Помнишь ту, которую я на дачу возил? Уже три раза ловила меня
как бы случайно. На работу приходила. Замуж просится. Понравилось ей в машине на дачу
кататься да ходить там в Аннушкиных тапочках. Ох, надоели они мне все.
Пришлось объезжать множество магазинов, и Никита Артемьевич вошел в азарт.
Оказывается, дядя умел ловко, несколькими фразами, подобрать ключик к любой
продавщице, а потом каждый раз описывал ситуацию: свадьба, женится любимый
племянник, вот он сам – новобрачный, очень хороший парень, надо выручить. Пожилые
продавщицы смотрели на Николая с любопытством, молодые с насмешкой. Бояркину же
приходилось на все улыбаться, хотя в третьем магазине его чуть не стошнило от собственной
улыбки.
Водку они добыли и привезли к Валентине Петровне за час до регистрации. В
квартире кроме хозяйки и родных жениха были Раиса Петровна, Тамара Петровна с
четырьмя сыновьями, пузатенькая Клава с лысым мужем, еще несколько незнакомых,
нарядно одетых гостей. Все они поприветствовали Бояркина с шумом, как старого друга или
героя.
В толчее жениха вместе с его стекольно-звонкими сумками протолкнули к невесте,
стоящей как белое изваяние. В длинном платье и на высоких каблуках Наденька показалась
незнакомой. Всеобщее внимание ее доконало – на белом от волнения лице застыло такое
неясное выражение, словно у нее замерзли все зубы. Она очень боялась – полтора месяца
знакомства и совместной жизни ни ей, ни ее матери не казались сегодня твердой гарантией от
внезапного исчезновения жениха. Валентине Петровне хоть придавали уверенность
оставленные заложники – бабушка и мать жениха, но до Наденьки это спасительное
умозаключение не доходило.
Вся широколистная оранжерея большой комнаты, сидящая в горшках и кастрюлях,
была сегодня поднята на пианино, сервант и книжный шкаф. И под этой мощной сенью
горбатился один большой стол, построенный из отдельных маленьких, разной высоты
столов, весь покрытый тарелками, бутылками, рюмками. "Ого-го, – пронеслось в голове
Бояркина, увидевшего этот стол, – да тут все серьезно". Больше всего ему хотелось присесть
или еще лучше поспать, как бывало после ночной смены. Да и пообедать бы уже…
Валентина Петровна выхватила у него, наконец, сумки и заторопила. Его дядя ей
понравился. Ей показалось, что и сам он взглянул на нее заинтересованно. Сразу же за его
спиной она осмотрела свое лицо в макияже, улыбнулась, оскалив чернеющие зубы, и
осталась довольна яркостью алых, пламенных губ, считая это самым главным.
Через десять минут почти вся толпа двинулась вниз – садиться в подкатившие такси.
Потом Бояркин никак не мог четко уяснить свою роль в катании на машинах, в
фотографировании… Не понимал, почему именно он центр внимания, отчего ему задают
вопросы и подсказывают каждый шаг. Он чувствовал вину и перед Наденькой за то, что
никто не посчитался с придуманным ими планом, за то, что пришлось подчиниться
Валентине Петровне и Раисе Петровне, особенно активно всем распоряжающейся.
В загсе перед торжественной женщиной с красной лентой через плечо Бояркин стоял
растерянный. Он пытался переживать то, что, по его мнению, было положено переживать в
таком случае, но никакого высокого волнения не находилось. После церемонии
бракосочетания в загсе начались какие-то нелепые свадебные ритуалы, которых он не знал, и
знать не хотел, и которые казались ему сплошным издевательством. Комсомольская свадьба
Мучагина была единственной свадьбой, в которой ему приходилось участвовать, но там все
было просто.
Поначалу Никита Артемьевич взялся выполнять обязанности шафера, но,
разозленный не в меру активными сестрами, быстро отмахнулся от своей почетной роли.
Тогда все свалилось на того, кому отмахнуться никак было нельзя – на самого жениха. То и
дело Николай должен был что-либо выкупать: то лестницу, по которой вместе с невестой
поднимались в квартиру, то стулья себе и Наденьке, то право подвинуться, то право пройти.
Сразу же по возвращении из загса, когда все устроились за столом, Раиса Петровна
развернула какой-то длинный свиток и прочла.
– Любимой племяннице и ее избраннику в спутники жизни…
Это было подробное изложение правил семейной жизни, созданное Раисой Петровной
в последнюю ночь по воспоминаниям совместной жизни с мужем-алкоголиком,
скончавшимся три года назад от рака желудка, и на основе опыта с захаживающим в гости
майором бронетанковых войск. По сути, это было краткое изложение ее жизни, с
акцентированием на некоторых, как ей казалось, поучительных моментах. При чтении Раиса
Петровна впала в лирическое волнение. Еще с утра она немного пригубила, и теперь считала
себя причастной к счастью молодых. Разве не она воспитывала любимую племянницу, когда
та училась в девятом и десятом, стуча по ее голове костяшками пальцев или, держа руки,
пока мать нахлестывала по щекам? Что ж, воспитание пошло на пользу – Наденька давно
была уже ласковой и послушной, что для жены наипервейшее качество.
Бояркин, слышавший уже во всех подробностях об этом воспитании и на собственной
шкуре испытавший упрямство, которым оно обернулось, едва сдерживался, чтобы не
захохотать над дутой тетушкиной значимостью и грамотой.
Потом на краткое время, видимо, для какого-то символического благословения была
вместе с креслом вынесена Нина Афанасьевна, подвязанная белым платочком. С утра она
видела тени, мелькающие в щели под дверью, потом успела поговорить с дочерью Тамарой и
пожаловаться на немощь Степаниде. Потом все ушли, а в ее комнату внесли цветок с
сочными листьями, которые она, не удержавшись, долго ощупывала с радостью и
удивлением.
Внесенная старуха была опрятно одета, и Валентина Петровна с гордостью несколько
минут простояла за спинкой ее кресла. Но в этой комнате, где она не была уже целый год,
Нина Афанасьевна со своей дряблой синеватой кожей показалась какой-то неуместной, и