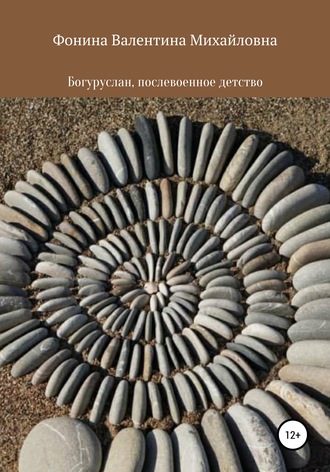 полная версия
полная версияБогуруслан, послевоенное детство
СМЕРТЬ МАТЕРИ
Приступаю к самым скорбным страницам жизни. Мамочка наша слегла. Галю увезли в деревню к тёте Шуре. Незадолго до смерти, Галю привезли из деревни, попрощаться. Её положили к мамочке. Мамочка, грустно улыбаясь, предложила ей свою иссохшую грудь. Галя дотронулась до соска и отвернулась. Шапочка на ней была такая с двумя ушками над глазками. Хорошенькая.
Пролежала мамочка один месяц. У неё были страшные боли. Она стала жёлтая, очень похудела. В туалет вставала на ведро, потом зажигала длинную бумагу и водила факелом, чтобы нейтрализовать запах. Кушать стало нечего. Помню, был разговор, что Михаила Трофимовича нечем кормить. Спасала меня, конечно, моя дорогая крёстная. Она тюрей меня кормила. Мне 12 мая 1949 года исполнилось уже 7 лет, и я хорошо помню, как приходил навещать мамочку Илларион. Помню, что мне это не нравилось; и я как-то ревниво смотрела, как он присел у её изголовья, как они тихо говорили. Он положил рядом с кроватью французскую булочку и крупное румяное яблоко.
Был Илларион высоченного роста, всё лицо в оспинах. Илларион не женился больше и только пил и пил. Фамилия Ратановых в Бугуруслане распространенная.
За несколько дней до смерти мама подозвала меня к себе : «Валя, подойди ко мне. Ближе. Я скоро умру. Отец тебя будет бить».
У мамочки начались жестокие боли. По вечерам она кричала: «Убейте меня! Дайте нож – я зарежусь сама!» Тогда обезболивающих не кололи. Или, может, денег на них не было, я не знаю. Только страдала мамочка ужасно. Дня за два до смерти ей парализовало правую сторону. Мамочка лежала на спине, и правый глаз её не слушался. Умерла она, наверное, 23 мая, потому что хоронили 25-го.
Я сидела за столом и рисовала, за стеной жена дяди Лёши-электромонтёра укачивала ребёнка. Ребёнок уснул. Тихо-тихо стало. Было часов 14-15. Тихо уснула и наша родная мамочка. Навсегда. Чтобы уже никогда не проснуться…
Пришла крёстная Васёна: «Клава, Клава». И вдруг как закричит: «Умерла!» Я и сейчас без слёз не могу этого вспоминать. Тогда я тоже заплакала, а крёстная мне говорит: «Беги к тёте Лене, скажи, чтобы шла сюда». Я бросилась бежать и громко плакала всю дорогу. Какая-то женщина спросила: «Девочка, ты что плачешь?» – «Мама умерла».
Когда вернулась домой, мамочку уже обмыли женщины. В нашем подвале сделалась тишина, говорили шёпотом. Крёстная вынесла мне во двор ту французскую булочку и румяное яблоко Иллариона. Я села во дворе на что-то и тут же съела.
К нашему подвалу потянулся народ. Ночь перед похоронами отец один сидел у гроба. Все ушли. Крёстная взяла меня за руку и повела к себе домой. Было поздно. У Анисимовых все спали. Крёстная достала из печки чугунок с манной кашей и мы, стоя, ели ложками холодную кашу.
В день похорон во дворе стало больше и больше народу. Около входа в подвал мы с девчонками играли во что-то: толи в классики, то ли прыгали со скакалкой. Все обращали на меня внимание, жалели, а детвора спрашивала, дадут ли детям покушать на поминках. Я легкомысленно обещала, а потом оказалось, что никто про детей и не вспомнил. А пока что я сигала-играла, выходит Зина во двор (ей 17 лет): «Что прыгаешь, корова? У тебя мать умерла», -как ножом резанула.
Ближе к полудню позвали к гробу: «Прощайся с матерью» и велели поцеловать в венчик на лбу. А дальше гроб поставили на грузовую машину и меня посадили рядом с гробом. Заиграл духовой оркестр и сопровождал до могилы (Заказ сделал дядя Федя, а расплачивался отец, который сокрушался и от беды, и от нищеты.) На улицах люди останавливались и сочувствовали, качали головами. Около столовой машина остановилась. Вышли мамины сотрудницы и громко все плакали. Я сидела, как застывшая. Приехали на кладбище, поставили гроб на землю. И тут дядька с молотком сказал: «Прощайся, больше ты своей матери не увидишь». Я поцеловала свою мамочку в губы. И дядька вогнал в крышку огромные гвозди под мой громкий плач и плач родных Бедный Петька! Он как раз лежал в больнице с тифом. Когда гроб вынесли из дома, приехала санэпидемстанция и матрацы, одеяла и прочее загрузили в спецмашину и увезли на дезинфекцию Здесь и похороны и сироты остались, особенно Галя. А тут нависла угроза страшной болезни. Помню, ругали тех, кто безоговорочно распорядился вывезти вещи из дома. А ведь как правильно сделали. Безплатно. Прожарили наше барахло в камере и вернули. Зато никто больше не заболел. Вечером Петька убежал из больницы и попросил отца показать ему могилу. А на другой день Михаил Трофимович спрашивал у Петьки: не он ли раскапывал могилу? – Да. Бедный Петька! Его сердце разрывалось от горя. Он хотел разрыть могилу, попрощаться, но сил не хватило. Сколько же слёз он пролил!
Несчастные сироты. Все. И Петя Старостин, рос без матери. И Пётр Ратанов – сирота при живом отце. И я без матери, А про Галю и говорить нечего. Ей и вспоминать нечего. Не знала она материнской любви. Крёстная моя как-то всё меня только опекала. А Галя была в деревне до осени 1949-го. Из деревни её привезли сразу к Анне Тимофеевне.
БЕЗ МАТЕРИ
После похорон меня увезли к Пете Большому в Султангулово, где они с Аней жили в бараке. У них была комната с подселением: с ними жила женщина-геолог. Вся волосатая, без грудей, ездила на мотоцикле. По-моему, она была влюблена в Петю. Аню по приказу отца я называла «сестричкой». Через силу. Не любила я её, а она нас с Галей. Жила я у них с мая по август. И вдруг Петя с Аней ссорятся! Да так, что Аня хватает свой чемодан и уезжает. А надо сказать, что Аня была очень чистоплотная хозяйка к тому же экономная, вкусно готовила. У них в Султангулово, а потом и в Рязановке, на улицах стояли под открытым небом большие газовые плиты, сложенные из кирпича. Форсунки были введены в печи, было много конфорок в чугунной плите. У плит готовили женщины. Я с Аней ходила помочь что-нибудь тащить: то кастрюлю, то макароны и прочее. Аня работала фельдшером. Уходила часов в 8 утра. Рабочий день был до 16 часов. Случалось всякое : и роды, и травмы, и поездки – тогда ещё позднее возвращалась. И весь день я была голодная. Запомнился один завтрак. Аня испекла блинчики – объедение. Густо намазала их маслом топлёным, так , что больше двух я съесть не могла. Прошло часа два – страшно захотелось есть, а нечего. Аня ничего не оставляла. Ходишь- ходишь ,бывало, заглядываешь в стол – там лежат сухие макароны. Возьмёшь одну, сжуёшь, а есть хочется. И не одна я такая была. Все дети были голодные. Были там тоже у меня подруги. Мы вместе ходили купаться на реку Кинель. Там мыли ноги «гусиным» мылом – это такая травка, её потрёшь между ладонями, пена образуется. Вот ею и тёрли наши цыпки на ногах. Вместе с девчонками мечтали о еде: «А у нас в погребе целая корчага сметаны (это глиняная посуда в форме горшка вместимостью в ведро)»– говорила одна. Кто же ей поверил? Детские фантазии.
Питание себе пробовали добывать. В Султангулово был не только газопромысел, но и колхоз. В колхозных сараях с огромными воротами – колба (прессованные зёрна в виде круга на корм скоту). Мы по-пластунски – под ворота, круг под мышку – и бежать. Колба была подсолнечная и кукурузная. Подсолнечная колба – чёрного цвета, в ней много ядер, но шелухи много. Наешься её, потом в туалет по-большому никак не можешь сходить. Колба кукурузная белая и никакой шелухи. Вот мы рады были хоть чем-нибудь набить желудок.
И вот Петя с Аней ссорятся! Да так, что летят пух и перья! Я не знаю из-за чего, но, наверное, причины были серьёзные. Теперь-то думаю: что за дурь с подселением? Живут муж и жена, у них своя семья и так далее. И вдруг на кровати за занавеской ещё женщина. Пусть и со сросшимися бровями и грубым голосом. Помню, эта женщина на волосатой руке носила часы и гоняла на мотоцикле как заправский мужик, да ещё и Петиной начальницей была. Разумеется, Пете она благоволила, и он о ней впоследствии отзывался уважительно и сочувственно. Как только Аня съехала, эта женщина начала меня приголубливать… Петя, при отсутствии Ани, взял большую кастрюлю, чего-то там съестного наварил. Много. Я наелась досыта. Петя пребывал в добром настроении. Житуха моя продолжалась несколько дней. Я бегала сытая, довольная! И вот купалась я себе в Кинеле беззаботно. Вдруг кто-то из девчонок крикнул: «Валя, сестричка приехала, тебе гостинцы привезла». (Это у ребёнка было понятие: детям гостинцы надо привозить). Ну я и полетела, чуть под машину не попала. Бегу: сейчас мне сестрёнка гостинчик даст. Прибегаю , о, ужас, ругань идёт! Я и говорю с порога: «Сестричка, а гостинец?» – «Какой ещё гостинец!» О, ужас! До чего я дожила! Солнышко уходит с небосвода. Потом я поняла, что, приехав домой в Ручеёк, Аня получила взбучку от отца Сафрона и матери Васёны (сразу видно – староверы, люди старинные). «Вышла замуж, вот и живи, нечего шастать. Муж ей плох. Какой уж есть – с таким и живи. Ступай обратно, ты теперь мужняя жена, здесь тебе не место» – и с этими словами проводили её. Разборки кончились тем, что они помирились. Петя обнял Аню, что-то на ухо ей шепчет, она улыбается, и идут они парочкой к речке. «Волосатая» женщина куда-то исчезла…
В то лето я научилась плавать. Вот под тем берегом, по которому шли Аня и Петя. Кинель огибал селение, и у нас было три места для купания. Запомнились водяные лилии и кувшинки. Умопомрачительные цветы, но стоит сорвать –они тут же умирают.
С Аней моя жизнь пошла по старым рельсам. Всё время хотела есть. Шёл 1949 год. Прошло три месяца со смерти мамочки.
МАЧЕХА
Петя и Аня повезли меня к отцу в Бугуруслан. Идём мы по улице Ленинградской мимо нашего подвала. И тут Петя шутит: «Ты что же мимо дома проходишь?» Как кинусь я к воротам! Он смеётся: «Пошли дальше, теперь ты не здесь будешь жить». Дальше идём до угла, переходим улицу и вот второй дом, Стахановская , 76. Теперь здесь жил наш отец с нашей мачехой, Анной Тимофеевной Климовой. Сюда отец пришёл сам и привёл нас, детей.
Анна Тимофеевна жила здесь ещё до войны с мужем-инвалидом. Он умер, ей и досталась квартирка окнами в огород. Пришла с фронта, где воевала в качестве медсестры, стала работать в торговле. Нашему отцу её порекомендовали сослуживцы матери по столовой. Где на кухне загибалась с кастрюлями моя мать, сверкала красотой и белоснежным фартучком буфетчица. Вот ,она-то и стала нам с Галей мачехой. Своих детей у неё не было, и все силы своей души она отдала нам. Была она женщиной чистоплотной, трудолюбивой и доброй. О нас с сестрой очень заботилась: обстирывала, обшивала, работала не покладая рук. Её уже давно нет среди живых, но, говорят, все мертвые живы, пока мы их помним. Анне Тимофеевне мы должны были кланяться до земли. А мы отплатили ей чёрной неблагодарностью. Сейчас, понимая это, в церкви первой её имя пишу на помин души, а потом мать Клавдию, а потом крёстную Василису, потом уже всех остальных.
Анна Тимофеевна была родом из Кисловодска. Он недалеко от Пятигорска, места гибели М.Ю.Лермонтова. Гору Бештау называла по-местному: Бешту. Она нам с Галей пересказывала главы из Евангелия , про Адама и Еву, как Бог создал мир. Я ей задавала много вопросов. Она отвечала, как умела. Анна Тимофеевна о Великой Отечественной войне рассказывала мало. Да и я тогда не понимала, что всё надо было расспросить и о Кавказе, и о семье, и о войне. Запомнилось только, что у них был командир, который берёг девчат. Был какой-то страшный бой. Он приказал им быть в госпитале. Ещё рассказывала, что когда объявили конец войны – все плакали и целовались, обнимали друг друга, совсем незнакомые люди – состояние, как на Пасху, одно слово – Победа!
Выросла Анна Тимофеевна в большой семье. Мы знали её сестру Надю, тоже медсестра. Приехала с Кавказа и жила с мужем Володей и двумя дочками с нами же в маленькой комнатушке. Потом они уйдут жить на квартиру в подвал, на другой конец города. Пройдёт несколько лет и дядя Володя увезёт свою семью на родину, на Кавказ: Это что же такое? Дети даже яблок не видят! Также приезжал с Кавказа в 1949 году брат нашей мачехи, дядя Жора, военный фельдшер. Специально к нам приезжал. Ещё мы знали сестру Анны Тимофеевны – тётю Марусю. Была она домохозяйка. Жили они вместе с мужем, дядей Ваней, в Жигулёвске, где он работал начальником милиции. (Из Афганистана они привезли нам кучу подарков: необыкновенные кофточки, платочки…). Анна Тимофеевна рассказывала, что жили они в семье родителей бедно, что почитали богатых: идёт богатый человек – перед ним шапку снимали, что отец у них был добрый. Мама у них, будучи уже в преклонном возрасте, потеряла глаз, когда в лесу собирала хворост. Были ещё родственники в Кисловодске, но я их не знаю. Как попала наша Анна Тимофеевна в Бугуруслан, да ещё и приманила к себе сестру тётю Надю, не знаю. Неужели наш бедный сравнительно край, показался им лучше родины, где можно зарабатывать на отдыхающих.
Анна Тимофеевна чуть ли не каждый день стирала в корыте, установленном на двух табуретках. Стирает, бывало, и загадывает загадку: «Что на свете чище всего? Правильно, вода, она смывает любую грязь». Очень экономная была, умела довольствоваться малым, неприхотливой была, непритязательной, всю жизнь прожила в нищете и доедала за всеми то, что другие не доедят. Мы перед нею виноваты и в страшном долгу.
КРЁСТНАЯ.
Тётя Васёна (1905-1984) была родной сестрой моей матери Клавдии. Фамилия у них была Писаревы. Их родители Иван и Аграфена жили у красного моста через Турханку. Возможно, что кто-то из предков был писарем, когда они жили в деревне Борисовке (ныне ставшей частью города). Выдали Васёну за Ивана Анисимова, наверное, по расчёту, потому что у Анисимовых была своя мельница, в Михайловке, где-то на ручье. И земля там у них была.
Крёстная была маленькая, носила всегда длинные юбки. Всю жизнь ходила скромно одетая, в платке, в жизни никогда губы не покрасила.
Дядю Ваню, мужа моей крёстной, помню стариком с окладистой белой бородой. Любил выпить. Выжидательно смотрел на гостей: не принесли ли бутылочку. Работал в годы Великой Отечественной войны в милиции. Ругал часто свою жену и даже поколачивал. Но мне это не запомнилось. Сидел, бывало, во дворе, поглаживая бороду, смотрел беззлобно и даже приветливо.
Крёстная была моим ангелом-хранителем, всегда в трудную минуту я у неё искала защиты. Хорошо помню, как меня крестили. Дело было в соседнем доме на улице Боевой, где жили Анисимовы. Староверский священник крестил на дому, так как староверская церковь была закрыта советской властью. Детей было много. Подошла моя очередь. Крёстная Васёна меня за руку подвела к батюшке, а он взял меня на руки , да и окунул в большую бочку! Я орала от испуга, что есть мочи! Потом, когда вытащили из бочки, надели длинную рубаху и дали мёду. Тут я успокоилась. Так я стала староверкой. (А летом 2009-го, после приложения в Самаре к чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, Бог дал мне креститься в Православии и обвенчаться с мужем).
Пока жива была мама, Клавдия Ивановна, крёстная была мне второй матерью. Матушка на работе, да на работе, ей некогда, а крёстная всегда дома. Её я запомнила, даже больше чем мать. Помню, как-то на Пасху, мне посоветовали сходить к крёстной за яичком. Я пришла, встала у порога, а крёстная говорит: «Что молчишь? Говори «Христос воскрес». Я опять молчу. Крёстная всё равно дала яичко. Много позже вспоминается другая Пасха. Наверное, в 9 классе (1958 г.) мы с Тамаркой Ильиной ходили перед Пасхой, в Страстную субботу, на школьный атеистический вечер. Конечно, проводилась атеистическая пропаганда, в результате которой очень захотелось своими глазами увидеть «религиозный дурман». И мы с Тамаркой прямо от химических опытов, опровергающих мироточение икон, проследовали к фимиаму пасхальной службы в единственной Бугурусланской церкви на кладбище. Народу было столько, что мы стояли почти на улице и ноги мёрзли, но нам было интересно. Слушали. Видели вынос плащаницы, а затем освящение куличей, которые стояли прямо на земле вокруг церкви. Ночевали у Тамарки. Долго не могли согреться, но спали недолго. Бабушка разбудила разговляться. Ели яички, куличи и творожную пасху.
Ещё запомнилось, что крёстная моя была всегда худенькая, маленькая. Когда муж начинал скандал, она беззлобно переговаривалась с ним, но не кричала. Несла по жизни свой крест терпеливо. Была очень набожной. Ходила регулярно в староверскую церковь и была любима общиной. Однажды к нам в город откуда-то, из Новосибирска что ли, привезли слепую женщину, брошенную родными. Она тоже была староверкой. Батюшка обратился к пастве с вопросом: кто возьмёт к себе больную? И крёстная взяла её к себе. Поселила за голландку. Женщина та вставала на ведро, и иногда её выводили на солнышко во двор.
Жизнь крёстной была неразрывно связана с коровой. Корова была большая, шоколадного цвета, спокойная, дышала ровно, от неё пахло травой и молоком. Нагуляется в лугах, придёт вечером, а крёстная ей уже гостинец приготовила: хлеба печёного из магазина, свежей травы. Корова довольна, стоит спокойно, пока крёстная её доит. Даст почти полное ведро молока с пеной. Летом корову ходили доить и в обед к реке. Идём, а солнце высоко, жарко. Идём напрямик по пшеничному полю. «Вот он хлебушек как растёт»– говорит крёстная. А я смотрела, смотрела: «А где же буханки?»– спрашиваю. Крёстная, конечно в смех… Гора крутая. Подниматься тяжело, а спускаться ещё труднее – скользко, круто. Крёстная несёт чуть не полное ведро молока. У крёстной болели ноги и, когда я подросла, помогала ей носить молоко. Мне те походы были в радость. Я всё любила: слободку, гору, речку, у которой стояли коровы, цветы, запахи пахучих трав, речной сырости. Наверное, умирать буду – родные места будут перед глазами. Так хочется вечное упокоение там найти! Хоть после смерти вернуться домой…
И вот пришло время везти корову на бойню. Последний раз доили корову у крыльца. Я вышла и увидела, что из глаз Зорьки текут слёзы. Хозяйка сама плакала, и корова всё чувствовала. Это поразительно!
Крёстная моя никогда нигде не работала, пенсию себе не заработала, но деньги у неё водились, потому что всё время продавала молоко и овощи. Бывало, не успеет ещё молоко процедить, а уж покупатели на дворе – тут же всё разберут. А на вырученные деньги Василиса Ивановна покупала другие продукты. Придёт с базара, садимся обедать. А крёстная: «Ой, я же масло забыла купить!» И ни слова не говоря, «на одной ноге – опять на базар. Двадцати минут не пройдёт – она уж с маслом обратно прибежала. ( С её больными ногами-то!) Только юбкой метнёт – и уж убежала, И уж прибежала. Масло продавали фунтами, то есть по четыреста граммов. На капустном листе. Посланец бугурусланских трав из окрестных деревень, лежит такой кусочек жёлтый, свеженький, и росинки выступают на нём. Цвет, запах – всё живо в памяти. Дань родной земли, её подарок.
Крёстная не делала особых запасов, жила сегодняшним днём. По пословице: «Господь дал день – даст и пищу».
Крёстная обогрела меня, приголубила, жалела всегда. Когда уже подрастали мы с сестрой Галей, она часто говорила: «Клава не видит». Ещё у крёстной было характерное слово «пра» (сокращённое от «право»). Например, «что же ты не приходишь к нам, пра?» или «эк тебя перекосило, пра!»
Пройдёт много лет, я уже буду жить за мужем в Давыдовке. (прим. Давыдовка Приволжского района. Валентина Михайловна работала там директором школы. Затем , с 1984 работала в Приволжье учителем русского языка и литературы). И вдруг крёстная смертельно заболела. Было ей тогда лет 70. Она не вставала с постели. За ней ухаживали сын Димитрий с женой Людмилой. Тут я явилась на помощь: мыла, стирала, кормила крёстную, а главное: в ответ пришла от меня к ней любовь, которой она меня одаривала с детства. И крёстная встала на ноги. Но это уже была не жизнь. Деда Ивана уже не было на свете. Димитрий приезжал на машине. Делал, что мог по дому. Петька делал «набеги», он всегда просил у матери денег на опохмелку, и она не отказывала.
Потом Димитрий совсем взял мать к себе в квартиру (квартира Людмилы Васильевны), и крёстная жила у них. В 1985 году мы с Ольгой Александровной заезжали в Бугуруслан на обратном пути из Башкирии и ночевали у Димитрия. Крёстная спросила у меня: «У тебя есть крестик?» – «Нет. Возьми мой». И тут же с готовностью начала снимать с себя крест. Димитрий её остановил. Видела в живых я тогда её в последний раз. Всем она готова была поделиться, всё отдать. Все силы – физические и моральные – отдала семье. Димитрий, прежде чем взять её, продал родительский дом и деньги положил себе на книжку. Сёстры смертельно обиделись. Петька – пьяница не в счёт. Зинаида на какое-то время брала мать к себе, но потом чуть ли не выгнала её. Катя вообще по жизни любила больше отца, а не мать. Случилось так, что когда крёстная жила у Димитрия , (крёстная уже была неадекватна) выйдет из их пятиэтажки и идёт к своему дому на Боевую,39. А там чужие люди. Обратно она уже дорогу найти не могла. Людмила попала в больницу, а Димитрий экстренно попал на операцию. Димитрий велел Кате взять мать. Она взяла, положила на кровать. Поставит ей кружку молока, положит кусок хлеба и уйдёт коров пасти (держала двух коров, этим жила их семья). А крёстную Димитрий кормил с ложечки. Крёстная у Екатерины и не притрагивалась к еде и умерла, можно сказать , с голоду. В гробу лежала маленькая худенькая, вся иссохшая, как мумия. Староверы хоронили её, поминали в доме Кати, читали всю ночь молитвы. Я удивилась их поведению: были они на похоронах весёлые, как-то весело и с подъёмом пели молитвы, поминали тоже как-то с удовольствием и не скрывали этого. Потом мне объяснили, что по-староверски не надо плакать и стенать, если умер человек, а радоваться, что он избавился от мирских невзгод, болезней, горя и прочего. Похоронили крёстную Василису на новом кладбище, рядом с мужем под берёзой.
ДМИТРИЙ Иванович (1923-2005). Димитрий (так его называла мать), был любимым ребёнком у крёстной Васёны. Был он умным, расчётливым. Крёстная рассказывала о необычном поведении сына (с восхищением и удивлением): жили скудно, нищета, а хочется одеться, среди людей выглядеть солидно. Вообще в семье Анисимовых был лейтмотив: «выйти в люди», значит состояться, быть общественно полезным, уважаемым, материально обеспеченным, а для этого приобрести профессию. Такие критерии не новость, но именно у них я часто слышала: «Он (она) вышел в люди». Говорилось с уважением. И вот Дмитрий Иванович, наверное, во что бы то ни стало, решил выбиться из унизительности нищеты. Для школы ему родители справили шивиотовый костюм. Лет 10 ему было. Носил Дмитрий Иванович костюм аккуратно. Между тем прикапливал копеечки (каким образом не знаю, но думаю не как Чичиков, дрессируя мышек или спекулируя булочками на аппетите одноклассников). Начал из костюма вырастать, почистил его, пригладил и выгодно продал. К вырученным деньгам присовокупил накопленные деньги и купил себе новый костюм. После окончания школы поступил в военное пехотное училище, как раз началась Великая Отечественная война. Курсантов выпустили ускоренно и отправили на фронт. В звании офицера Дмитрий Иванович прошёл всю войну до победного конца. Рассказывал, что воевал в конце войны в Карпатах, там, где в своё время проходил Суворов. Отморозил ноги. Попал в госпиталь, как ему едва не ампутировали их. Спасла медсестра. Когда вернулся домой, долго его лечили крёстная и Катя. Затем снова служба в рядах Советской Армии до 1957 года, когда началось массовое разоружение. После демобилизации пошёл учиться в Куйбышевский пединститут на исторический факультет. Закончил его и работал в ДОСААФе и в средней школе, где и встретил свою последнюю жену, Людмилу Васильевну. Жили они в её четырёхкомнатной квартире на улице Челюскинцев, в Черёмушках, на горе. Их дом был для меня гостеприимным.
Людмила Васильевна всегда стелила мне в зале на диване чистое постельное бельё, и я спала очень сладко у них. Людмила Васильевна была по духу мне ближе, чем двоюродные сёстры. Всё она понимала, была чуткая, внимательная, добрая. В квартире всегда порядок, чистота, уют. В столовой комнате – телефон, посудный шкаф, скатерти, салфетки, на подоконнике в горшочках цветы и зрели маленькие горькие перчики. В этой комнате несколько лет жила умирающая родная сестра Людмилы Васильевны. Когда мы с внучкой Аней в 1991 году заехали в Бугуруслан, пришлось ночевать у Кати, Людмиле Васильевне было не до нас. В последний раз видела их на юбилее Дмитрия Ивановича, почти за год до его смерти, в ноябре 2004 года. Ночевала у них. Ужинали. У Дмитрия Васильевича всегда в запасе был коньяк (хоть когда приедешь, коньяк и копчёная колбаса не выводились). Кормили они всегда наперегонки . Подкладывали еду на тарелки с двух сторон. Мёд у него был в своей баночке, а у неё – в своей. Из обеих заставляли есть.
Я всё время побуждала Дмитрия Ивановича писать воспоминания о войне, заставила. Для этого, я купила ему тетрадь, папку, ручку. (Он написал, потом рукопись отдали Ольге Степановне).
В тот последний вечер сидели за столом в зале, разговаривали. Он был очень груб с женой. Я старалась перевести разговор, разрядить обстановку. Мне было неловко. Людмила Васильевна с ним бранилась, но голос не повышала, вроде как привыкла к такому обращению, смирилась и воспринимала как данность. Мне же жаловалась на его эгоизм, грубость, жадность.

