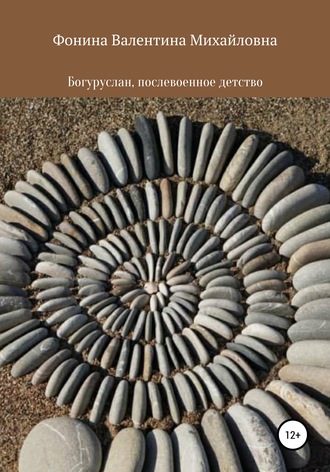 полная версия
полная версияБогуруслан, послевоенное детство
Так вот о Петьке. Было ещё одно грандиозное событие в 1947 году: не только отмена карточек, но и смена денег. Старые деньги мне были знакомы. Петька показывал мне рубль, мы его тщательно рассматривали: в углу купюры был изображён солдат в каске. И вот Петька собрался на рыбалку и я за ним. А ему надо было отвязаться от меня, он и говорит: «Вот тебе рубль, беги за мороженым». Я знала, что деньги эти уже безполезные и говорю Петьке об этом, а он: «Сегодня ещё можно, а завтра будет нельзя». Бежать надо было «в город», то есть два квартала вверх. У меня только пятки засверкали. Выбегаю на улицу Революционную к зданию прокуратуры, где обычно стоял лоток: стол, весы, стаканчики вафельные и на тротуаре бочка со льдом, а в середине ёмкость с мороженым. Подлетаю к молоденькой продавщице, а рядом с ней стоит молодой человек и они «заигрывают». (Это я уже понимала). Продавщица и говорит: «На эти деньги вчера можно было купить». Как? Обман! Ложь преднамеренная! Я кидаюсь со всех ног, чтобы раскрыть коварство и догнать беглеца. И, конечно же, не застаю. Орала я на весь квартал. Клавдия Ивановна при всём том присутствовала. Петька Маленький был пронырой, страшным хулиганом, чуть ли не бандитом. В моде были наколки. Петька и его друзья были очень увлечены этим занятием. Накалывали себе рисунки на груди, на спине, на руках. Им никто не мешал. Взрослых дома никого не было. Я пристала к Петьке: выколи, да выколи мне что-нибудь. «Ну что тебе выколоть, Валя?, -Ну, ладно, давай, а ты матери не скажешь?» – «Нет». Вот он на правой руке и выколол мне букву «В». Кожа вспухла, было больно. И так как я Петьке обещала его не выдавать, то когда с работы пришла Клавдия Ивановна, то я от чистого сердца решила реабилитировать Петьку. Я руку за спину заправила и убедительно говорю: « А мне Петька ничего не выколол». – «Как?! А ну покажи!» Петьке была трёпка. Прошли годы. Мы жили с Анной Тимофеевной. Стала я стыдиться своей отметки на руке. Прятала руку, носила длинные рукава. Однажды на занятии в детской спортивной школе, куда мы с девчонками ходили заниматься лёгкой атлетикой, мы тренировались в саду Нефтяников: «На старт, внимание, марш!» и преподаватель учил, как надо ставить руки на полосу. А я правую руку разворачиваю, чтобы он не увидел. Он, наверное, увидел, но ничего не сказал. Меня как будто кипятком облили: с наколками, известно, ходили те, кто в тюрьме побывал. Со своим горем я пошла к крёстной: сведи хоть чем-нибудь. И моя дорогая крёстная нашла серной кислоты, которую используют при валке валенок, и капнула на руку. Боль от этого и от последующей болячки – нет ничто по сравнению с позором клейма.
Однажды Петька мне принёс игрушку – заводной мотоцикл. Где-то нашёл на улице и припрятал, чтобы хозяева не обнаружили, а потом притащил мне. Радости было!
Дядя Федя где-то добыл парашютного шёлку и принёс мне на платье, и был какой-то праздник, и Петька взял меня « в город». Я вся из себя несказанно нарядная и иду. Дошли мы до лотка с ситром. Это был стол, на нём бутылки. Запомнила на всю жизнь расписную бутылку, из которой наливали ситро. На стекле были узоры, а ситро пенилось. Петька купил стакан, я его выпила, а дальше оно говорит: « Иди домой». Лоток стоял на улице Ленинградской, напротив Ленинского садика, около городской больницы. Ну я пошла домой вниз по Ленинградской. Иду и чувствую, что страсть как хочу в туалет по-большому. А куда? Кругом люди. Я загляну в простенок между домами- неудобно, люди по тротуару ходят, дальше простенок, -то же самое. Терплю изо всех сил. Прошла квартал, перешла через дорогу наискосок, по диагонали, от дома лётчика с женой на нашу сторону, осталось полквартала, а терпения уже нет и около бывшего детсадика, за несколько домов до нашего подвала, чувствую, что льётся из меня, я от страха и ужаса присела, но трусики не сняла. Мимо шла женщина, видимо почувствовала запах, оглянулась, видит: присела девочка в белом нарядном платье и воняет. У меня произошло облегчение, но полные штаны добра. И в голову не пришло снять с себя и вытряхнуть. Так и шла до дома, еле передвигая ноги. Клавдия Ивановна пришла в ужас: «Такая большая кобыла и прочее», но не била, а подмыла, переодела, а потом дала засратые трусы и говорит: «Иди и стирай в Турханке сама». И я пошла. На бережку опустилась на коленки. А солнышко светит, тихо. Я стала полоскать предмет своего белья, а мальки-рыбки подхватывали моё добро, чуть ли не в драку тут же поедали. Так и запомнилось на всю жизнь: зеленоватая холодная вода, тепло, хорошо, и я полощу правой рукой, а рыбки радуются.
Хотела привести пример, какой Петька Маленький был ухарь. В те годы кино было верхом блаженства, целью жизни, мечтой. Но билеты стоили дорого, не по карману. Это если брать места хорошие, а вот первый и второй ряд были дешёвыми. И достать билет в кино на первый и второй ряд было великим счастьем. Это многотрудное дело поручалось только Петьке. У него кулаки, локти, зубы, мускулы… И Петька доставал. Тогда взрослые шли в кино. Однажды, я проходила с кем-то из взрослых мимо кинотеатра ( ул. Революционная, кинотеатр «Октябрь», сейчас «Звёздочка» для детей) и смотрю: водосточная труба до пола протянута, до асфальта, а здание двухэтажное, высоченное, я и подумала: «Бедный Петька, как же ему трудно доставать билеты! Они же на крыше разложены, и Петьке вот по этой трубе лазить надо. Как тяжело! Петька – просто герой». А шла я за руки с Петей Большим и его невестой. Та невеста со мной умильно разговаривала, а я чувствовала подвох: не ко мне относится умиление, а к брату.
Петька Маленький был отчаянный. С бугурусланского моста сигал вниз головой в Кинель, когда купались, и не боялся. Он был как Серёжка Тюленин из романа «Молодая гвардия», только я этого тогда не понимала. Первый раз в кино он меня водил. В кинотеатр «Молот» на Коммунистической улице, где сейчас дворец культуры. Дело было летом. Запускали зрителей не через фойе, где на вечерних сеансах играл оркестр, работал буфет, и можно было купить мороженое, а через широкие выходные двери с помостом. Толпа детей. Ринулись занимать места, мы с Петькой в гуще, он крепко держит меня за руку, и тут я чувствую, что с ноги свалилась тапочка. Я в рёв. Петька нашёл мою стоптанную обувку, надел. Мы всё-таки успели занять места на первом ряду, я успокоилась, и тут вдруг погас свет. Ужас! На огромном белом полотне появилась тётка, разинула рот и куда-то в стенку справа ушла. Всё. Вот первое кино. Потом водили мы с Валькой Горбуновой, моей подружкой, своих младших сестёр. Моя младшая сестричка Галя орала страшно, когда появился на экране Кощей Бессмертный, просила меня уйти с сеанса. Мне же хотелось досмотреть сказку и я прятала голову Гали у себя на коленях.
«ПЕРЬМЕНА»
Рядом с нашим подвалом стояла школа №7. Начальная. Я видела, как дети выскакивали со звонком в школьный двор и даже на улицу, а моя дорогая крёстная говорила: «Перьмена». А так как крёстная слово «пельмени» произносит «перьмени», то я думала, что детей во время перерыва между уроками кормят «перьменями». Я смотрела из окна и думала: «Вон как они резво бегают».
Петька как-то дальше исчезает из моей жизни. Наверное, где-то в 1948 году. Видимо, он закончил в 16 лет ремеслуху и уехал на работу.
ОТЕЦ
Дальше в моём детском сознании появляется Михаил Трофимович, мой отец. Явился он как-то под вечер, темнело. Клавдия Ивановна очень обрадовалась, нагрела воды и мыла его в корыте. Они весело разговаривали, смеялись, были заняты друг другом, а для меня началась тяжёлая жизнь, потому что отца я боялась и ненавидела его интуитивно (сначала). Помню тягостный длинный вечер. Мать на работе. Лампочка под потолком тусклая. Суворов смотрит с портрета весело и даже задорно. Отец сидит за столом и ест кашу с большой сковородки. Зубы у него белые, ровные, крепкие. Он возьмёт ложкой кашу, в рот положит, а когда вытаскивает изо рта, каша тянется. Он уписывает эту кашу за обе щеки, а мне противно, и ещё мне мешают жить острицы. Сколько себя помню в детстве, всё время они шевырялись в прямой кишке. Там зудело, чесалось, было неприятно и это портило настроение, особенно вечером. Потом лечила меня Анна Тимофеевна тыквенными семечками, водила к врачу и где-то в отрочестве у меня их уже не было.
РОЖДЕНИЕ СЕСТРЫ
В 1947 году родилась моя сестра Галька. Дождливым осенним утром. Я спала на родительской кровати, грызла ногти на ноге. Крёстная говорит: «Как девочку назовём?» Я отвечаю: «Галя» ( по имени соседской вредной девчонки). Петька её уже не нянчил. Нянчила Зинаида, младшая дочь крёстной. Ей было 15 лет. Вредная, страсть! Она нянчилась, а меня доводила до слёз: «Зин, расскажи сказку». – «Рассказать тебе сказку про белого бычка?»-«Да, да, расскажи!»– На дворе кол, на колу мочало .Начинать сначала?» -«Зин, расскажи.»-«Ладно».– «На дворе кол, на колу мочало. Начинать сначала?» И так до тех пор, пока я не начинала плакать, но сказок не рассказывала.
Однажды мне доверили Галю, покачать зыбку. Как я не вывалила её из зыбки, ума не приложу. Видно, Господь спас. Я начала швырять зыбку так высоко, аж до потолка. Помню, как Клавдия Ивановна искупает Галю, держит её на руках и чешет частым гребнем ей головку, перхоть счёсывает. И помню, как она себе расчесывала волосы: наклонит голову, все волосы опустит, чешет, а потом проведёт пробор от макушки к носу, выпрямит шею и расчесывает еже на две стороны, потом заплетает две косы. А ещё помню, как замешивала тесто: на специальной доске насыпала гору муки, делала углубление, бросала в него соль, лила воду и ножом мешала, потом месила руками. (Я также делаю и сейчас).
Запомнился один летний день. Клавдия Ивановна в доме всё вымыла, вычистила, обед приготовила и во дворе в холодке, села починять одежду. Хоть и глупая я была еще, а запечатлелось, что чистота, порядок . Везде успели женские руки, всё усмотрел хозяйский глаз. Была Клавдия Ивановна в тот раз дома днём, а не ночью, это редко случалось.
Пишу, и как будто вызываю в памяти лики ушедших людей. Лицо матери так редко всплывает. Не красавица. А было в ней обаяние. Зубы были неровные. Нос не классический. Брови подбривала сверху и по бокам, поэтому кожа была на том месте слегка розовая. Подбородок больше всего запомнился, потому что смотрела на свою мать всегда снизу. Кожа на подбородке была пористая. Глаза были большие, выразительные, серые в обрамлении длинных черных ресниц. И волосы были черные, не русые. Была она в работе хваткая, ловкая, все её хвалили за умение быстро и ловко делать дело. На работе её в столовой (сейчас кафе «Берёзка») любили. Около неё всегда было весело, она умела шутить, сказать острое словцо. В последние годы работала поваром-бригадиром. Зина говорила, что раньше она работала поваром в ресторане. Я ходила к матери на работу. Там, по-видимому, она меня кормила. Запомнился запах её кухонной одежды. И опять снизу, я обхватывала ручонками её ноги. Не помню, чтобы я чувствовала от неё запах грязи или пота, а вот кухня – да: пирожками, тестом, маслом. Однажды пришла я в столовую после обеда. Женщины все прибрали уже, все готовили к завтрашнему дню: чистили картошку, шутили, а одна пропускала мясо через мясорубку и как заорет: палец вместе с мясом пустила под нож. Шуму было ,криков!
ПРАЗДНИКИ. АРТЕЛЬ «КРАСНЫЕ БОЙЦЫ» … Ещё запомнился праздник 1 Мая в столовой у Клавдии Ивановны. Был накрыт для сотрудников богатый стол, зал был прибран, принаряжен, люди все весёлые, и на улице из репродукторов гремело: « Кипучая, могучая, никем непобедимая,
Страна моя, Москва моя – ты самая любимая!» Помню это ликование. Год был 1947-48, примерно. В то время 9 Мая не отмечали. Самыми главными праздниками были 1 Мая и 7-8 Ноября. В какой-то такой праздник отец и мать взяли меня на демонстрацию. Улицы были перегорожены автомашинами, переполнены народом, кругом гремела музыка, играл любимый духовой оркестр. Все люди смеялись, улыбались, шутили. Отец посадил меня на плечи, чтобы мне виднее было. По-видимому, праздновалась Победа, хотя был и не 1945 год. Люди после войны жили на подъёме ещё не один год. Счастливые были, светились улыбками. Голодновато было, бедновато, но впереди ждали только радости: такого врага одолели, а нужду, голод победим, лишь бы руки работали, и глаза не уставали. И работали и веселились всласть.
Артель «Красные бойцы» была создана для инвалидов. Надо же было как-то зарабатывать на жизнь! Вот безногие, безрукие, контуженные и находили применение своим силам: делали скобяные изделия: вёдра, замки, заборы из нарезки…
Артель занимала целый квартал от улицы Транспортной до Ворошиловской. На Ворошиловской у них было помещение такое для собраний, называемое «Красный уголок». Помню, как мы, уличная ребятня, заглянули туда. Был праздник. Гремела музыка, и женщины лихо отплясывали чечётку, пристукивали каблуками на всю улицу. Не хочу думать, что любую гулянку сопровождают нелицеприятные картины. Моя память унесла только радость и счастье.
СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Вспоминается фотография военных лет. Видела её у родственников и никогда не забуду. Будучи ребёнком 6-7 лет, я поняла всё значение этой фотографии. На ней изображена была девушка в модном по тогдашнему времени платье: шёлковое, цветастое, с широченным подолом, рукава фонариками; причёска тоже модная: что-то из длинных волос, какие-то рулады надо лбом. Сидела она на фоне какого-то ковра или картины, как это обычно делалось в забегаловках-фотографиях. Самое главное, что сидела она на чемодане, закинув ногу на ногу, юбка рассыпалась до полу по бокам. Она не просто сидела, а как бы на секунду присела. И столько ликования, счастья – в позе, в выражении лица, в сияющем взгляде! Это уже потом я додумала, дофантазировала: едет с фронта, живая, не в кирзачах, а в туфельках, не в гимнастёрке, а в модном лёгком платье, едет домой. И не одна, а с любимым. Он стоит напротив и любуется ей, нет, восхищается! И жизнь вся впереди, и счастье, одно только счастье! Этот момент, этот миг схватил художник-фотограф. Для меня та девушка с фотографии – символ Победы.
Есть у меня и ещё одна фотография из местной газеты: девушка в проёме вагона в военной форме, в пилотке, едет домой…
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Война для меня запечатлелась в виде искалеченных ею людей. Они жили рядом. На улице Транспортной в двухэтажном доме. В подвале жил инвалид без обеих ног. Он передвигался на дощечке с двумя колёсиками, отталкиваясь руками прямо от земли. На руки надевал рукавицы. Он пил и жену бил. Потом, когда прошло несколько лет, он как-то исчез из моей жизни, а куда – не знаю.
У Вальки Горбуновой пришёл отец с фронта то ли с протезом, то ли одна нога парализована была, не знаю, только ходил он с тросточкой. Тоже был инвалид и тоже рюмку мимо рта не проносил. Его с войны ждала жена-красавица, тётя Маруся. Пьянку мужа воспринимала не как горе. Очень уж она его любила. Всякого. А он носил колючие усы, которые не нравились жене. Тетя Маруся просила сбрить их, а он не слушал её. Как-то она перехитрила мужа: когда он пьяненький, спал, она ножницами отстригла один ус. Он утром проснулся, увидел себя в зеркале, вот смеху-то было! Пришлось сбривать и другой ус. Горбуновы жили в доме со множеством квартир-клетушек. У Горбуновых после войны родилось ещё двое детей: девочка 1947 года рождения и мальчик – ещё младше.
Рядом с дверью в комнаты Горбуновых была дверь, ведущая в махонькую какую-то пыльную и грязную клетушку, в которой ютилась интеллигентного вида женщина с мальчиком лет девяти. Женщина была горем убитая, молчаливая. Жили они недолго, потом тоже куда-то исчезли. Видимо эвакуированные в годы войны. А потом, может, они вернулись после Победы домой.
Дядя Федя, брат Клавдии Ивановны, воевал под Сталинградом. Пришёл без руки, с протезом и с орденом Красной звезды. Его любимая песня была: « Но всегда я привык гордиться и везде повторял я слова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Дядя Федя тоже очень любил выпить, особенно в ресторане. Был он безплоден, а жён имел много. Одна из них была продавщица на базаре. Красивая добрая. Меня ласкала. Однажды привела к себе в дом, где её мать меня приголубила и вкусно накормила. Кажется, квашеным молоком с пенками и белым хлебом. Потом у него была тётя Лена с двумя дочками и пожилым отцом на руках. Тётя Лена жила в своём доме на окраине Бугуруслана, около горы. Паводковые воды заливали их домик по вёснам, и к ним можно было доплыть только на лодке. У тёти Лены была нарядная кровать с большими разноцветными бантами. Как она любила дядю Федю! Ещё бы, герой войны, сам собою хорош, хоть и без руки! Она с такой радостью нас встречала! Помню, угощала пирогом с рыбой. В тесте были запечены крупные куски рыбы. Все ели и восхищались. Помню, что пела всем песню: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян» Мне хлопали, а тетя Лена развязала один бант на кровати и надела мне на голову! То-то счастья было! Тётя Лена была весёлая, хлопотливая, старалась угодить родственникам мужа. Она, будто стеснялась её нечаянного неожиданного женского счастья. Она не красилась. Была худая. Запомнились губы (опять же смотрела я снизу) – яркие и какие-то тёмные, как переспелая малина. А когда она умерла, женой до конца уже была тётя Мотя. Тётка Матрёна жила шитьём, была симпатичная и тоже бездетная. Дядя Федя работал в артели «Красные бойцы». Однажды на Новый год (1948-49)он мне велел прийти на ёлку, чтобы получить подарок (своих детей не было, он меня записал). Я пришла, постояла и ушла. Уже тогда я становилась угрюмой и необщительной. И фанаберией уже страдала: как это я буду спрашивать подарок? Постояла, да и ушла. Дядя Федя домой потом сам принёс этот подарок. Там оказались пряники, десертные конфеты, подушечки, мармеладки. Шоколадных конфет мы тогда не ели.
МАТЬ. ПОСЛЕДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
А между тем подходило к концу моё существование при родной матери. Когда она готовила обед, а кушать хотелось так, что невмоготу, Клавдия Ивановна говорила: «На, замори червячка, и давала чего-нибудь перекусить». Запомнился счастливый день. Мать готовила вкусный обед. А отец надел огромный тулуп с высоким воротником, взял Галю на руки, закутав не только в одеяло, но и в полу тулупа, и вышел гулять с ребёнком. Я тоже с ними. Мы погуляли. С мороза суп с курицей был ароматный. Я ела этот суп из тарелки с петушками. Запомнился вкус. Вкус детства, счастья, умиротворения.
Мамочка ещё не болела или относила недомогание к усталости, ещё была энергичная. Зина говорила, что мать была чистюля. Проворная. Тётки (Шура и Катя – сёстры отца) хвалили её: «Не успеешь приехать и раздеться, полчаса не пройдёт, а у неё уж горячие пельмени на столе».
Как-то дед Трофим приезжал, тоже в тулупе. Привёз большой кулёк, свёрнутый из газеты, сушёных лесных ягод. Вот мне радость была!
И всем моя мамочка угождала. Была доброй невесткой, услужливой и проворной. Крёстная говорила, что мать наша была «горячая». В это слово она вкладывала определённый смысл: вспыльчивая, прямая – что думает, то и вылепит. Но к этому, я знала, что она умела перевести всё в шутку. Этим была на неё похожа Галя, а сейчас моя внучка Катя. Моя детская память запечатлела: белки глаз мамочки были желтоватые. Теперь-то я знаю: это признак болезни печени. Она больше стала уставать. На работе были какие-то неприятности.
Однажды летом, примерно в 1948 году, Клавдия Ивановна пришла с работы. Принесли Галю, а пузырьки для молока забыли у крёстной. Меня за ними послали. Всё-таки уже 6 лет было. Вот я пошла. Зевала, конечно, по сторонам. Взяла пузырьки и отправилась обратно. От лавочки до лавочки. На каждой посидела. Один квартал, второй, третий, далековато было идти. Обсидела все лавочки, а они были у каждого дома. А потом взяла пузырьки за соски и стала их друг об друга постукивать. Стучала-стучала – дзинь – они и разбились. Принесла домой осколки с сосками. Клавдия Ивановна и так была измучена, обессилена, а тут ещё это. У неё даже ругать меня сил не было.
Так вот, когда Клавдия Ивановна стала прихварывать и питание уже не могла добывать семье, послали меня за хлебом в чайную. Там его можно было купить. Пошла я босиком и помню, что мне было стыдно идти без обуви, становилась большая. А в чайной обедали московские гости. Они как раз вышли со мной на улицу, человека четыре. На них стали обращать внимание. Шли они посередине улицы, а не по тротуару. И как раз мне по пути. Оказалось, они шли в гостиницу, а мы жили напротив. Наши местные жители вгляделись, видимо, в лица гостей, узнали киноартистов. Мальчишки бежали и кричали им вслед: «Говорухин! Вася! Говорухин!» Так они выражали любовь к сценическому образу Говорухина в кинофильме «Смелые люди» – артисту Сергею Гурзо. Помню, что гордилась: такой знаменитый человек приехал к нам в город.
СВАДЬБА ПЕТИ. ДВА ПЕТРА. СМЕРТЬ ГАЛИ.
К 1948 году относится ещё одно большое событие в жизни нашей семьи: свадьба Петра Михайловича. У него в Бугуруслане была девушка, которую он очень любил (даже я знала об этом). Но она с родителями уехала куда-то очень далеко , и что-то между ними вообще произошло, не знаю, но они расстались. Петя водил полуторку и работал где-то по району. Я гордилась, что у меня такой брат: управляет большой машиной (автомобили были большой редкостью на дорогах города). К тому же и пальто справил. Я кидалась на шею к Пете с разбега.
И вот, когда он работал по району, газ проводил, то встретил в сельской больнице голубоглазую фельдшерицу с загнутыми ресницами. Влюбился. Она ответила взаимностью. Но она была староверка. Её родители поставили условие: прими нашу веру. Петя тут же покрестился по-староверски, но в Бога вряд ли верил, никогда в церковь не ходил, креста не носил.
Они расписались, и свадьба в первый день была у нас в подвале. Мне запомнилось только: было много народу, шум, веселье. Кто –то крикнул: «Ну-ка молодая жена, покажи себя, как ты умеешь плясать?!» Аня в белых одеждах как пошла по кругу! Здорово сплясала! Все были довольны. На второй день поехали в деревню к родителям Ани: Васёне и Сафрону, в деревню Ручеёк, колхоз имени Сталина. Там я, конечно, не была, но родственники так живописали этот вояж, что перед моими глазами встали живые картины. Моя мать и жена дяди Феди, тётя Лена, чудили, т.е. были центром компании, шутили, смешили всю свадьбу. Нарядились цыганками, своровали петуха на станции и с ним сели в поезд. Когда добрались до деревни, то шли через мост и Клавдия Ивановна с тётей Леной сиганули с моста в воду. Всех насмешили, всех удивили, восхитили, это было где-то в октябре 1948-го., а через полгода умерла моя дорогая мамочка и ещё через полгода – тётя Лена. Обе от рака.
Пишу эти записки и как бы живу в том времени. Всплывают образы и уходят. Вот Петька Маленький ушёл. Вот начинает уходить моя мамочка. Она прожила всего на свете 37 лет (1912-1949). Я уже чуть ли не в два раза старше её. Уже 59 лет она в могиле, а сердце не успокаивается. Уже почти 60 лет я оплакиваю её. Галя, сестра, её не помнит совсем. Точнее не помнила. Галя умерла в 2001 году в возрасте 54 лет, а Пётр Ратанов умер раньше Гали на 11 дней в возрасте 69 лет, мог бы дольше прожить, но голова его забубённая, следом за Илларионом ушёл. Теперь, когда уж 7 лет , как он в могиле, когда вновь переживаю своё детство, по-иному смотрю на Петра Ратанова. Он не меньше Петра Михайловича любил меня, а сделал для меня , может быть, и больше, но в семье оно был изгоем. Пётр Михайлович и депутатом избирался, и орден Трудового Красного Знамени заслужил, потому что жизни не жалел, когда служил в газоспасательном отряде. Он изобрёл какой-то шар, в котором опускался прямо в самое пекло, когда газ выходил из-под воли человека, поэтому и умер от рака лёгких. Пётр Михайлович был уважаемым человеком, умел жить красиво. А про Петра Илларионовича говорили, махнув рукой: что с него возьмёшь, любит выпить больше всего на свете, забубённая головушка. Он сам перечёркивал доброе имя своё. Но пил он не на работе. Заслужил медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», значок «Победитель в соцсоревновании». Дело своё знал и умел доблестно трудиться. Над карьеристами смеялся, в ряды КПСС не вступал, перед начальством не выслуживался, был совестливым, чужого не брал. Жил на свои трудовые средства. Сказать бы ему всё это, да его уж нет. Опоздала. Надежда только на то, что, когда он лежал в гробу, я позвонила в Переволоцк и Клава ответила и успокаивала: «Не плачь. Ты не сможешь приехать на похороны, мы всё понимаем» . Может быть в это время он меня слышал. Я ездила на девять дней в Переволоцк, отпевала его в церкви, подходила на исповедь. И батюшка сказал: «Сейчас идёт пост, поститесь и молитесь за него все 40 дней». Я постилась и молилась. На сороковую ночь он мне приснился. Один раз и всё. Он в моём сне был молодой и красивый. Ночевала в Оренбурге одну ночь, у его дочери Клавы. Мы долго с ней разговаривали – целый день. Она рассказывала об отце всё: и хорошее, и плохое. Больше всего запомнилось, как он её ещё маленькой возил на буровую, как поднимал её по лестнице на самый верх, и что она испытывала при этом. Говорила о вкусе хлеба на морозе с запахом нефти. Клаву, свою старшую дочь, назвал именем матери. Она тоже умерла в возрасте примерно 43-44 лет. Молодая, цветущая женщина. Пётр Илларионович доверял Клаве самое сокровенное, даже рассказывал такое, о чём бы и не надо говорить дочери. Вторую ночь ночевала у Валюшки Старостиной, дочери Пети Большого, третью – в Бугуруслане у Мити и в последний раз видела живой двоюродную сестру Катю, в больнице. Утром, 22-го августа, я ехала в Отрадный, чтобы навестить в больнице Галю. А она в это время умирала. Когда я приехала и вошла в квартиру, ещё пахло Галей. Ещё воздух был горячий от её тела. Галя лежала на снятой двери и остывала. На лице у неё было выражение такого гнева, раздражения, боли и стыда. Потом пришла врач и вылила из её живота ведро жидкости. У моей мамочки, и у Гали и у Петра Илларионовича была больная печень. У меня тоже что-то потягивает в правом боку. И тоже замечаю желтизну белков глаз. Но я живу уже 66 год. Сегодня 25 марта 2008 года. (прим. Автора не стало 15.09.09, рак желудка; родилась 12.05.42.) Я похожа на отца, но и от мамочки есть в моей внешности, особенно, когда подкрашу ресницы. У неё были черные ресницы. У меня подбородок и «брыли» под подбородком как у неё. Но я бесцветная, серая, как мышь. И характер не мамочкин. Она весёлая была, оптимистка, в руках у неё всё горело. А я вечно унылая, недовольная, в работе медлительная (стала сейчас), юмор тонко чувствую и понимаю, а сама остроумное слово сказать вовремя не умею. ( прим. Валентина Михайловна к себе всегда очень строго относилась. Видимо это и отразилось в её внешности и аристократических манерах. Для окружающих же , она была светильником добра и олицетворением самых возвышенных человеческих чувств.)

