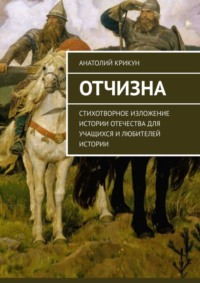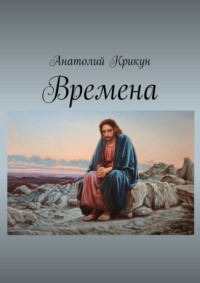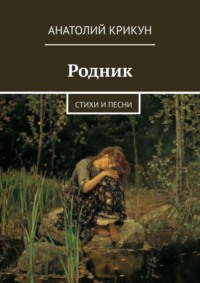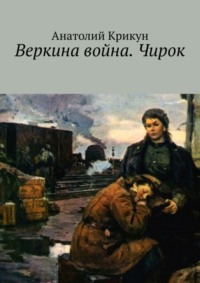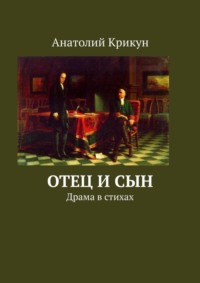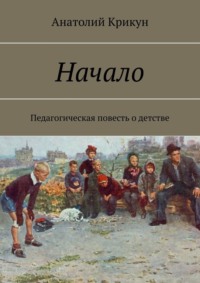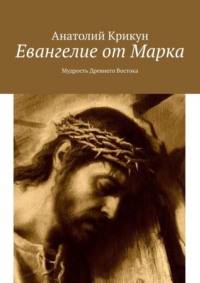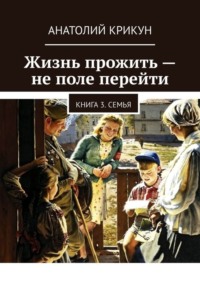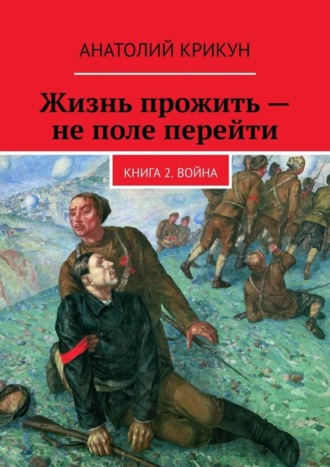
Полная версия
Жизнь прожить – не поле перейти. Книга 2. Война
театрализованное представление, где должна была явиться история полка. На невысокой сцене, в углу зала оформлены были символы полка, висели все знамёна вручённые полку за долгий срок. Четырехступенчатая пирамида, из воинов с оружием и в форме войн с Наполеоном, Русско -турецкой войны и нынешнего состояния полка, знаменовала этапы его боевого пути. Четыре лучших солдата полка стояли наверху в окружении знамён под восьмиконечной звездой. Внизу пирамиды разметал крылья огромный двуглавый орёл. Взводный командир Степана кратко изложил заслуги полка и его награды. Барабанщики полка в кирасирских шлемах отбили дробь, горнисты вызвали на выступление оркестр, исполнивший марш полка. Потом произвели награждения отличившихся в прошедшем году.
Офицеры, разбившиеся на группы, обсуждали события торжественного традиционного приёма у командира полка. В переоборудованном, после ритуала принятия присяги, зале, появились три длинных ряда столов, застеленных белоснежными скатертями. За ними, в строгом порядке субординации, разместились офицеры с жёнами. Во главе стола, с торца, напротив входа в зал, восседал командир. Перед приёмом провели фотографирование групповое в фойе. Дамы предпочли фотографию общую, где потом можно было выяснить, кто выглядел наиболее эффектно. Жёны начальствующего состава сидели, а остальные стояли в три ряда на ступеньках, чтобы все были хорошо видны. Дамы выглядели большим белым облаком, оперённом плюмажами разнообразных шляпок с белоснежными цветами на вкус и фантазии хозяйки. Двух одинаковых шляпок не наблюдалось. Здесь, тоже шло негласное
состязание. Моде следовали, но и являли чудеса выдумки. Отличительным знаком всех полковых дам были
специально изготовленные одинаковые броши, сверкавшие в свете люстр, как драгоценности индийских раджей. Броши красовались на шляпках, на шее, на груди. При одинаковом крое платьев, с закрытым воротом и руками, удивляло разнообразие рукавов с изысканными кружевами и рюшами. Из всех частей тела было открыто лицо, обрамлённое высокими причёсками на зависть варшавским модницам. Руки были затянуты в белые перчатки. Белые туфельки не были даже видны. При ходьбе платье касалось пола. При выходе этаких волынских дам в польское светское общество все взоры мужчин обращались в их сторону (они имели большой гардероб и лучших портных). Гордые полячки воротили нос в другую сторону. Все дамы имели безупречную репутацию и не допускали в свой круг, с помощью мужского офицерского собрания, неприятных особ. Офицеров было больше сотни, а вот дам всего четыре десятка. На торжественном приёме с соответствующим
застольем и свободным общением нельзя было, без
серьёзных последствий, ударить в грязь лицом и перед начальством и перед полковыми дамами. Нарушитель мог быть отлучён от полка решением собрания и переведён на иную службу. Готовились к балу основательно и, хотя мероприятие было необязательным; только дежурные по службе не являлись на него. Кавалеров был избыток, а дамы были нарасхват и щепетильны в выборе. Многие бы
знатные полячки мечтали попасть на такой бал, но дамы полковые не допускали конкуренток. Зато, в выходные дни, полковой оркестр гремел и кружил пары в вальсах и мазурках, летом на открытой площадке всех желающих, за платный вход, и приносил доход от варшавских любителей танцев в полковую кассу. Оркестр был знатный – не духовой, а- симфонический. Больше таких во всей армии не было и собирались в него лучшие музыканты. Шестьдесят
музыкантов по штату и энтузиасты и любители, вне его, владели всем набором инструментов и исполняли широчайший спектр музыкальных сочинений. Первыми в России они исполнили джаз.
К вечеру, большой зал был освобождён от стульев и столов. Исчезли и лишние декорации. Сверкающий пол отражал сияние люстр и блеск хрусталя. Оркестр настраивал и опробовал инструменты. Рояль, трубы,
флейты и скрипки испускали звуки при настройке и
подготовке. Десяток штатных барабанщиков отдыхали – им места в этом оркестре не находилось. За два часа перед балом, полковые дамы, с музыкальными способностями (таких было достаточно), с талантливыми офицерами дали небольшой концерт у рояля. Исполняли романсы и народные песни. Новобранцы, выдернутые повестками из глухих деревень и сёл, пялили глаза на полковых дам, издалека наблюдая их через окна. У рядовых и унтеров в казармах играли гармони, бренчали балалайки, пелись песни и трещали полы под сапогами танцоров. Старослужащие играли в комнате для отдыха в шашки, шахматы, домино и лото. Часть их собралась в каптёрке и резалась в карты на интерес или на мелкие денежки и при этом травили солдатские байки и анекдоты. У офицеров игра в карты была давней традицией. Степан, в своём самом длинном письме Марии, часа три описывал свои переживания и свое участие в праздновании. Закончил коротко:
«К службе приступил – через три года жди!»
В точно назначенное время оркестр заиграл полковой марш, приглашая всех дам и кавалеров на гранитный,
отшлифованный для танцев пол. Все пришедшие явились быстро на построение. Дамы семенили, шурша платьями, занять место поближе к оркестру, не суетясь излишне, при этом, величественно подняв головки,
с осознанием своей важности. Располагались в линейку и выискивали своих резвых кавалеров глазами. За редким
исключением это были мужья. Свободных дам не должно было быть, но, поскольку кавалеров был избыток, то являлся и хороший шанс у дам приобщиться в танце не только с привычным и поднадоевшим собеседником, но и с более лёгким на танец, симпатичным и молодым, холостым кавалером, чтобы муж больше обращал внимания на маленькие капризы и крепче любил. Медленно в зале зазвучал вальс «Амурские волны» и пары заскользили по паркету. Первым, по субординации, двинулся полковой командир со своей супругой, которая за несколько месяцев до бала уже начинала тщательно проверять свой вес. Вторым, по негласному мнению офицерского собрания, лучший танцор барон Тизенгаузен с одобренной, заранее офицерским собранием, на зависть многим дамам
королевой бала, коей явилась в первый раз супруга
командира первой роты – средних лет яркая блондинка:
стройная как южный тополь, весёлого нрава и высокого авторитета среди подруг. Половина полковых дам уже бывали ранее в её роли и это крепило ревнивый женский союз и давала надежду многим дамам оказаться в самой завидной паре на балу.
Идеально подобранная пара должна была явить образец, на который должны были ровняться все в исполнении танца. Высокая причёска дамы и туфельки на приподнятом каблучке ровняли в росте её с высоким и стройным партнёром, который ещё юным, в училище блистал своими способностями в фехтовании и танцах и вызывал тем восхищение незамужних девиц. Галантностью и острым умом Сергей Тизенгаузен завоевал внимание многих
полковых дам, но в Дон-Жуаны никто не мог его записать. Вскоре, в кругообращении, оказалось четыре десятка пар. После плавного с грустинкой, меланхоличного «На сопках Манчжурии», с напоминаниями о воинстве, зазвучали более бодрые и, заставляющие быстрее переставлять ноги и
крепче держаться за партнёров мелодии, выдуваемые
не только трубами, но извлекаемые из флейт и скрипок. Менялись партнёры, оживлялись беседы, светились от
улыбок и яркого электрического света глаза, розовели лица. Старшие офицеры не успевали за темпом, где нужно было проявлять усилия, как на военных учениях, и, отдуваясь, стали перепоручать своих жён, не знающих усталости, свежим кавалерам, терпеливо ждавших своей удачи.
Солдаты слушали в казарме игру оркестра. Многие выходили на улицу, чтобы лучше слушать музыкальный концерт. Подходить близко к окнам воспрещалось. Сквозь не зашторенные окна, высотой в два человеческих роста, были видны корпуса и головы танцующих в сиянии люстр.
После вальсов пошли более сложные танцы, где преуспевали недавние выпускники военных училищ, водившие и кружившие своих дам, которые в своем кругу разучивали новомодные танцы, беря уроки у польских учителей. Тут уж, занятые службой мужья, удивлялись прыти своих неутомимых и прытких жён. Степану, впервые наблюдавшему подобное зрелище издалека, сказочное
движение кружевных белоснежных облаков в паре с кавалерами в белых парадных и иных, специально для бала шитых костюмах, явилось чудной сказкой. При лёгком морозце он с Петром прогуливались на площади перед
дворцом. Тихо падал снег. Лёгкие снежинки кружили в
воздухе под пение флейт и скрипок исполняя свой белый вальс и ложились на плечи и ресницы Степана. Он вёл беседу с товарищем обсуждая события суматошных дней
перед принятием присяги. Пётр допытывался почему именно дружка определили на ответственное мероприятие и
тем самым выделили его и прославили среди новобранцев.
Степан отмалчивался. Он и сам не знал, за что его выделили
командиры и не хотел посвящать его в свои сомнения и переживания. В душе его звучала музыка, а в глазах, сквозь
пелену снежного тумана, проступали черты далёкой и всё
более притягательной Марии. Воспоминания памятного
Рождества и здесь волновали его душу. Степан часто, глядя
на подарок Марии, и, наблюдая как передвигаются стрелки
тяжёлого серебряного хронометра, мысленно возвращался
в родной дом, к любимой Марии. «Что с ней? Хватит ли сил
дождаться его?». Служба и строгий распорядок не тяготили
новообращённого рядового солдата. Профессию эту он
осваивал так же серьёзно, как и нелёгкий и ответственный
труд к которому приобщал его отец и который Степан
почитал не только необходимым, но и основополагающим
для всей своей дальнейшей жизни. Так жили предки и так
предполагал жить и он.
Последним зазвучал плавный и величественный полонез-творение польской музыкальной культуры, покорившее, как и венский вальс, российское высшее общество. Степан вспоминал нехитрые, но озорные и захватывающие танцы
деревенской молодёжи, которым не обучали учителя, а которые исторгала душа, как и русскую песню, и которые вошли с самого рождения в душу и кровь, с тоской и удалой веселостью выплёскиваясь в этот суетный мир, являя сокровенные, глубоко укрытые, тайны сложной души, которая таилась и у разбойника и у святого. Познать все тайники мятежной души – не в силах- ни пророку, ни мудрецу-писателю. Какая сила движет человеком? Какая сила может остановить на краю бездны и какая сила толкает
его в бездну? Может быть та гармония и сила живут в музыке, что рождает природа и, что льётся из души то стоном, то звонким смехом и, что не умирает и живёт вечно с шумом дождя и раскатами грома, с шорохом опавшей листвы и криком петуха, с посвистом разбойничьим ветра и ласковым звучанием материнской колыбельной песни. Звуки полонеза напомнили вновь Степану ночь перед Рождеством, когда заглянул в бездонные светлые глаза своей Марии, поглотившие его целиком и навсегда. В звучании оркестра слышался её смех и чувствовалась её грусть, что доходила до Степана через тысячи верст. Когда Пётр поинтересовался о том, что пишут из деревни и как там поживает его зазноба, Степан односложно ответил:
– Пишут.
На первом этапе обучения Степан обратил на себя внимание быстрым усвоением новой военной науки. С шагистикой на плацу проблем не было- тело послушно
исполняло команды; уставы, при крепкой памяти, заучил назубок и действовал согласно их. Особенно отличался в физических упражнениях, где он, привычный с малых лет к сельской монотонной и тяжёлой работе, где отец был строгим наставником, превосходил многих своих новых товарищей, вызывал уважение и поощрения командиров и старослужащих. Рубил, колол и бил по макетам
изображаемого противника так, что и бывалые солдаты цокали языками и любовались новобранцем, а в
соревнованиях и играх желали видеть его в своей команде. Хоть времени с расставания с Марией прошло немного, но страстное желание увидеть её посещало солдата и наяву и во сне.
К середине второго года службы, когда Степан явил себя дисциплинированным, отличным по показателям рядовым,
за ним начал наблюдать командир роты капитан Тишевский – большой авторитет в полку. Старательный и скромный рядовой, любопытный и читающий ему нравился. Он стал лучшим стрелком в роте и в первое же лето на полевых учениях на стрельбище удивил. С весны полк выводился из города в летние учебные лагеря. Жили в десятиместных, выгоревших на солнце, белых плотных и просторных палатках. На первых учебных стрельбах Степан получил два пристрелочных патрона к винтовке Мосина и вспомнил сотни теоретических занятий, где «дядьки» следили за каждым движением и добивались, чтобы и глаз точно через прицел искал цель, чтобы тело при положении лёжа, с колена и стоя- было неколебимым, дыхание -ровным и рука- крепка; нажимать на курок мягко и не дыша. Вроде наука несложная, да вот не у всех получалось, так как у Степана на открытом полевом стрельбище боевыми патронами. Учебных патронов не было предусмотрено и стрельбы боевыми проводились в лагерях, на воздухе, где было много помех. Солнце и ветер, вместе с волнением за результат, от которого зависели и поощрения с наказаниями и стрелков и их наставников, сильно напрягало. Что пуля —дура, а штык- молодец- эту присказку великого Суворова, который и сам поучал беречь каждый патрон и наказывал за промахи, оправдывало только то, что суворовские чудо-богатыри превзошли лучших в Европе и Азии рукопашных бойцов —турецких янычар, что с самого детства обучались этому воинскому искусству. Устоять против русского штыка, со времён Петра Великого после Полтавской баталии, не могли уже ни шведы, ни немцы, ни французская гвардия.
Вспомнив всю теорию и навыки отработанные на занятиях, Степан с волнением улёгся на землю и изготовился к стрельбе. Как учили, две пули послал в щит, что стоял изображая фигуру. После пристрелки проверили мишени. У одного поправили неверно установленную по забывчивости планку и ещё раз напомнили правила стрельбы. Девять человек со Степаном застыли на рубеже. Стрелять нужно было по команде. Это было сложное задание по которому можно было сразу определить выучку. Пять раз, через равные промежутки времени, прозвучала команда «Пли!» Пять раз плечо Степана получило толчки от окованного металлом основания приклада, что в рукопашном бою должен был как дубина сокрушать врага. Когда отстрелялись, командир отделения сбегал к мишеням и сделал записи. У мишени Степана задержался дольше всего. У Степана ёкнуло сердце! В отделении было три новобранца. «Неужели опростоволосился?» Взводный получил сведения. Он преуспевал не только в танцах, но и числился приличным стрелком из винтовки и револьвера и, ожидая повышения, хотел отличить свою команду на стрельбах. Подойдя к Степану, ждущему с винтовкой, приставленной к ноге, результатов стрельбы и, глядя в лицо Степану, радостно коротко бросил:
– Восхитительно!…Где же ты, молодчик, так научился стрелять?
– От отца, ваше благородие, такую привычку имею.
– Значит, охотник… Ну, а какого зверя бил?
– Большого зверя не брал, на то мужику запрет был, а так, всё больше, на зайца и волка, да птицу по осени в лёт бил.
– Выдайте стрелку еще пять патронов.
Ты, Драбков, видишь на насыпи фигуры? До них
четыреста шагов. Поправь прицел, да покажи каков охотник. Стреляй без команды. Степан отстрелялся. Пока отделённый бегал за результатом, взводный сел на скамейку, подозвал Степана к себе, открыл серебряный
портсигар и предложил закурить папироску.
– Не балуюсь я этим, извольте отказаться.
– Ах, да, прости, я запамятовал. Одобряю. Это, братец, и хорошо. Видать ты и лес неплохо знаешь и в разведку вполне годишься. Не заблудишься без карты?
– Карты я читать не обучен, но дороги в лесу назад не
потеряю.
– Что книги читаешь приветствую, а если буквы в слова складывать обучен и смысл понять можешь, то и карта
дело не мудрёное; зайца и того на барабане бить в цирке
обучить могут, а из умного солдата и полководца сотворить
вполне возможно; было бы желание.
Когда явились результаты второй стрельбы, взводный удивления не скрыл. Без полевой практики уложить все
пули кучно в центр мишени не всегда удавалось и ему. Тизенгаузен решил потерять время, но довести дело до конца. Он и сам сейчас ощутил азарт соревнования.
– Выдать стрелку еще три патрона. Видишь у леска стоят две фигуры деревянные? В них ещё никто не стрелял… они целёхоньки. До фигур 1400 шагов. На сколько шагов достает винтовка Мосина?
– Шагов не могу знать, а в устава означено- до двух километров.
– Правильно обозначено. Попробуй достать. Проверь прицельную планку, покажи каков мастер.
Отделённый, найди и мне добрую винтовку, да не
ошибись, и выдай мне тоже три патрона. Раззадорил ты меня, Драбков. Моя фигура правая, а твоя слева. Ветра нет, солнце светит и, если разок попадёшь, я тебя отличу и на соревнования от взвода отправлю. Весь взвод расположился на травке в ожидании соревнования и потихоньку делали ставки на победителя.
– Отчего ж не стрельнуть. Они же не бегают.
Степан лёг, ещё раз проверил прицел. Нацелил глаз на солнце так, чтоб оно не мешало. Прапорщик лёг рядом, снял фуражку и уложил винтовку на бруствер из мешков с песком. Степан знал, что чем дольше и напряжнней целишься по птице, тем меньше возможен успех – глаз замыливается и устаёт.
Степан всё делал с большой тщательностью. Твёрдо уперев локти, приладил приклад винтовки к ноющему от отдачи оружия при выстрелах плечу, делал глубокий вдох, находил через прорезь прицела мушку на конце длинного ствола, который увеличивал дальность и точность стрельбы, находил середину фигуры, затаив дыхание, плавно нажимал на курок. Сделав выдох, спокойно передёргивал затвор и повторял сотни раз выполняемое при обучении упражнение.
Только тогда не ныло плечо и не глохло в ушах. Азарта, как
при охоте в лесу, на стрельбище не было и, выпуская пули по деревянным макетам, Степан был хладнокровен и не испытывал никакого волнения. На охотничьих трофеях его
не смущала кровь. С детства был приучен без страстей
относиться к привычному для крестьянской жизни забою
скота и птицы и наблюдал не раз, как крестьяне, для исцеления от болезней, по заветам своих далёких предков, знахарей всех хворей и бед, пользовались свежей, ещё тёплой, свиной кровью. Убить зверя или птицу на охоте
считалось хорошим промыслом и подспорьем в хозяйстве.
Деревянные мишени и соломенные мешки для обучения
штыковому бою не вызывали у Степана эмоций, а мысли о том, что возможно придётся убивать людей в голову не приходили. В рассказах о подвигах волынцев и книгах, которые он прочёл о войне, Степан не ощутил боли и запахов тёплой крови. Война и кровь были далеко от его мыслей. Раздумья же о Марии всё чаще волновали его
сердце и он с нетерпением ждал каждую весточку от неё.
Степан раньше соперника выпустил все три пули и встал. Тизенгаузен отстрелялся и поднялся, стряхнув землю со своего мундира. Довольный собой, подошёл к Степану и,
скорее не приказом, а просьбой, произнёс:
– Теперь, стрелок, оставь винтовку и даю тебе двенадцать минут времени (достал часы наградные за успехи в стрельбе
при своём выпуске из училища) чтобы ты, дружок, успел обернуться с результатом. Бегом марш!
Степан отправился к мишеням маячившим вдалеке. На бегу вытащил из кармана часы, бережно хранимые им, как залог любви от Марии, прислушался к их ходу, завёл на бегу и, держа в руке, смотрел на перемещение минутной стрелки от деления к делению. Проверил фигуры и, держа ровное дыхание, пустился бегом в обратный путь. По времени укладывался, но сапоги становились всё тяжелее, а дыхание неровным, сердце рвалось из груди. Тяжело дыша
доложился:
– Обе фигуры поражены, ваше благородие.
– В какую часть?
– Одна в грудь, а одна пуля в живот у вас.
– Ты куда целил?
– В середину фигуры.
– Твоя фигура куда поражена?
– В живот все три.
– Видать мне потренироваться после зимы надо, давненько винтовку в руках не держал. а тебе перед строем благодарность будет. А часы у тебя от кого, можно ли глянуть?
Видать взводный успел заметить и оценить и усердие в беге и точный расчёт и хронометр, каким его подчинённый пользовался. Степан вновь извлёк часы из кармана и передал барону. Тот внимательно рассмотрел их и прочёл гравировку.
– Да, знатная штуковина! Кто тебе даритель? Сейчас
таких не производят.
– Невеста, ваше благородие. Это её зарок, чтоб в армии не забыл и наследство от деда Евсея, что ей к свадьбе приготовил.
– А где дед службу нёс?
– В полку Преображенском, ваше благородие.
– Славный полк! Цени, Драбков, подарок и невесту не забывай.
– Так точно, ценить и не забывать.
– Вот и отпиши родителям, что я тобой доволен.
– Есть отписать.
Этот длинный по военным меркам разговор не прошёл даром. Взводный следил за ростом Степана в военном деле и поощрял его усердие. Степан отличался и на занятиях плаванием в единственной в русской армии школе по плаванию, что располагалась на берегу широкой Вислы, недалеко от места расквартирования полка. Все солдаты должны были быть обучены и плаванью. Любопытные польские дамы в бинокли наблюдали за занятиями
волынцев, отмечая ладные, мускулистые фигуры. Рядовые солдаты полка во время увольнений в город пользовались популярностью у местных барышень не обременяющих себя примерным поведением. Некоторые гвардейцы были и любвеобильны и щедры. Кое- кто из сверхсрочников и молодых офицеров заводили себе и жён, не обращая
внимания, на католическое вероисповедание, зная, что полячка венчанная в костёле никогда не оставит мужа. В Варшаве любители спорта знали участника Олимпийских игр 1912 года в Швеции капитана Волынского полка Андреева, который на первой олимпиаде с участием российских спортсменов получил отдельную награду Олимпийского комитета в Стокгольме. Ему был вручён
специальный приз за участие в показательных выступлениях, отметив его виртуозное фехтование на саблях, хотя фехтование не входило в программу игр. Его фотографии на открытках раскупали и в Санкт-Петербурге и в Варшаве с Москвой. Вместе с фотографией красавца-фехтовальщика нарасхват у дам были и другие волынцы приятного вида, мечтающих обрести своё счастье с таким же красавцем. На второй год службы, когда треть полка демобилизовали, и на треть пополнили новобранцами, стали отпускать в увольнение. Первый свой выход в город Степан совершил вместе с Петром, что тоже значился в числе лучших в роте и дружба воинская с которым у Степана крепла. Вместе они проводили много свободного времени. Служба шла без натуги и время стало лететь быстрее. Степан продолжал брать книги в полковой библиотеке. Залпом прочитал «Воскресение» Льва Толстого и погоревал о его кончине автора, случившейся в год призыва Степана на воинскую службу. Рассказы Гаршина и Чехова, которые
неугомонная Вера Фёдоровна порекомендовала для чтения и духовного развития любопытного и симпатичного для неё, ставшего более общительным парня, раскрывали ему человеческие характеры и переживания и усиливали тягу
к чтению. Степан чувствовал, что в его душе происходят
изменения. Прежний уклад мыслей, связывающих его
с семьёй и деревенской жизнью- будничной и простой,
менялся в среде в которую он попал в элитном полку, в
огромном, столичном, европейском городе, среди
множества людей, разных по своему положению в обществе
и по внутреннему содержанию, менялся под влиянием
новых обстоятельств. Узкий, привычный уклад деревенской
жизни – спокойной и размеренной, изредка разбавляемой
бурными бытовыми страстями и нехитрыми, привычными развлечениями, расширился. В полковой казарме была
представлена вся Россия, а в огромном городе в центре Европы можно было найти отражение и всего
христианского мира. Новые общения, новый круг
интересов, формировали и новый взгляд на мир, но
обогащаясь жизненным опытом, Степан инстинктивно тянулся к тому миру в котором он привычно жил и
свободно дышал, где с детства открывал для себя первые, вечные тайны бытия.
«Где родился- там и пригодился» -эта немудрёная истина
глазами матери и Марии тянула его назад к земле, где он
провёл первую свою борозду и познал чувство любви. На
летних военных учениях Степан, как в поле на пашне и в
лесу, ощущал призывные запахи земли, на которой
колосится рожь и медовым запахом дышат луга. Чем дольше солдат подминал под своим сапогом на маршах, учениях и парадах матушку-землю, тем больше она тянула к себе на иную работу. Эту землю Степан готовился
защищать от чужого сапога, но не представлял себя, как его взводный командир – барон и землевладелец, что можно землю иметь, но ей не заниматься, а всю жизнь тянуть военную лямку.
Степан много читал о своём полке и книг по военной истории. Он раньше не предполагал, что чтение может стать в однообразной казарменной жизни, расписанной уставам поминутно, страстью, которая отвлечёт, оторванного от