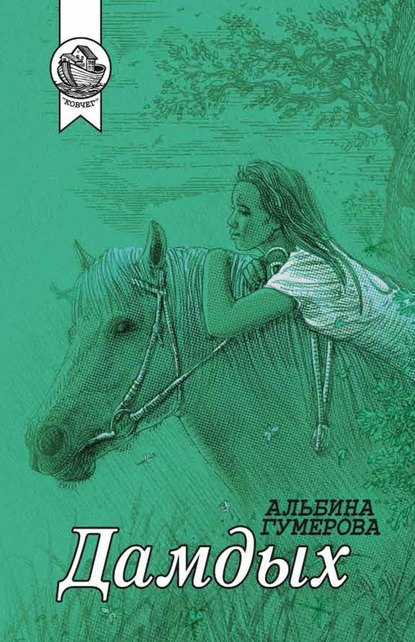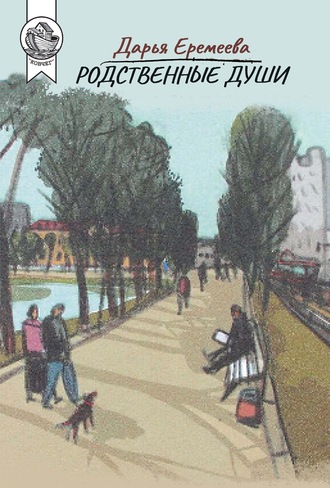
Полная версия
Родственные души
Он отступил, впуская ее:
– Значит, вы тоже из этого злополучного журнала! У вас там бог знает кто работает… Неучи какие-то…
– Я не совсем журналист, просто люблю ваши работы и…
Бровь опустилась. Взглядом он сказал: «Да ты ни одного моего фильма наверняка до конца не досмотрела, пигалица», а вслух, тоном повелителя: «Наденьте тапочки и проходите». Полина подумала, что старик умнее, чем кажется, и решила вот что: не буду слишком стараться, с этим лучше вести себя естественно, а там будь что будет.
Одинокие, забытые актеры часто живут безалаберно, но у Бельского сияла чистота и было даже что-то патологическое в четкой симметрии расставленных на полке тапочек. Она надела самые маленькие, старомодные – наверное, принадлежавшие когда-то одной из его любовниц, и села на диван. Он жил в большой комнате-студии, увешанной его портретами и фотографиями в разных амплуа – вполне предсказуемое убранство. Старинная ухоженная мебель и ни одного современного предмета – ни безделушки. Телевизора тоже не было, только старый компьютер. На экране светилась страничка ютуба с театральной постановкой на паузе.
– Давайте начнем без вступлений, что вы хотели узнать?
Она вынула диктофон. И зачем только ввязалась в это? Безнадежно…
– Мне очень понравилась ваша роль в «Иванове», расскажите о ней.
Сощурил глаза:
– Об этой роли редко вспоминают. А что рассказывать? Мне уже ничего не интересно, я даже книг не читаю толком – так, нюхаю. Но если нужно, то извольте, давайте об «Иванове». – И он, зевая, рассказал, как и с кем снимался, как разбирал роль. Прибавил даже несколько баек, но не слишком веселых. Когда повисла пауза, Полина замялась, смутилась. А потом сказала то, что заранее приготовила, но все не решалась…
– Знаете, моя мать была красавицей, но очень поздно вышла замуж, очень поздно родила меня. Она искала мужа, похожего на вас.
– И как? Удалось?
– Нет, конечно. Мой отец был врачом.
– А она случайно не писала мне писем? – Бельский помолчал, задумался. Потом взял Полину за руку и подвел к секретеру, открыл дверцу и вынул большую коробку, набитую письмами поклонниц. В отдельной, увесистой стопке, перетянутой резинкой для денег, были письма с фотографиями. Он стал вынимать наугад и показывать Полине. На оборотах карточек иногда были начертаны номера телефонов. Показав фото, он аккуратно убирал его обратно в конверт.
– Вы их сохранили, надо же!
– Выбрасывать – значило бы проявлять неуважение к женщине. – И длинное лицо его приняло то нарочитое выражение, какое он напускал на себя, когда играл «положительных» персонажей. – А вот эта хорошенькая, правда? – И нарочитость сменилась самодовольной улыбкой.
– Да, очень.
– А эта круглолицая на Гурченку смахивает.
– Действительно.
Она не решалась продолжить вопросы, понимая, что ему просто приятно перебирать эти фото при ней. Наконец он закрыл коробку и положил на нее свою большую ладонь с длинными пальцами. Очень красивая, старая рука.
– А ведь сколько тут, в этой коробке, было возможностей: чувств, ощущений, радостей, трагедий, восторгов… Правда? Вы кофе будете?
Он сварил ей на идеально чистой плите в старой медной турке отличный кофе. Добавил ей ложку ликера, а себе наполнил рюмку до краев и выпил. Угостил печеньем и, глядя, как она ест, словно отрешился, что-то вспоминая, уносясь мыслями в молодость… Потом смягчился и перешел на доверительный тон:
– Я только одно письмо порвал. Оно тоже было с фотографией и с телефоном. Почти все лица на этих карточках мне казались тогда не слишком интересными, даже хорошенькие. А у нее интересное лицо было, что-то аристократическое… И письмо неглупое, с юмором и в то же время лиричное… Я его несколько раз перечитывал, улыбался, собирался позвонить, но работа отвлекла, и роман был у меня тогда… Глупый, ненужный роман. Не позвонил, а потом потерял письмо. Искал его, жалел, что не позвонил сразу. И лет через десять, когда ремонт делал, нашел нечаянно – за комод завалилось. Перечитал – будто свежим ветром в окно повеяло. Позвонил. Трубку мальчик взял. «Мама, тебя к телефону!» Я трубку повесил. А это мог бы быть мой мальчик. И я что-то разозлился и порвал письмо… – Он очнулся и сдвинул брови, сердясь на свою откровенность. – Разумеется, этого всего в интервью не должно быть, надеюсь, вы понимаете.
Но в конце разговора он снова попросил ее выключить диктофон, мягко положив свою руку на ее, потом поднялся и произнес короткий монолог Глумова – удивительно живо и легко, словно каждый день эту роль играл:
– Как мне огорчить вас! Я, страстный, робкий юноша, давно искал привязанности, давно искал теплого женского сердца, душа моя ныла в одиночестве. С трепетом сердца, с страшной тоской я искал глазами ту женщину, которая бы позволила мне быть ее рабом. Я бы назвал ее своей богиней, отдал ей всю жизнь, все свои мечты и надежды!
Бельский молча поцеловал Полине руку и встал, показывая, что аудиенция окончена, учтиво проводил ее до дверей, подал зонтик и открыл дверь. Не сказал ни слова, даже не попрощался – чтобы не рассеять впечатление от монолога…
По дороге домой она улыбалась и вспоминала, что ей было известно о его личной жизни. В юности после первых удачных ролей он быстро сделался кумиром советских женщин, баловнем судьбы и ловеласом, потом женился на красавице-однокурснице, и, когда изменил ей, она ушла и забрала дочь. С тех пор он не женился, а она вышла замуж и долго не говорила дочери, кто ее настоящий отец. Когда дочь выросла – не захотела общаться с Бельским – была обижена за мать. У Бельского было множество подруг, но второй раз он не женился и в старости остался один. Полина вспомнила тапочки, идеальные полки с книгами, звонки в редакцию с угрозами. Не забыла ли визитку оставить? Нет, кажется, положила на стол.
Дома она расшифровывала разговор до двух ночи, чувствуя нервное возбуждение и еще отчего-то нежность, словно в пальцах у нее было то самое, желанное перо Жар-Птицы. Она долго не могла уснуть, воображая, как утрет нос этой кичливой супружнице главреда, и улыбаясь в темноте. В семь утра наконец уснула, и тут прозвенел ее мобильный. Спросонья ей сначала показалось, что она все еще слушает запись с диктофона, но нет, это был его голос в трубке, бодрый и спокойный:
– Поленька, сегодня часов в десять можете приходить, вы ведь недалеко живете, как я понял? Я не выспался, но думаю, не обману ваших ожиданий. Поленька, вы меня слышите?
– Я… да, слышу. Я, простите, я перезвоню вам, я еще сплю, я не очень…
– Хорошо, понял, не утруждайте себя объяснениями. Нет так нет. Когда вы пришлете мне интервью для одобрения?
– Все готово, могу сейчас.
– Вот и прекрасно, я жду.
Полина окончательно проснулась от мысли, что интервью не выйдет. Но оно вышло. Актер ответил коротко: «Я доволен, это неплохо». К электронному письму прилагалась фотография, где Бельский в роли Глумова сидит у самовара, подперев рукой красивую голову.
Двое
С ним очень интересно разговаривать. Его любимые слова и словосочетания таковы: «вздор», «бред сумасшедшего», «чушь несусветная», «глупость», «неимоверная глупость», «поразительное невежество», «упоительная бездарность». Он также любит емкие характеристики: «болван», «кретин первостатейный», «непревзойденный дурак», «смехотворный балбес». О женщинах он отзывается почти всегда одинаково: «я лучше промолчу». Еще он склонен к обобщениям. Всю совокупность современной литературы, например, он характеризует одним словом: «графомани́я». Именно так – с врачебным ударением.
Она ловит себя на том, что, прежде чем что-то сказать, вжимает голову в плечи и переходит на робкий шепот. Он притворяется, что не слышит, думает о своем. О высоком. Он вообще любит, когда все вокруг молчат. А ее от этого молчания как назло начинают одолевать разнообразнейшие умные и глубокие мысли. И она тихонько начинает: «Знаешь, я подумала». Он останавливается и спокойно произносит: «“Я подумала” – это табу, так не надо говорить».
– А как надо?
– Лучше никак. Лучше дышать свежим воздухом. – Вместо того чтобы обидеться, она смеется и замолкает.
Приезжая в Москву, они любят зайти в книжный магазин «Фаланстер», и, пока она смотрит новинки, он проходит в дальний угол поприветствовать свою книгу. Книга (в единственном экземпляре) вот уже год стоит на полочке рядом с такими же стройными, пыльными соседями. Справа и слева изредка, но все же возникает движение: кого-то снимают с полки, листают и возвращают на место. Если повезет, то уносят с собой. А его книгу не берут, имя на обложке никому ничего не говорит. Всякий раз, подходя к полке, он мысленно произносит примерно следующее: «Купить тебя или еще постоишь? Понимаю, что надоело торчать незаметной скромницей на балу, но если я тебя куплю, то и единственного шанса на чей-то искренний интерес у тебя не останется…»
В один из приездов в Москву она кое-что придумала. Позвала в «Фаланстер» подругу Ирину – ф илологиню, критикессу и любительницу поэзии. План был прост: подойти к полке с его книгой и, небрежно указывая на бледную обложку, сказать что-нибудь вроде «Смотри-ка! Все еще не раскупили тираж! Последняя осталась!» Ирина, конечно, заинтересуется, откроет, сделает задумчиво-светлое лицо, с трудом оторвется от строк, чтобы улыбнуться им обоим. Пожелает купить и взять автограф, благо автор в кои веки выбрался в столицу. Потом, возможно, напишет глубокую, сдержанно-восхищенную рецензию и, конечно же, будет разбирать эти стихи со студентами.
Ему она ничего не сказала о своем плане и немного волновалась.
Подруга уже успела набрать стопочку книг и, прижимая их к груди, подошла к заветной полке. Похвасталась тем, что уже купила. Биографию У. Мемуары К. Томик стихов М.
– Какая гадость! Я читал это, пошлейшая графомани́я. – Он брезгливо взял томик стихов М. и как-то весь передернулся, возвращая книгу Ирине.
Повисла пауза. Ирина сконфузилась и сказала, что купила эти стихи исключительно с исследовательской целью, но поджала губы, опустила глаза и обиженно перешла в другой зал. Когда шли втроем к метро, он молчал, а подруги мучительно пытались перебрасываться общими фразами. Ирина холодно попрощалась и вошла в метро, а они еще долго бродили по Москве. Ему, конечно, было неловко за свой истеричный выпад, но он редко признает свои ошибки. А она думала о том, как ему мешает жить гордыня и самомнение, о том, что он уже всех ее знакомых распугал, о том, что он все равно лучше всех, и неважно, что подруга обиделась, все неважно, кроме него. И стихи у него прекрасные.
Ей хотелось сказать ему: «Не злись, я тебя люблю», но она предпочла идти молча и «дышать свежим воздухом», пусть даже в центре Москвы он не такой уж и свежий.
Поросенок
Когда ночуешь на даче одна (ребенок не в счет), жутковато бывает проснуться в кромешной темноте и полной тишине и прислушиваться, как на чердаке приблудная кошка ходит, крадучись, словно вор. Успокаиваешь себя: воры по крышам не лазают – к чему эти сложности, когда окна так низко… А под окнами ежи ночами возятся, фыркают. За калиткой у нас великолепный заливной луг. Охотники в августе там птицу стреляют, выстрелы и возгласы раздаются до полуночи … А вдруг напьются и пойдут по деревне буянить? Мысли, говорят, материальны. Раз перед рассветом послышались чьи-то шаги под окнами. Осторожные, слишком тяжелые для ежа или кошки. И стук в дверь – такой, будто по сердцу постучали. Оно тут же ушло в пятки. Осторожно встаю, чтобы малыша не разбудить, судорожно одеваюсь и телефон ищу – в милицию звонить. Отделение милиции далеко от нашей деревни, а номер, кажется, в блокноте, сто лет назад записывала, но где этот блокнот? Опять стук. Негромкий, но отчетливый.
Шторку дрожащей рукой отодвигаю и вздрагиваю: в окне маячит лицо – темное и лохматое. «Соседка, это я».
– Что вам надо? Я сейчас мужа позову.
– Да какой там муж, не пугайся, Коля я! Сосед через три дома.
Дядя Коля-алкаш! Ну слава богу.
– Что вам, Коля? Четыре утра.
– Доченька, помираю! Магазин только в десять откроют, я не доживу. Спаси, дочка. У тебя осталась рябиновая? Дочка, спаси, бога ради! На тебя вся надежда.
В самом начале нашей дачно-деревенской жизни этот дядя Коля очень меня выручил. Тогда я была преисполнена восторгов: боже мой, у меня теперь есть настоящая усадьба! Ароматы сада! Закат над полем! Розы! Шмели! Колодезная вода! А вода в разгаре жары вдруг кончилась. Стою со шлангом, слезы предательски наворачиваются, в колодец вглядываюсь – что-то там блестит как будто, но глубоко-глубоко. Как же теперь? Домой уезжать? На счастье, мимо проходил дядя Коля – под мухой, как всегда, но веселый. Заглянул в колодец, сообразил, в чем дело, поднял насос, размотал своими черными железными пальцами трос, закрепил опять и опустил насос поглубже. «Делов-то!» – И беззубо улыбается, довольный собой. Позвала его на обед, и вот тогда он у меня рябиновую настойку распробовал и оценил. А сегодня вспомнил о ней. Пьющий человек может забыть все что угодно, но места, где есть чем поживиться, запоминает надолго. Так что пришла моя очередь выручать. Впустила его на веранду, налила настойки – о н чуть не заплакал от благодарности. Опохмелился и повеселел. «Ну я пять минут еще и побегу».
– Да сидите, сейчас кофе сварю. Все равно уже не усну. Испугали до смерти.
– Ну прости, я ж помирал уже, а гляжу, у тебя фонарь горит, прямо надежду дает, дай, думаю, постучу. – И смотрит так виновато-смущенно, взглядом провинившегося ребенка. Я давно заметила, что в ужимках старых алкоголиков проглядывает что-то детское.
– Я на ночь оставляю свет. После Москвы непривычно спать в такой кромешной темноте и тишине.
– Ты меня не бойся. Я не всегда был таким запойным. Я раньше просто выпивал, да и все. Выпью немного, да и все, и сплю, а на утро как огурец. Даже не похмелялся. Это я не от хорошей жизни…
Трагедия случилась у меня. Тебе мою историю никто из соседей не рассказывал?
И он поведал мне свою историю. Печальную и странную.
– Жил я с женой, сын у нас тоже, в Москве давно. Волк он – ну, из этих, которые на мотоциклах гоняют. Весь в черной коже ходит, как чертенок. А как уехал в Москву, так домой только на Новый год холодца поесть приезжает и в баню. А мы с женой поросят разводили, она мясо на рынке продавала, так вот нормально жили, да и все. И вот был у нас Боря – поросенок. Не похож на остальных – х удой, смышленый. Я его очень выделял среди других. Эти только жрут, а он все гулять просился, меня как увидит – весь извивается, хрюкает, как собака. Свободы он хотел, любознательный, страшное дело. Ну я его начал дрессировать – у меня же прадед еще до революции в цирке работал. Мне гены передались. Натаскал Бориса на грибы – стал с ним в лес по грибы ходить. Идем по деревне – тогда все местные еще были, дачников мало. Это теперь только летом живут, а тогда еще полная деревня народу. А мы идем, такие вот орлы, да и все, я впереди, и Борька за мной – длинный такой, худой, избыток сил у него был, иной раз как припустит – вприпрыжку, хвост набок, уши прижмет – ну кино и немцы. Все с нами здороваются, улыбаются. А Манька – соседская девчушка – как увидит Борьку – бросается к нему и давай его мусолить, на руки хватает, целует, не может оторваться. Борька поиграет с ней чуток, извернется, вырвется из рук и опять за мной. А пока он с Манькой заигрывает, я в киоск зайду, бутылочку вина дешевого для меня и чипсы ему. А потом мы прямо в ельник, вон в окно глянь, видишь полосу елей? Там раньше тьма грибов была, пока еще дач столько не было. Лисичек тьма – на поляну хорошую набредешь, а там все рыжее. Заходишь в лес туда – и такая прохлада, такой запах! Идешь по мягким иголкам как по ковру. Маслят полно, только ищи. Да что маслята, Борька и белые на раз находил. Толковый был, шельма, любил я его, да и все, мля…
– Вы, Коля, только без матерщины рассказывайте, я не люблю.
– И правильно. Бесовский язык – м ат. Это мне знакомый поп говорил. Кто много матюгается, того черти с большим удовольствием к себе забирают – л юбят матерщинников. Это им прямо бальзам на душу. Я еще стопочку, можно? И закурю, ладно? Но ты не кури – я вот читал, что в старину при Петре табак народ знаешь как звал – адское зелье! Я когда-то читал много, у меня же прадед в цирке работал, интеллигент был. Так вот, кто много курит, того черти в ад с большим удовольствием забирают. С этим куревом такие расходы, тут на опохмелку не хватает, а еще на папиросы тратиться – и правда ад, а не жизнь. Адское зелье – так и есть. Так вот, про Борю. Стали мы с ним что-то вроде достопримечательности. Соседи всем знакомым нас показывали, как мы по грибы идем. Только вот супруга моя Борю невзлюбила.
– За что?
– Да четь ее знает, ревновала, что ли, да и все. Я же надолго уходил в лес. А у нее то одно, то другое, хозяйство, а меня под рукой нема! Ты, говорит, посмешищем стал с поросём своим, ты, говорит, специально предлог находишь, чтобы уйти из дому и напиться. И даже грибы ее не радовали. Ну я, конечно, бывало, в лесу слегка переберу, засну, а Борька-друг сторожит и меня, и корзину, чуть что – такой визг поднимал, будил. Смышленый, чертяга. Бывало, усну в лесу и приду ночью уже, жена орет: «Помешался на поросе своем! Клоун! Только соседей развлекает своим поросем, а про дом забыл!» Она же в пять утра вставала на рынок занимать место. А если я с похмелья – кто машину поведет? Просила соседа – Игорька по прозвищу Порублю. Он как подрабатывал? Ходил по деревне и рубил головы курям, коров резал. «Порублю курочек, свиночек, уточек – порублю». Я раньше сам наших свиней резал, а вот как Борьку приучил – не могу, да и все. Нож прямо из рук падает. Не могу резать живое… Вот она Игорька и просила резать свиней, разделывать и на рынок ее возить, если я пьяный приходил. И как приедет с рынка – мне скандал. Ты, говорит, никакой, ты это понимаешь? Никакой! Да понимаю я, что никакой, я что же – идиот, что ли. Как ругались мы во дворе, аж свиньи со страху замирали, жрать переставали. И только Борька бегает вокруг, хвост крючком, чему радуется? Не знал он тогда, что его ждет, чертяга. А под Новый год она позвала Порублю и зарезала Борьку. И ничего мне не сказала. К празднику сын приехал, все хорошо было. Я держался, неделю не пил перед тем, баню ремонтировал. Чтобы сын попарился – он любит. И вот сидим за столом, речь президента слушаем, а жена холодец подает, и так хитро на меня поглядывает, и с сыном перемигивается. Тут нехорошо мне стало как-то. Вышел покурить и в свинарник. «Борька, Борька!» – зову его, значит… зову…
Дядя Коля заплакал. Я налила ему остатки рябиновой. Он выпил, успокоился.
– Ну дальше понятное дело – назло им всем нажрался я так, мля, черт, как никогда, я бы сказал. Неделю не просыхал, да и все. Молчал, не говорил с ней, дурой. Ей разве понять, что я его учил, растил. Перед соседями-то как стыдно было – не уберег порося, дурень. А как девчонке, Маньке в глаза смотреть? Она спросит: «Где Боря?» И что я? Сыну говорю: «Как же так?» А он мне: «Ты чего мать обижаешь, пьешь? Нашел себе собутыльника – свинью. Ты еще в свинарник иди пить – совсем уже… Завязывай давай». А я ему: «Борька же личность был, понимаешь? Я его личностью сделал…» А не только жрать… Понимаешь? Просто умный оказался, а это нечасто с ними случается… Мне ли не знать. Я еще при советах на свиноферме навоз чистил. Там с женой и познакомились. Долго мечтали своих поросят завести… Ну да все в прошлом, все прошло, одна водка осталась. Так потом запои мои и пошли… Не хочу рассказывать. Все пропивал, заначки делал, все как полагается. Жена скандалила-скандалила, потом рукой махнула на меня. Сошлась с Игорьком Порублю. Ее можно понять. Я-то никакой давно, а Порублю еще в силе мужик. У них теперь ферма. Она выкармливает скотину, он режет – полная чаша, мля. Прости. В соседней деревне живут, в доме, который я строил. Объединили свои хозяйства. А я ушел сюда вот, к матери моей, она как раз померла тогда. И с тех пор я один. Когда ты спиваешься – в се отворачиваются как от чумы. Все наши знакомые на ее стороне, я во всем виноват. Ну виноват – не спорю. Но порося-то чего рубить? Был у меня один-единственный преданный мне друг. И того съели.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.